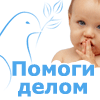Достоевский Ф. М., Письма (1870):
Федор Михайлович Достоевский
Письма (1870)
Аннотация
«Письма» содержат личную переписку Ф. М.Достоевского с друзьями, знакомыми, родственниками за период с 1870 по 1875 годы.
Достоевский Федор Михайлович
Письма (1870)
1870
381. П. А. ИСАЕВУ
10 (22) января 1870. Дрезден
Дрезден 22/10 января/70.
Любезнейший друг мой Паша, посылаю тебе разрешение покончить с Стелловским сроком по 1874 год, как ты пишешь. И вообще кончай с ним скорее. Этот теперешний случай дает мне мысль, что он, пожалуй, еще будет мудрить. Одним словом, он слишком хорошо понимает, что деньги мне нужны и что поэтому меня можно прижать. Ты пишешь о своей уверенности, что устроишь продажу. А я, признаюсь, не уверен. Во всяком случае кончай скорее к 20-му числу, как ты пишешь, и с плеч долой. Об одном прошу - если б дело и разошлось тотчас, уведомь меня. (NB. В контракте поставь хоть и так: "Если к маю не будет переделан роман, то волен он, Стелловский, воспользоваться правом издания до 1874 (1) и т. д.".) А впрочем, как ни поставишь - всё равно.
Ужасно меня удивила свадьба Миши. Верить не хочется. Да что ж ты ничего не пишешь? На ком? Когда именно? И все подробности. Непременно, непременно напиши. Мне Миша дорог. (Напиши, чем живет? Какие средства?) Вообще побольше об них обо всех напиши.
Не понял, кого ты называешь в своем письме теткой?
Передай мой горячий привет сестре Саше и многоуважаемому Николаю Ивановичу. Поцелуй Катю. Всем передай мое и Анны Григорьевны приветствие и поклон. Брату Коле тоже, Феде тоже. На днях буду писать Эмилии Федоровне.
Тебя целую и обнимаю. Жена тоже и Любочка тоже. Визжит и смеется поминутно, полненькая и сытенькая девчонка. И всё хочет, чтоб с ней танцевали.
Передай мое уважение Аполлону Николаевичу.
Вкладываю при сем записочку к Николаю Николаевичу Страхову насчет "Зари", но, во-1-х, с тем, чтоб ты сейчас ему передал, потому что в записке есть и мои дела. Слышишь ли? (NB для тебя: я в редакции у них не много значу; дадут "Зарю" - хорошо, а нет - так и нет.)
Да вот что еще: пишу, а не знаю, как адрессовать тебе. Ты написал адресс и нечеткий, и с ошибками. Теперь во всё время буду беспокоиться, дошло ли это письмо до тебя?
Напиши побольше о семейных обстоятельствах вообще.
Тебя очень любящий
тв<ой> Ф. Достоевский.
Мой адресс тот же.
(1) было: 1876
382. H. H. СТРАХОВУ
10 (22) января 1870. Дрезден
Дрезден 22/10 января/1870.
Любезнейший Николай Николаевич, сделайте одолжение, не рассердитесь, что эти несколько строк Паша передаст Вам незапечатанными. Посылаю в общем конверте и по просьбе Паши, очень пожелавшего получать в этом году "Зарю". Если можно, то устройте ему это получение. Вся возможность факта зависит в этом случае от кредита. За прошлый год я получал "Зарю" в кредит, но за деньги. Кроме того, получил "Войну и мир" (5 частей). Итак, за "Зарю" прошлого года и за "Войну и мир" я должен в редакцию. Очень прошу Вас, Николай Николаевич, сообщите этот расчет для памяти в редакцию "Зари", и так как у меня еще не все счеты с ними кончены, то передайте в редакцию мою просьбу, чтоб деньги за "Зарю" и за "Войну и мир" у меня вычли при окончательном расчете. Таким образом за прошлый год будем квиты.
Теперь: за этот год (1870) я должен тоже получать "Зарю", да Паша просит еще "Зарю" для себя. Итак - можно ли мне это устроить уже на кредит? То есть в этом (1870) году я буду получать уже два экземпляра "Зари", конечно, за деньги, но так, чтоб расчет был уже (1) к концу года. Вот это-то и будет значить в кредит. Если возможно, то очень прошу Вас, способствуйте этому. (2)
Кроме того, на кредит тоже буду просить Вас (3) выслать мне через Базунова 6-ю часть Льва Толстого ("Война и мир"), о которой я читал в газетах. Очень прошу, и если возможно, то не откладывая.
Итак, я буду должен в редакцию за этот, 1870 год за две "Зари" и за 6-ю часть "Войны и мира". Более беспокоить не буду просьбами ни Вас, ни редакцию, а в сумме, которую буду должен (то есть за эти 2 "Зари" и за 6-ю часть), найдем случай сквитаться в конце года так или этак.
Я и не знал, что Вы уже воротились в Петербург. Как Ваше здоровье и много ли намерены работать? Дай Вам бог всякого успеха.
Мне бы очень хотелось Вас видеть; мне всё кажется, что и Вы и все должны были ужасно как измениться за эти три года.
Вам совершенно преданный
Ф. Достоевский
(1) далее было: как и теперь
(2) было: к этому
(3) было: у Вас
383. П. А. ИСАЕВУ
31 января (12 февраля) 1870. Дрезден
Дрезден 31 января/12 февраля/70.
Любезный друг Паша, вот уже три недели как я, по просьбе твоей, отослал тебе письмо с позволением Стелловскому приобретать право издания до 1874 год<а>, а от тебя до сих пор нет никакого ответа, несмотря на то, что ты хотел кончить с ним от 15 до 20 января и писал об этом наверно. Но идет ли дело или расстроилось - мне важнее всего - знать, а стало быть, ты бы должен был меня уведомить во всяком случае. Пойми, что для меня это слишком важно; тут не одна только досада ожидания и неизвестности: придут ли деньги? Самое важнейшее состоит в том, что я мог бы (если б знал наверно) обратиться к другим ресурсам за деньгами; а между тем, всё еще ожидая от Стелловского, - не решаюсь, потому что к каким бы ресурсам ни обращаться, значит предлагать самому свою работу, роман или повесть. Самому же напрашиваться в этих случаях на работу - всегда проиграешь в цене.
Итак, прошу тебя с получением сего письма немедленно уведомить меня в тот же день, двумя строчками, расстроилось ли дело или нет? Я бы желал, Паша, чтоб ты имел этот взгляд, чтоб разом заключить еще заране: кончено ли дело или Стелловский только тянет его на всякий случай, вовсе не желая приступить к покупке романа серьезно? В последнем случае для меня было бы унизительно таскаться за ним, если он шутит и роман приобретать не желает.
Итак, жду ответа немедленно. Сделай одолжение, уведомь поскорее.
Тебя любящий Федор Достоевский.
384. А. Н. МАЙКОВУ
12 (24) февраля 1870. Дрезден
Дрезден 12/24 февраля/1870.
Как мне ни совестно, любезный и многоуважаемый Аполлон Николаевич, Вас беспокоить, но на этот раз обстоятельства решительно заставили меня опять обратиться к Вам. Я в крайнем беспокойстве по одному случаю, а к Вам обращаюсь как к доброму ко мне человеку, и хотя слишком не имею прав на Ваши услуги, но думаю иногда про себя, что, может быть. Вы хоть отчасти тот же самый остались для меня Аполлон Николаевич, принимавший во мне в свое время весьма теплое участие. А ведь я Вам разве что надоел, а особенно большим ничем ведь перед Вами не провинился. А потому простите и на этот раз мою докуку.
Дело мое вот в чем: месяцев около двух тому назад я послал отсюда Паше засвидетельствованную по форме доверенность (может быть, и раньше несколько). Я не помню, но мне кажется почти наверно, что послал ее на Ваше имя, и, стало быть, о существовании этой доверенности в руках Паши Вы, может быть, знаете. (1) Затем всё заглохло, и месяц я не получал никакого ответа. Наконец полтора месяца назад (2) я получил от Паши письмо, в котором он просит меня согласиться на предложение Стелловского увеличить срок льготы Стелловского еще на год. Я тотчас же согласился, и, главное, потому, что в письме своем он положительно (а не в виде только намерений и догадок, как прежде) извещал меня, что дело решено окончательно и что если я потороплюсь выслать мой ответ, то между 15 и 20-м января (наш<его> стиля) оно наверно окончится. Подробностей (3) не разъяснял, "и без того торопился", прибавлял только: "Вы мне верите и потому оставайтесь спокойны".
Я тотчас отослал ему мое согласие; в первый раз он мне писал так утвердительно, так что я даже понадеялся взаправду. И вот с тех пор - ни строки. Наконец ровно 15 дней тому назад я написал к нему с категорическим требованием немедленно меня уведомить, написать мне только две строки, только да или нет. Но до сих пор от него все-таки ни единого слова. Как в воду кануло.
И еще одно обстоятельство: в письме своем, именно в том, в котором просил у меня разрешить продажу на лишний год, то есть в последнем своем письме, он просил меня адрессовать ему ответ на имя сестры моей Александры Михайловны в ее дом (на Петербургской стороне, по Большому проспекту, № 69) и просил об этом, особенно настаивая, упоминая при этом, что у Александры Михайловны он проводит теперь целые дни. (4) Мне было всё равно, и я безо всякого сомнения написал к нему по новому адрессу и даже рад был, что не обеспокою моими деловыми поручениями Вас, хотя и упомянул ему в ответ, чтоб он непременно обратился к Вам, пригласить Вас (по доброму обещанию Вашему), когда придет срок получать с Стелловского деньги.
Теперь эта настойчивость его о новом адрессе мне особенно вспоминается; хотя он ни слова не упоминал о Вас, но не хотелось ли ему избежать Вашего присутствия в этом деле.
Боже избави меня подозревать его в чем-нибудь подлом, да и не верю я в это, но я положительно знаю, что он легкомыслен. Я долго не верил во всё это дело с Стелловским. Наконец решился послать доверенность, уверенный, по крайней мере, в его честности (5) и всё зная, что в крайнем случае он должен же будет обратиться к Вам. Но он легкомыслен: может быть, он завладел этими деньгами с так называемыми невинными целями, - например, пустить в оборот. Я ведь совершенно убежден, что такая мечтающая голова, как у Паши, способна вообразить себе и об теперешних спекуляциях на бирже. Может быть, какой-нибудь приятель выпросил у него деньги на месяц, так что, может быть, он и об сроке-то лишнем писал ко мне, сам уже получив деньги, но желая продлить срок, чтоб я ждал не тревожась и в надежде.
Всё это от Павла Александровича может и могло случиться. Одной только открытой и преднамеренной подлости я в нем ни за что не могу предположить и был бы от этого в горе гораздо более, чем если б я потерял совсем все эти деньги. А между тем я мог и еще больше потерять: со Стелловского, по контракту, я должен буду в этом году получить наверно рублей около 900 за "Преступление и наказание" - и наверно, потому что он об этом несколько раз в газетах публиковал. Могла теперь и эта будущая сумма заехать в настоящий уговор Паши с Стелловским (полномочие контракта широкое), тогда ведь я больших денег лишусь в совокупности-то.
Но может быть и то, что всё это дело с Стелловским у него просто разошлось, а на требования мои уведомить Паша молчит по лености. Мне и самому странно было еще в самом начале, что Стелловский покупает теперь, тогда как совершенно удобно мог бы купить, если ему надо, в конце года, когда он печатать намерен. Что ему за охота выдавать деньги полгода раньше? Теперь же он, будучи от природы бестья, нарочно тянул с Пашей, чтоб узнать, в каком положении его продавец, то есть я, есть ли у меня деньги, чего я ожидаю и проч., и наверно узнал, что через полгода я еще более буду нуждаться, чем теперь. Не Павлу Александровичу с его крючками перехитрить Стелловского.
Теперь вот в чем собственно моя просьба к Вам: потребуйте к себе Пашу, а от него отчет по делу, то есть да или нет, больше ничего. Сверх того потребуйте, чтоб он немедленно передал Вам, в Ваши руки доверенность, которую я ему выслал, и, получив ее, оставьте у себя.
Если Паша в чем-нибудь виноват, то он получит только то, что заслуживает. Если же он не виноват ни в чем, то и я перед ним не виноват нисколько. Я слишком показал ему самую простодушную доверенность, выслав ему отсюда доверенность писаную и засвидетельствованную. Я не виноват, что он, получив эту бумагу, вдруг бросил всё и замолчал, то есть не понял, что, имея такую доверенность в руках, он, из одной уже деликатности к самому себе, должен бы был мне отвечать, тем более что это ему ничего не стоило.
Если он откажется Вам выдать доверенность, то скажите ему, что я тогда принужден поместить публикацию в газетах об уничтожении доверенности, и тогда хуже ему будет.
Доверенность же эту в руках его я не могу оставить. Он будет таскаться с ней по всем лавочкам книгопродавцев, продавая издание, а стало быть, напрасно срамить меня.
Впрочем, если он и передаст доверенность Вам, то этим ничего не объяснится. Если он и заключил какой-нибудь контракт с Стелловским, то так, стало быть, я до времени об этом и не узнаю. Всего бы лучше было, если б можно было, еще до свидания с Пашей, спросить самого Стелловского, то есть имел ли он, Стелловский, какое-нибудь дело по поводу покупки романа "Идиот" Федора Достоевского. По-моему, тотчас же можно бы было узнать всю правду, потому что Стелловский вряд ли имеет какие-нибудь причины скрывать ее. Паша же не может и не имеет права претендовать на эти справки: он сам довел до них, так бесцеремонно, с доверенностью в руках, бросив все дело. Он сам, повторяю, был слишком неделикатен к самому себе.
Не смею просить Вас самого справляться у Стелловского. Но если б Вы это для меня сделали, - никогда бы я не забыл Вашего одолжения.
Две недели тому назад послал к Кашпиреву самую покорнейшую и убедительнейшую просьбу прислать мне остальные деньги за повесть (которая теперь у него непременно набрана вся во второй книжке, и, стало быть, ему очень легко сделать мой расчет). Ни строчки ответа, и, однако, что ему стоит рассчитаться теперь, то есть каких-нибудь две недели раньше, а теперь уж неделю! Ему ничего не стоит, а я просто погибаю. Здесь я теряю весь свой кредит по лавочкам и у хозяев, отсрочивая платежи; хоть я и заплачу через две недели, но кредит прекращается; это мне объявили. За что же? И почему он боится уплатить мне теперь? Я так думал, что он наверно напечатает мою повесть всю, - так и рассчитывал. По газетам я видел, что Лескову, например, он выдавал и по 1500 р. вперед. А как, должно быть, выдавалось Писемскому, а для меня нет, даже тогда, когда я прошу уже не вперед, а своего и пишу такие постыдные просительные письма. Никогда еще со мной этого не было, и никогда я не был в такой нужде, выработав, однако же, в четыре месяца около 1500 р. Я ему пишу еще, но ради бога, скажите ему обо мне, напомните, должно быть, он забыл! Я опять в такой нужде, что хоть повеситься.
Очень бы рад был узнать, пошел ли их журнал, прибавилось ли сколько-нибудь подписчиков? Здесь, в стороне, в глаза бросаются все эти мелкие ошибки издания, которые они ни во что, должно быть, не ставят, смотря свысока на высшие цели, и которые, наверно, у них отняли подписчиков тысячу, если не больше. И не понимают, что сами виноваты! А между тем жалко: "Заря" - журнал с хорошим направлением.
- И что за манеру взяли они публиковать заранее об всякой вещице, которая у них будет напечатана! "В следующей книжке начнется роман "Цыгане"", и это появится раза два, на заглавном листе, заглавными буквами. Журнал, который с самого первого номера, в направлении своем и в критике, стал на самый высокий тон, - тот журнал не может так торжественно извещать об "Цыганах" без того, чтоб "Цыгане" не были произведение, равное по силе "Мертвым душам", "Дворянскому гнезду", "Обломову", "Войне и миру". А между тем роман "Цыгане" хоть и не без достоинств, но вовсе уж не "Мертвые души". Всякий подписчик накидывается на возвещенных "Цыган" с жадностию и говорит потом: "Э, так вот они чему обрадовались, значит, тонко!". Таким образом и журналу вредят, и роману вредят. То же самое и повести госпожи Кобяковой. Ну к чему они выставили все имена и все статьи при публикации за нынешний год? Если б промолчали, то про них думали бы все, что они богаты. Прочтя же перечень возвещенных статей, всякий скажет: "Э, да у них еще только-то!".
Первый № "Зари" за этот год представляет самое серенькое впечатление: полное отсутствие современного, насущного, горячего (у них это всегда), беллетристика ничтожная (даже мою-то повесть разбили на две части). Ваш великолепный перевод не может ведь считаться беллетристикой: это поэма в стихах и в то же время ученая статья, а не беллетристика; такие стихи помещаются для богатства, для щегольства, а надо собственно и беллетристики. Даже и переводный роман дрянь. Даже и критика, хотя и в прежних тоне и силе, но все-таки ведь повторение уже в третий раз или в четвертый прежней идеи. - Декабрьская книжка прошлого года вышла в свет раньше праздников, и что же? Январская за нынешний год выходит 23 января (по газетам). Ну не скажет ли каждый подписчик: "Уж ежели первый номер, в такое горячее, подписное время, не сумели выдать раньше, что же будет с 10-м, 11-м, 12-м номерами?" Я убежден, что все в редакции, с Кашпиревым во главе, считают все эти промахи пустяками, мелочами. Но ведь таких мелочей можно насчитать несколько десятков, и уж наверно они у них лишнюю тысячу подписчиков скрали! И еще при такой могучей конкуренции, как, н<а>прим<ер>, "Вестник Европы", совокупивший у себя всё, что есть блестящего из имен (Тургенева, Гончарова, Костомарова), печатающий каждый номер любопытнейшим и богатейшим образом и повадившийся выходить в первое число каждого месяца! Но в "Заре" думают, должно быть, что всё это пустяки, было бы направление! Да я и не про направление говорю, а про издательское умение. То-то и жалко, что "Вестник Европы" несомненно будет первым журналом. Состоялась ли у "Зари" подписка-то?
После большого промежутка между припадками теперь они принялись меня опять колотить и злят меня особенно тем, что мешают работать. Сел за богатую идею; не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике. Вроде "Преступления и наказания", но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса. Кончу к осени, не спешу и не тороплюсь. Постараюсь, чтоб осенью же и было напечатано, а нет, так всё равно. Денег надеюсь добыть по крайней мере столько же, сколько за "Преступление и наказание", а стало быть, к концу года надежда есть и все дела мои уладить, и в Россию возвратиться. Только уж слишком горячая тема. Никогда я не работал с таким наслаждением и с такою легкостию. Но довольно! Убиваю я Вас моими бесконечными письмами!.. Если можно - скажите Кашпиреву (о присылке денег) и исполните всё насчет Паши, как я просил, - ввек не забуду. Мои Вам кланяются.
Ваш Федор Достоевский.
(1) было: узнаете
(2) далее было: или недель пять
(3) было: Причин
(4) было: далее и что он к Эми<лии>
(5) в подлиннике ошибочно: честность
385. H. H. СТРАХОВУ
26 февраля (10 марта) 1870. Дрезден
Дрезден 26 февр<аля /10 март<а> 1870.
Спешу поблагодарить Вас, многоуважаемый Николай Николаевич, за память и за письмо. На чужбине письма от прежних добрых знакомых дороги. Вон Майков так совсем, кажется, перестал мне писать. С жадностию прочел тоже Ваши несколько строк одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и приятно; читателям, как Вы, я бы и всегда желал угодить, или лучше - только им-то и желаю угодить. Кашпирев тоже доволен - в двух письмах упомянул. Очень рад всему этому и особенно рад тому, что Вы пишете о "Заре": если она стала твердо, то и славно. По направлению я совершенно ей принадлежу, а стало быть, ее успех всё равно что свой успех. Мне она отчего-то "Время" напоминает - время "нашей юности", Николай Николаевич! - А впрочем, хотите, скажу откровенно: я несколько боялся за успех подписки. За успех журнала не боялся; рано ли, поздно ли журнал приобрел бы наконец подписчиков; но за нынешнюю подписку несколько опасался. Мне всё казалось здесь, что журнал мог бы издаваться и поаккуратнее и даже посамоувереннее. Но я ошибся, и это славно. 2500 подписчиков тем славно, что обозначают установившийся журнал. Разумеется, 3500 подписчиков было бы не в пример лучше. И не понимаю решительно, почему их нет у журнала с таким необходимейшим направлением и при таких статьях, какие являлись (1) в прошлом году? Совершенно убежден, что эти тысяча неявившихся подписчиков уже были и стучались в двери редакции, но только так как-то проскользнули у ней между пальцев. И все-то, может быть, зависело от таких мелочей, - от какой-нибудь ловкости, юркости издательской! Все эти мелочи так важны в издательском деле. Слишком понимаю, что вмешиваюсь теперь не в свое дело, но посудите: по газетному объявлению февральский № "Зари" вышел 16 февр<аля> и вот уже 26 февраля, а я еще не получал! Допустить не могу, чтобы контора редакции делала это только со мной (почему же с одним со мной?) А стало быть, ясно для меня, что страдают так и другие иногородние. Верите ли, сегодня ушел с почты скрежеща зубами, - до того мне хочется наконец прочесть книжку. Здесь каждое получение "Зари" для меня праздник, именины. Думал даже телеграфировать сегодня в редакцию. (Кто знает, может быть, действительно забыли послать мне; справьтесь ради бога, прошу Вас). Бесспорно, всё это мелочи. Но если этих мелочей наберется несколько, то вовсе немудрено, что целая тысяча подписчиков ускользнет.
Я, по получении первого номера "Зари", написал Майкову. что книга не произвела на меня сильного впечатления. Ужасно мало показалось мне беллетристики. Одна моя повесть. Вы ее хвалите, но ведь не бог знает же она что, чтоб ею одной обойтись, да еще вдобавок не повесть, а полповести, 5 листочков. (Слово Майкова - стихи, а не беллетристика). Ваша же статья хоть и превосходна, но все-таки на старую тему (я не с моей точки зрения говорю, а с точки зрения подписчиков). Кстати, кто это Вам сказал, что статья Ваша о Тургеневе лучше, чем о Толстом? Статья о Тургеневе прекрасная и ясная статья, но в статьях о Толстом Вы поставили, так сказать, Вашу (2) основную точку, с которой и намерены продолжать Вашу деятельность - вот как я смотрю на это. И если позволите сказать - я буквально со всем согласен теперь (прежде не был) и из всех, нескольких тысяч строк этих статей, - я отрицаю всего только две строки, не более не менее, с которыми положительно не могу согласиться. Но об этом после! Важно то, что все-таки журнал основался - а стало быть, и слава богу!
Кстати, что это Вы пишете про свое здоровье: всё скриплю? Разве Вы больны чем-нибудь постоянным? В первый раз это слышу от Вас. Мое же здоровье - так себе. Вы знаете - припадки, а остальное всё хорошо.
Вы пишете мне: "Не поможете ли?" - то есть насчет участия в "Заре". На этот счет объяснюсь с Вами, многоуважаемый Николай Николаевич, совершенно прямо и откровенно: участвовать в "Заре" я желаю всей душой и всем сердцем, да и "Заре" желаю не только от сердца, но и по самым дорогим мне убеждениям самого блистательного успеха. Но чтоб я мог приготовить что-нибудь поаккуратнее для "Зари", нужно, чтоб и "Заря" помогла мне вперед. Может ли она сделать это для меня? В этом и весь вопрос.
Этот разговор о деньгах вперед не каприз, не заносчивость и не ломанье самонадеянное с моей стороны, и это тем более, что не меня просят, а я сам себя предлагаю, потому что Ваше приглашение помочь не могу счесть за формальное предложение. Считаю излишним и скучным распространяться о моих денежных обстоятельствах, но вся суть Вам будет слишком понятна из двух слов: я всю жизнь работал из-за денег и всю жизнь нуждался ежеминутно; теперь же более, чем когда-нибудь. К весне должен непременно достать денег; за работу же мою мне всю жизнь и все давали вперед и помногу, даже и иначе никогда не бывало. Да иначе и не может быть, ибо у меня никогда не случается зараз значительной суммы, с которою я бы мог выдержать несколько месяцев и уже потом, выдержав, продавать роман готовый, как делают наши старшие литераторы.
Но при этом скажу Вам прямо, что я никогда не выдумывал сюжета из-за денег, из-за принятой на себя обязанности к сроку написать. Я всегда обязывался и запродавался, когда уже имел в голове тему, которую действительно хотел писать и считал нужным написать. Такую тему имею и теперь. Распространяться об ней не буду, но вот что скажу: редко являлось у меня что-нибудь новее, полнее и оригинальнее. Я могу так говорить, не будучи обвинен в тщеславии, потому что говорю еще только про тему, про воплотившуюся в голове мысль, а не про исполнение. Исполнение же зависит от бога; могу и испакостить, что часто со мною случалось, но что-то мне говорит внутри меня, что вдохновение не оставит меня. Но за новость мысли и за оригинальность приема ручаюсь и покамест смотрю на мысль с восторгом. Это будет роман в двух частях - не менее 12, но и не более 15 листов (так я думаю). По крайней мере, никак не более. Доставлен может быть в редакцию к 1-му декабря нынешнего (1870) года наверно. Я хочу обеспечиться временем, чтоб написать порядочно. (NB. Он бы мог быть доставлен и к 1-му ноября, но, признаюсь, мне глубоко не желалось бы напечатать вторую большую повесть в одном и том же журнале, в одном и том же году. Не лучше ли, как и теперь, в январе и феврале будущего года? Впрочем, иначе, кажется, и не могло бы быть.)
Вот всё, что я могу выставить с моей стороны. Со стороны же редакции вот чего прошу: тысячу рублей вперед в такой форме: пятьсот рублей через месяц от сего числа и остальные пятьсот, пожалуй, хоть вразбивку, начиная через месяц по выдаче первых пятисот рублей, ежемесячно по сту, и так в продолжение пяти месяцев. Всё дело и главное в том, чтоб доставки были аккуратны. Первые же 500 руб. непременно через месяц и непременно разом.
Если Вы, многоуважаемый Николай Николаевич, найдете сами, на свой собственный взгляд, это предложение мое возможным и исполнимым, то сообщите Василию Владимировичу, и затем как он решит. В случае его согласия дайте мне знать, чтоб уж мне не рассчитывать понапрасну и чтоб я мог распорядиться на весь этот год моим временем и трудом окончательно.
Прибавлю еще, что с моей стороны такое предложение не считаю ни чрезмерным и ни задорным, во-1-х, потому, что я десятки раз делал подобные и даже несравненно значительнейшие предложения, которые все почти были приняты; надеюсь, что и теперь всё еще сохранил некоторый кредит; во-2-х же, журнал "Заря", как я из газет знаю, выдавал же и по 1500 руб. вперед прошлого года. Во всяком случае, я с моим полным удовольствием и работать буду с жаром; а затем как решит издатель.
Еще прибавлю, что я всегда, во всю мою литературную жизнь исполнял точнейшим образом мои литературные обязательства и ни разу не манкировал; сверх того ни разу не писал собственно из-за одних денег, чтоб отделаться от принятого на себя обязательства. Если портил, то портил от чистого сердца, а не злоумышленно.
Сверх того обязуюсь, вплоть до доставки рукописи, уже не беспокоить редакцию просьбами о иных вспоможениях деньгами, кроме этих тысячи рублей. И наконец, обязуюсь не умереть в этом году.
Итак, жду Вашего ответа и, кроме всего этого, имею до Вас величайшую и неотступнейшую просьбу: если возможно, вышлите мне, на будущий кредит (так же, как Вы высылали мне "Войну и мир"), книжку Станкевича о Грановском. Окажете мне этим огромную услугу, которую век буду помнить. Книжонка эта нужна мне как воздух и как можно скорее, как материал необходимейший для моего сочинения, - материал, без которого я ни за что не могу обойтись. Не забудьте же, ради Христа, если только найдете возможным выслать.
Анна Григорьевна Вам кланяется и сердечно Вас вспоминает. Мы теперь возимся с нашей Любочкой. Ах, зачем Вы не женаты и зачем у Вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь Вас, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть.
Неужели и сегодня не получу "Зарю"! Точу зубы на Вашу статью. Женский вопрос - этакая тема! Жду огромного наслаждения. Именно Вы можете написать об этом так, как надо! Я всегда с Ваших статей разрезаю книгу и не для комплимента это говорю.
А знаете ли, очень может быть, что в нынешнем году свидимся.
Вам душевно преданный Федор Достоевский.
(1) было: бывали
(2) далее было: точку
386. H. H. СТРАХОВУ
24 марта (5 апреля) 1870. Дрезден
Дрезден 24 марта/5 апреля 1870.
Спешу ответить Вам, многоуважаемый Николай Николаевич, и прежде всего о себе. Скажу Вам откровенно и окончательно, что, рассчитав всё, я никак не могу и не смею обещать роман для осенних книжек. Мне кажется, что это положительно невозможно; да и редакцию я бы просил не стеснять меня в работе, которую я хочу сделать начисто, со всем старанием, - так, как делают те господа (то есть великие). За одно я отвечаю, что к январю будущего года поспею. Мне эта работа моя дороже всего. Это одна из самых дорогих мыслей моих, и мне хочется сделать очень хорошо. Теперь же, в настоящее время, я работаю одну вещь в "Русский вестник", кончу скоро. Я туда еще остался значительно должен. Если б, имея теперь крайнюю нужду, я обратился теперь, описав всё, к Каткову, то ясное дело, что и будущая работа моя должна принадлежать ему. Я откровенно Вам всё объясняю. (На вещь, которую я теперь пишу в "Русский вестник", я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; (1) хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех. Впрочем, кто же может садиться писать, не надеясь на успех?)
Теперь повторю Вам, что говорил еще прежде: я всегда всю жизнь работал тем, кто давали мне вперед деньги. Так оно всегда случалось и иначе никогда не было. Это худо для меня с экономической точки зрения, но что же делать! Зато я, получая деньги вперед, всегда продавал уже нечто имеющееся, то есть продавался только тогда, когда поэтическая идея уже родилась и по возможности созрела. Я не брал денег вперед на пустое место, то есть надеясь к данному сроку выдумать и сочинить роман. Я думаю, тут есть разница. Теперь же я и в работе хочу быть спокоен. Я в "Русский вестник" кончу скоро и за роман сяду с наслаждением. Идея этого романа существует во мне уже три года, но прежде я боялся сесть за него за границей, я хотел для этого быть в России. Но за три года созрело много, весь план романа, и думаю, что за первый отдел его (то есть тот, который назначаю в "Зарю") могу сесть и здесь, ибо действие начинается много лет назад. Не беспокойтесь о том, что я говорю о "первом отделе". Вся (2) идея потребует большого размера объемом, по крайней мере такого же, как роман Толстого. (3) Но это будет составлять пять отдельных романов, и до того отдельных, что некоторые из них (кроме двух средних) могут появляться даже в разных журналах, как совсем отдельные повести, или быть изданы отдельно как совершенно законченные вещи. Общее название, впрочем, будет: "Житие великого грешника", при особом названии отдела. Каждый отдел (то есть роман) будет не более 15 листов. Для второго романа я уже должен быть в России; действие во втором романе будет происходить в монастыре, и хотя я знаю русский монастырь превосходно, но все-таки хочу быть в России. Я ужасно бы хотел поговорить с Вами подробнее; но что же выскажешь на письме? Скажу еще раз: мне невозможно обещать для нынешнего года; не торопите меня и получите вещь совестливую, а может быть, и хорошую. (По крайней мере, из этой идеи я сделал цель всей моей будущей литературной карьеры, ибо нечего рассчитывать жить и писать далее, как лет 6 или 7.) Пусть "Заря" не обижается тем, что дает деньги за девять месяцев раньше: я и за два года вперед иногда получал. Ведь не посеешь - не пожнешь, а Вы знаете, Николай Николаевич, в точности, что это я не из (4) задора говорю, а потому, что так всегда у меня складывались обстоятельства. Да и деньги-то ведь не большие в сущности. Если же я обращусь к другим, то и труд мой, естественно, должен принадлежать другим. Литератор я был всегда честный. "Заре" же желал бы и сам служить, ибо направление мне по душе. Вот всё о моем этом деле. Об одном прошу серьезно, Николай Николаевич,- если дело это возможно, то уведомьте меня, как старый добрый приятель и сотрудник, поскорее. Мои нужды до того растут, что мне нельзя терять времени; так чтобы знать уж наверно. У меня на руках жена и ребенок, да, кроме того, нужно спокойствие и обеспечение. Пусть Кашпирев решится на что-нибудь, на да или нет; по крайней мере, чтобы знать, ибо время мне дорого. В этом случае и нет будет выгоднее оттягивающегося да, ибо время не потеряю.
Мартовскую книжку "Зари" прочел с великим удовольствием. С нетерпением жду продолжения Вашей статьи, чтобы всё понять в ней. Я предчувствую, что Вы, главное, хотите представить Г<ерцена> как западника и поговорить об Западе, в противоположении с Россией, так ли? Вы чрезвычайно удачно поставили главную точку Г<ерцена> - пессимизм. Но признаете ли Вы действительно сомнения его ("Кто виноват", "Крупов" и т. д.) неразрешимыми? Вы это, кажется, обходите н, кажется мне, для того, чтоб высказать специально Вашу главную мысль. Во всяком случае с страшным нетерпением жду продолжения статьи; тема слишком задирающая и современная. И каково же это будет, когда Вы докажете, что Г<ерцен> раньше многих других сказал, что Запад гниет? Что скажут западники времен Грановского? Не знаю, то ли будет у Вас, я только предугадываю. Кстати (хотя это и не входит в тему Вашей статьи), но не правда ли, что есть и еще одна точка в определении и постановке главной сущности всей деятельности Г<ерцена> - именно та, что он был, всегда и везде, - поэт по преимуществу. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор - поэт, политический деятель - поэт, социалист - поэт, философ - в высшей степени поэт! Это свойство его натуры, мне кажется, много объяснить может в его деятельности, даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит).
Женский вопрос (в феврале), по-моему, изложен у Вас превосходно. Но отвечаю на Ваш вопрос - почему я нашел в "Заре" недостаток самоуверенности? Я, может быть, неточно выразился, но вот что: Вы слишком, слишком мягки. Для них надо писать с плетью в руке. Во многих случаях Вы для них слишком умны. Если б Вы на них поазартнее и погрубее нападали - было бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети. В статьях о Толстом Вы как бы умоляете их согласиться с Вами, а в последних статьях о Толстом Вы впадаете в какое-то уныние и разочарование, тогда как, по-моему, тон должен быть торжественный и радостный до дерзости: ну что Вы думаете - понимают они в самом деле тонкий, блестящий юмор Ваш в письмах Косицы? Когда я здесь читал об г-же Конради, подражающей Писареву, или об том, где Вы просите Вашего корреспондента, после того как Вы, к своему удивлению, чувствуете, что не можете считать себя ни дураком, ни подлецом, - и тотчас же оговариваетесь, как бы в страхе: "Я вас прошу понять меня как следует", то я здесь хохотал, а неужели Вы думаете, что такой тон им понятен? Одним словом: Вам подобным тоном не писать - невозможно; ибо это серьезность, любовь и почтительность к делу; есть теперь тон журнала, и этот тон высок, что и прекрасно и составляет сущность "Зари"; но иногда, по-моему, надо понижать тон, брать плеть в руки и (5) не защищаться, а самим нападать, гораздо погрубее. Вот что я разумел под самоуверенностью. Впрочем, может быть, я сужу ошибочно - из азарта.
Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это - когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов - гении. Явиться с Арапом Петра Великого и с Белкиным - значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с "Войной и миром" - значит явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением, нового слова. По-моему, это очень важно. Впрочем, я не могу всего высказать в нескольких строках.
Неужели Милюков уже до такого предела доходит? Что он делает вообще теперь?
Извините, Чаева роман "Подспудные силы" мне очень понравился: очень поэтично и написано покамест хорошо. А зачем же Вы его упустили? "Свекровь" - строже как произведение, но ведь это не роман, и сверх того стихи. (Я то есть сужу с площадной точки зрения - необходимой, говоря о подписчиках.)
Анна Григорьевна Вам сердечно кланяется. Ах, кабы поскорее домой, Николай Николаевич, поскорее бы!
Весь Ваш Ф. Достоевский.
Р. S. Повторяю, жду от Вас, как от доброго старого приятеля, извещения меня поскорее. Да и деньги ух как нужны; хорошо, если б Кашпирев не оттягивал присылку, если скажет да.
Всё забываю спросить: неужели книга Данилевского "Европа и Россия" не появится отдельно? Да как же это можно? Ради бога, не забудьте об этом уведомить.
(1) было начато: мы<сли?>
(2) было: Эта
(3) вместо: роман Толстого было начато: "Вой<на и мир>"
(4) было: из-за
(5) далее было: не ждать
387. А. Н. МАЙКОВУ
25 марта (6 апреля) 1870. Дрезден
Дрезден 25 марта/6 апреля /1870.
Виноват, многоуважаемый и добрейший Аполлон Николаевич, что до сих пор промедлил ответом, когда каждый день рвался писать к Вам. Но, во-первых, работа, а во-вторых, здоровье и мнительность, возродившаяся в уединении, мнительность о здоровье, и я очень тосковал. Сердце неправильно очень стучало, и спать не могу. Пошел, однако ж, к доктору, из знаменитых профессоров, осмотрел меня всего - "решительно ничего, одни нервы. Но нервы сильно расстроены". На лето надо бы куда-нибудь переехать из Дрездена, хорошо бы на море, покупаться. Хорошо бы и для жены. Бесспорно, лучше всего воздух родины, и всё, что Вы писали об этом в Вашем письме, - золотая правда, правда из правд. Но, Аполлон Николаевич, разве Вы не знаете, почему я не возвращаюсь и не могу бросить этой проклятой заграницы? Каково приехать и прямо поступить в долговое отделение? До некоторой поры мне никак невозможно возвращение, и неужели Вы думаете, что я сам не тоскую и не стремлюсь душою в Россию? А жена как тоскует; разве мне весело смотреть на ее тоску? Мало того: я положительно знаю, по фактам, что дела мои в экономическом отношении пошли бы втрое лучше, чем здесь идут. На этот счет хочу Вам высказаться окончательно: клянусь Вам, дорогой друг, что я бы не посмотрел на то, что меня непременно в долговое посадят, - то ли я видывал в своей жизни? Отсидел бы год и выкупился бы. Но я знаю, что если прежде (еще лет пять назад) это было возможно, то теперь, - знаю наверно, решительно невозможно. С моим здоровьем я не вынесу и полугода в заключении публичном, а главное, ничего не сработаю. А писать - тем куча. Про здешнее же писание Вы говорите золотые слова; действительно, я отстану - не от века, не от знания, что у нас делается (я наверно гораздо лучше Вашего это знаю, ибо ежедневно (!) прочитываю три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала), - но от живой струи жизни отстану; не от идеи, а от плоти ее, - а это ух как влияет на работу художественную! Всё это правда, но - как мне быть? Войти в соглашение с кредиторами, упросить, чтобы дали год сроку и тогда всё уплачу? Да согласятся ли? Если уплатить половину, то, может быть, и дали бы год сроку. Я об этом думаю день и ночь. Даже если б 30% уплатить, то, может быть, согласились бы! Но с ними и в сношения трудно войти теперь; бог знает, все ли еще в Петербурге? А надобно; иначе средства нет. Всех долгов опасных, то есть вексельных, я думаю, теперь 4000 руб. Следственно, две тысячи на уплату да 1000 на подъем отсюда и на первый приезд в Петербург - вот, стало быть, 3000 необходимы. Где это взять? Но верьте мне, если б я тогда не выехал из Петербурга, то в два бы года всё уплатил совершенно. Но ведь я и выехал потому, что Печаткин подал ко взысканию, об чем я услышал заране. Каково бы мне тогда, только что женившись, засесть в тюрьму? Я этого не снес и поехал, - ну вот и всё.
Впрочем, об этом буду сильно думать летом, когда что-нибудь окажется. Теперь я работаю в "Русский вестник". Я там задолжал и, отдав "Вечного мужа" в "Зарю", поставил себя там, в "Р<усском> в<естни>ке", в двусмысленное положение. Во что бы то ни было надо туда кончить то, что теперь пишу. Да и обещано мною им твердо, а в литературе я человек честный. То, что пишу, - вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь. И знаете, в какой я смуте? - решительно не могу решить: будет успех или нет? То мне кажется, что чрезвычайно удачно выйдет и я деньги на 2-м издании хвачу, то кажется, что совсем не удастся. Но лучше пусть совсем провалюсь, чем успех середка на половине. Вы меня огрели дубиной по лбу Вашей заметкой об "усилиях воображения", подмеченных Вами в "Вечном муже". Сколько мне это тоски стоило; но, однако же, как бог даст. Не надеясь на успех, нельзя с жаром работать. А я с жаром работаю. Стало быть, надеюсь.
Но я еще не поблагодарил Вас за Ваше доброе участие и за хождение к мерзавцу Стелловскому и прочее. Вы и не подозреваете, сколько Вы для меня этим сделали. Вы мне мир души возвратили и рану залечили. Я Вам (и только Вам) признаюсь во всем окончательно: я уж думал, что Паша обманул меня! Как я страдал, как я молился за него, и наконец-то Ваше письмо рассеяло все сомнения мои: это только ветреный мальчик, но добрый и честный. Повторяю Вы рану в моей душе залечили. А с Стелловским - черт с ним! Да я отчасти и рад, - можете себе представить! До того тяжело иметь дело с этим мерзавцем!
А между тем я положительно в ужасном теперь состоянии (мистер Микобер). Денег нет ни копейки, а надо просуществовать до осени, когда у меня будут деньги. Просить в "Русском в<естни>ке" почти невозможно; во-первых - ну как откажут, а во-вторых - это будет безмерно забираться у них вперед. От них я наверно получу, но только осенью; зато получу значительно. Что я Вам пишу теперь, то знаю наверно. Но до осени совсем нечем жить будет. Вы думаете, я здесь трачу, роскошествую. Верите ли, что я с самого переезда в Дрезден, 8 месяцев, жил одним "Вечным мужем", почти 100 талеров в месяц, а тут и родИны, и самый необходимый ремонт, и жить недешево - так что в конце концов задолжал, и до сих пор есть долги.
H. H. Страхов месяц назад приглашал меня положительно к дальнейшему участию в "Заре". Я ответил ему предложить Кашпиреву мой роман к будущему году, но с тем, чтоб 500 руб. теперь и по сту рублей ежемесячно (1) в продолжение пяти месяцев, так что выйдет всего 1000 руб. По-моему, немного; давал же Кашпирев и по полторы тысячи вперед за год Стебницкому. (Да и журнала издавать нельзя, не выдавая вперед, иначе всех писателей упустишь.) Николай Николаевич ответил, что Кашпирев согласен, что деньги пришлют в апреле, но чтоб я доставил мою вещь в нынешнем году на осенние месяцы. Я отвечал, что в нынешнем году мне положительно невозможно. Кашпирев еще, впрочем, мне ничего не писал сам. Жду последнего от них ответа. Согласитесь сами, что если я заберусь в "Русском вестнике" еще, то и работа моя будущая будет надолго принадлежать "Русскому вестнику". То, что я пишу теперь в "Р<усский> в<естни>к", я кончу месяца через три наверно. Тогда, погуляв месяц, сел бы за работу в "Зарю". Я теперь года полтора сряду не работал, и меня томит писать ("Вечного мужа" не считаю). Над тем, что пишу в "Р<усский> в<естни>к", я не очень устану; зато в "Зарю" я обещаю вещь хорошую и хочу сделать хорошо. Эта вещь в "Зарю" уже два года как зреет в моей голове. Это та самая идея, об которой я Вам уже писал. Это будет мой последний роман. (2) Объемом в "Войну и мир", и идею Вы бы похвалили сколько я, по крайней мере, соображаюсь, с нашими прежними разговорами с Вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву: тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: "Житие великого грешника", но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведется во всех частях, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, (3) - существование божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист: 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не всё писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на спокое.) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (4) (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и всё лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, - очень и могло бы быть, что за это его (5) на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное - Тихон и мальчик. Ради бога, не передавайте никому содержания этой 2-й части. Я никогда вперед не рассказываю никому моих тем, стыдно как-то. А Вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в "Обломове"*, и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, (6) если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2-го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось! Первая же повесть - детство героя: разумеется, не дети на сцене; роман есть. И вот, благо я могу написать это за границей, предлагаю "Заре". Неужто откажут? Да и 1000 руб. - не бог знает какие деньги. Как хотят; этaк (7) действуя, всё и всех упустят. Впрочем, их дело. Я вчера писал Страхову и попросил поскорее последнего решения. Иначе мне надо же что-нибудь предпринять, не теряя времени; обратиться в "Р<усски>й в<естни>к" - тоже время пройдет, - так уж, по крайней мере, не задерживали бы меня ответом из "Зари". (Весь-то роман, я думаю, я буду лет шесть писать.) Если можете сказать словцо в мою пользу в "Заре", то скажите, голубчик. Ибо страшно тяжело в "Р<усски>й в<естни>к" обращаться в эту минуту; через три месяца дело иное. Да и самому мне бы хотелось работать в "Заре". Направление то, которое я наиболее разделяю, кроме кой-чего, разумеется. Впрочем, как хотят. Бедность-то моя меня съела, а то стал бы я лезть сам с предложениями. И заметьте, только что свяжусь с журналом, сейчас торопят сроком, сейчас бы им к самому раннему сроку! Да я лучше умру, чем теперь себя стесню. Один "Русский в<естни>к" меня не стеснял. Благороднейшие люди!
Кстати, дорогой Аполлон Николаевич, откуда могла к Вам зайти идея о Яновском? И в мысли не было у меня, ни разу, ни одного мгновения! Я так удивился, прочтя у Вас. Да и истории Яновского, в этом отношении, я совсем не знаю. Разве у него было что-нибудь подобное?
Про нигилизм говорить нечего. Подождите, пока совсем перегниет этот верхний слой, оторвавшийся от почвы России. Знаете ли: мне приходит в голову, что многие из этих же самых подлецов-юношей, гниющих юношей, кончат тем, что станут настоящими, твердыми почвенниками, чисто русскими. Ну, а остальные пусть сгниют. Кончится тем, что и они замолчат, в параличе. А мерзавцы, однако же!
Анне Григорьевне слишком лестно мнение Анны Ивановны. Знаете ли, она у меня самолюбива и горда. Но если б Вы знали, как я с ней счастлив. Одно несчастие - не можем покамест возвратиться. Но ведь воротимся же, может быть! - Люба делает зубки и мучается. Здоровый ребенок; вы бы подивились. Но если б не Анна Николавна, мать Анны Григорьевны, то умерла бы и Люба. Пропали бы мы без нее.
Эх, о многом хотел бы я Вас порасспросить, но - до свидания, однако же. Не забывайте меня совсем и не оставляйте, а я Ваш, Вы знаете, всегдашний и неизменный
Федор Достоевский.
Аня Вам и Анне Ивановне кланяется. Я тоже свидетельствую мое глубокое уважение Анне Ивановне и благодарность сердечную за отзыв об Ане. (8)
Кстати: Кашпирев, выслав мне, месяц назад, 400 руб., прибавил, что будет еще остаточек, примерно от 50 до 100 руб. Но до сих пор не высылает. Если этот остаточек есть, то намекните ему, ради Христа, дорогой Аполлон Николаевич, чтоб выслал. Для меня 50 руб. слишком, слишком дороги.
Нравятся ли Вам критики Страхова? Я высоко ставлю.
* Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лавровский <описка следует: Лаврецкий>, не Чичиков, не Рахметов и проч.
(1) вместо: по сту рублей ежемесячно - было: 500 руб. ежеме<сячно>
(2) далее было начато: Зато
(3) далее было: это
(4) далее было: не беспокойтесь
(5) в подлиннике ошибочно: я
(6) было: считаю
(7) было: так
(8) далее было: Хоть я
388. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
17 (29) апреля 1870. Гомбург
Гомбург 29/17 апрель/1870 11 часов утра.
Бесценная моя Аня, сейчас только что приехал на место, еще не ел и не умывался, и рука дрожит: устал и измучился ужасно, а ночью ничего не заснул. Холод до того здесь сильный (хотя солнце светит и ярко), что я очнуться не могу от изумления. Ночью в вагоне (мы были набиты, с Лейпцига, как сельди в бочонке) все закоченели и не знали что делать. Вообрази себе, к утру, на зеленых полях, появился снежный иней, и все поля, дороги, леса и дома были как в густом слое снега до самых семи часов. Здесь первым делом велел протопить, Впрочем, кажется, я нисколько не простудился. Солнце ужасное, а на дворе ровно +2 градуса Реомюра. Сейчас мне сказали, что на прошлой неделе было с лишком двадцать градусов тепла. Hфtel, в котором я остановился, называется Hфtel du Parc, и близ самого вокзала. Кажется, плохенький; меня привел Dienstmann. Неряшество и комната довольно мизерная, а между тем 1 1/2 флорина. Номер я занимаю десятый. Ну вот и всё, друг мой, покамест обо мне. Немножко голова кружится, и очень грустно. Умоюсь, поем, оденусь и пойду в вокзал. Проходя мимо, слышал в нем концерт; кажется, есть публика.
Теперь об тебе, голубчик милый: напиши мне, без утайки, все подробности, до тебя касающиеся. Главное, здорова ли? Не простудилась ли? Ибо полагаю, что и у вас такой же холод. Нет ли новостей? Об Любе напиши, голубчик, подробно. Поцелуй ее за меня и передай ей мое глубочайшее почтение. Как будешь целовать ее, то целуй по два раза - один раз за себя, а второй за меня. Как вы разместились в комнатах? Спит ли мамаша в твоей? По такому холоду надо бы топить. - Я забыл тебе сказать, Аня, чтоб ты на почту ходила за моими письмами скорее позже, чем раньше, ибо я могу послать письмо и вечером, а оно придет, пожалуй, поздно. Впрочем, от 4-х бы до 5-ти - вот как.
Не взыщи, ангел мой бесценный, что пишу кратко: говорю, так устал, что едва перо не валится. Может быть, я из этого отеля перееду - очень уж скверен кажется. Что-то напишу я тебе завтра, бесценная моя, насчет успеха? Невыгодно приезжать с расстроенными нервами. А впрочем, что будет, то будет; я решился крепиться.
Целую тебя 1000 раз (на первый случай), Любу тоже. Не знаю, поклонишься ли от меня мамаше и Ив<ану> Гр<игорьеви>чу. Если не найдешь неудобным, то поклонись. Не оставляй конверта и письма на виду, чтоб не догадались откудова.
Много бы написал тебе, если б не был так разбит. В дороге не всё один холод был; были и смешные вещи. С Эйзенаха (на рассвете) начиная, виды изумительно хороши! Какая зелень!
Не пиши мне, Аня, в Hфtel, a пиши poste restante. Это лучше.
Крепко, крепко обнимаю тебя и целую, твой любящий тебя всем сердцем муж Федя.
Ф. Достоевский.
Перекрести Любу на ночь и поцелуй за меня.
389. В. М. и С. А. ИВАНОВЫМ
7 (19) мая 1870. Дрезден
Дрезден, 7/19 мая/1870.
Милые друзья мои Сонечка и Верочка, слишком долго уж я не писал вам. Происходило всё не от лености, а от разных накопившихся тревог и вообще неприятного душевного моего настроения. Теперь не знаю даже, как вам и адрессовать: на московскую квартиру вашу боюсь, предполагая, что вы уже в Даровом, а если в Даровое, то опять колеблюсь, не зная наверно, там ли вы, и опасаясь, что залежится письмо. Решаюсь, впрочем, адрессовать в Москву, думая, что если вы и выехали, то сделали же какое-нибудь распоряжение, чтобы могущие прийти письма пересылались вам в деревню. Но более всего надеюсь на то, что кто-нибудь из вас, например Сонечка, покамест осталась в Москве. Во всяком случае, если сейчас не получу от вас на письмо мое ответа, то напишу вам (1) и в Даровое. А вас (2) прошу что-нибудь мне ответить, чтоб мне не сомневаться и не думать о пропаже письма. Да и очень уж хочется получить от вас какую-нибудь весточку.
Об нас вообще скажу, что мы живем всё еще в Дрездене и, покамест, слава богу. Люба - милый и довольно здоровый ребенок; мы за ней ходим со страхом, раз уже потеряв ребенка. Аня ее кормит, и, кажется, ей с каждым днем это не под силу. Она очень ослабела, очень похудела и притом тоскует по России. Я тоже в этой же тоске, и вот в этом-то и заключаются все мои волнения и беспокойства. Дела мои в самом худом положении. Положим, еще есть на что существовать (хотя и слишком уж небогато), но о переезде в Россию трудно даже и мечтать, а, между прочим, возвращение в Россию необходимо до последней степени, до того, что оставаться здесь долее становится полною невозможностию. Чтоб подняться отсюда в Петербург, надо, во-первых, сделать это никак не позже октября; позже невозможно будет, по холоду, не рискуя простудить (3) Любу. Во-вторых, чтоб подняться только отсюда, надо, на расплату с здешними одними долгами, не менее трехсот рублей, потом проезд весьма длинный нескольким лицам, потом первое, хоть какое-нибудь, устройство в Петербурге - всё это уже составляет чрезвычайно значительную сумму разом. А между тем это еще почти ничего, главное кредиторы. Им, с процентами, накопилось до 6000 р. Менее одной трети, то есть 2000 руб., им нельзя предложить, с тем чтоб в остальном они подождали хоть год. Да и тут, то есть предложив (4) даже треть, трудно ожидать от них соглашения еще подождать. Они раздражены и наверно накинутся на меня безжалостно с горечью, с желанием наказать, отомстить. Рассчитайте же сами, какую сумму надо мне иметь, чтоб воротиться и хоть чуть-чуть устроить дела: три - четыре тысячи. Где их взять? Самое главное, на что я могу рассчитывать, - это мои работы. Уезжая три года назад, я тоже на это рассчитывал. Тогда успех одного моего романа был очень значителен, и понятно, что вселил в меня большие надежды написать и еще роман, такой, который разом, через год же, даст мне возможность разделаться со всеми кредиторами. Но тогда, именно потому, что я уплатил разом 7000 руб. трем кредиторам, - все остальные взволновались и набросились на меня: зачем только этим трем уплата, а не всем нам? Подали ко взысканию, и я уехал поскорее, именно с надеждой, написав роман, через год расплатиться. Случилось же так, что всё лопнуло. Роман вышел неудовлетворителен, но, кроме того, вышло и то, чего я не мог даже и предвидеть прежде: вышло то, что я, долго быв вне России, потерял возможность даже и писать как следует, так что даже и на новое произведение какое-нибудь надеяться не могу. (5) (Затруднения эти не столько духовные, сколько материальные: например, невозможность личного взгляда и личного наблюдения в самых обыденных вещах, если говоришь о настоящей минуте, о текущей современности.) У меня, например, и задуман роман, в успех которого я верую вполне; но писать его здесь я совершенно не решаюсь и отложил. В настоящую минуту сижу над одной особенной работой, которую предназначаю в "Русский вестник" (в который я еще остался должен). Вы помните, друг Сонечка, как Вы раз писали мне по поводу одного моего романа, здесь написанного, что Вы удивляетесь, как я берусь за такие вещи к сроку. Ну верите ли теперь, что в том, что я пишу теперь в "Русский вестник", еще труднее задача. Я комкаю листов в 25 то, что должно бы было, по крайней мере, занять 50 листов, - комкаю, чтоб кончить к сроку, и никак не могу сделать иначе, потому что ничего, кроме этого, и написать не могу в настоящую минуту, находясь вне России. Я получил чрезвычайные похвалы из "Зари" за повестушку, которую у них напечатал. В журнальных разборах ("Голос", "Петербург<ские> ведомости" и проч.) - тоже были ко мне вежливы. Но Вы не поверите, до какой степени мне омерзительно писать такие повести, когда столько идей, уже совсем сложившихся, уже сидят в голове, - одним словом, писать не то, что хочется. Вы поймете, друг Сонечка, что это уже одно составляет мучение. Но насущное расстройство дел составляет другую половину мучений. Отсутствием моим из Петербурга я, например, совершенно запустил мои дела и даже преданных мне людей отвадил от себя (хоть "Идиот" и не удался, но за 2-е издание его несколько книготорговцев готовы были дать и давали хоть и небольшие, сравнительно, деньги, но всё же значительные, полторы и две тысячи. И все завязывавшиеся дела лопнули, потому что некому их было вести). Итак, вот какое мое положение. Не говорю уже о том, что мне жалко Анну Григорьевну, которой ужасно хочется домой. Всего не упишешь. Но тем не менее я решил окончательно, что во всяком случае в нынешнем году я в Россию возвращусь, возвращусь по осени, и это будет наверно. Разумеется, даже только по делам моим, должен буду тотчас же быть в Москве, если тотчас же не посадят меня кредиторы в Петербурге в тюрьму. Во всяком же случае надеюсь с вами со всеми, милые мои, непременно в начале зимы увидеться. (6)
Вы писали мне, Сонечка, что я отвык от Вас, потому будто бы заподозрил Вас в каких-то подозрениях на мой счет, по поводу моей ошибки по завещанию тетки. Но Вы, милая моя, тоже очень скоры в своих заключениях: всё, что я написал Вам тогда, я Вам мог написать без всякой укоризны и совершенно веря в Ваши добрые чувства ко мне. А во что же мне и верить, как не в Вас, кто из друзей тогда у меня и останется?
Аня вам всем очень кланяется, Люба вас всех целует (у ней прорезываются зубки, и она начинает говорить), и мы все очень просим вас как можно подробнее о себе известить. Дай только бог, чтоб письмо не затерялось, не залежалось и дошло до вас. Я было хотел написать на адресс Горлова или Протопопова, для передачи; но что ж, если письма доходят до вас распечатанными?
Итак, до свидания и до близкого. Тогда обо всем переговорим. Я теперь даже редко письма получаю от кого. (7) Кстати, брат Андрей писал мне, что в Москве Варя и бабушка <...> (8) Но брат Андрей меня защитил и объяснился с ними. Я совершенно верю, что всё так и было. Я верю тоже в совершенно дружеское расположение ко мне Андрея Михайловича.
Обнимаем вас всех и целуем.
Ваши искренние:
Я, Федор Достоевский, Аня, Люба.
Адресс мой тот же: Allemagne, Dresden, а M-r
Thйodore Dostoiewsky, poste restante.
(1) далее было начато: корот<ко>
(2) далее было: во всяком случае
(3) было: везти
(4) было: уплати<в>
(5) далее было: Возможность
(6) далее было начато: Как это случится, я не могу сказать точно, но знаю
(7) далее было: NB
(8) далее 2 строки текста повреждены
390. H. H. СТРАХОВУ
28 мая (9 июня) 1870. Дрезден
Дрезден 28 мая/9 июня 1870.
Благодарю Вас за письмо, добрейший Николай Николаевич. Вы пишете всегда такие коротенькие письма, но имеющие (1) свойство шевелить меня. Мнение Ваше о критической Вашей деятельности считаю и неполным и неправильным. Во-1-х, я так думаю: не будь (2) теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется никого, в целой литературе, кто бы смотрел на критику как на дело серьезное и строго необходимое. Не останется даже никого из пишущих критиков, кто бы сколько-нибудь ценил потребность (и уважение к нему) правильного философского осмысления текущих и минувших вещей, а стало быть, ценил и критику, то есть собственное дело свое. Итак, за Вами, прежде всего, этот строгий и философский взгляд на критику, чего у других нет - что и делает "Зарю" единственным журналом, имеющим критику и правильный взгляд на нее. (В "Русском вестнике" критика легкомысленная, правда, впадающая в тон общего направления журнала, но слишком мелкая. По-моему, их П. Щ. имеет некоторое сходство с Милюковым.) А стало быть, если б за Вами только это и было, - то уж это громадно много. А потом позвольте Вам сказать, что влияния не так скоро создаются, что сумбур нашего современного общества имеет тот же смысл, то есть свои законы движения, и что, наконец, Вы даже не имеете никакой возможности судить о непосредственной полезности и влиятельности Ваших статей и действительно ли они пишутся для тех только, "кто и без Вас так же думал". Это неправда.
Вот Вам, однако же, по моему соображению, и некоторая мерка судить о влиянии: журнал "Заря" - по преимуществу журнал направления и критики; число подписчиков через 2-3 года покажет и влияние ее в публике, а с тем вместе несомненно и влияние критики, потому что критика есть главная черта "Зари", главная ее специальность для публики. Публика, хотя бессознательно, но всегда так обнаруживает себя.
А ведь я думал, что Вы похвалите Струве! По крайней мере за доброе намерение. Шваховат я в философии (но не в любви к ней; в любви к ней я силен). Мне, впрочем, когда я внимательно читал диссертацию Струве, самому показалась новым материальность души. Любопытна же мне была диссертация, главное, потому, что я предчувствовал, что это именно теперешняя, последняя манера мыслить немецких философов. Только знаете, Николай Николаевич, ведь они Вас сочтут за отсталого старика, сражающегося еще луком и стрелами, тогда как у них уже давно ружья пошли. Что касается до меня, то я Вашу статью прочел два раза и с наслаждением. Кроме того, - Вы удивительно умеете писать. Литературный язык Ваш лучше, чем у них у всех. А это, как хотите, не может быть под конец не замечено. Я очень порадовался, что Вы с таким презрением относитесь к теперешней манере философствовать, но и очень бы желал, чтоб Вам они отвечали.
А какой ерыжный тон во всей теперешней литературе! Про беспорядок и сумятицу в идеях - бог с ними, они и должны были произойти. Но этот тон всеобщий! Какая ерыжность, какая уличность! И ни одной-то усвоенной, крепкой мысли, хоть какой-нибудь, хотя бы и ложной! Что у них за философы, что у них за фельетонисты! Полная дрянь. Но есть зато, единицами, люди, которые и мыслят, и влияние имеют - и так всегда бывает при всяком беспорядке. Только чтоб эти единицы пересилили сумбур публики, и Вы увидите, что она примет их тон наконец.
Кстати, кто этот молодой профессор, который передовыми статьями в "Голосе" "совершенно убил Каткова, так что уж того теперь и не читают"? Имя этого счастливца! Напишите мне, ради бога, скорее, возвестите! (3) Давно уже, еще лет двадцать с лишком назад, при первом появлении "Ярмарки тщеславия" в Англии, я зашел к Краевскому, и на слова мои, что вот, может быть, Диккенс напишет что-нибудь и к новому году можно будет перевести, Краевский вдруг отвечал мне: "Кто? Диккенс? Диккенс убит! Теперь там Теккерей явился; убил наповал; Диккенса никто и не читает теперь!" (4) Об этом профессоре я в "Заре" прочел. "Голос" я читаю; были очень хорошие статьи. Напишите же, Николай Николаевич, имя-то профессора, пожалуйста.
Да вот еще давно хотел Вас спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал как о частном человеке.
Пишу в "Русский вестник" с большим жаром и совершенно не могу угадать - что выйдет из этого? Никогда еще я не брал на себя подобной темы и в таком роде. Томлюсь мечтой устроить свое переселение в Россию в нынешнем году; все усилия употреблю. Ах, Николай Николаевич, мне (5) так нестерпимо жить за границей, что и передать нельзя этого!
Большая у меня до Вас просьба, многоуважаемый Николай Николаевич, пожалуйста, помогите, хотя и совестно Вас утруждать. Просьба следующая.
Вам небезызвестно, может быть, что Василий Владимирович дал мне слово (о чем и писал с точностию и сам определил числа и сроки) высылать мне емежесячно, 15-го числа каждого месяца, по 100 руб. Первая подобная высылка определена им самим к 15-му мая (нашего счисления). И вот уже 28-е мая, а ровно ничего еще я не получил! Вы не поверите, Николай Николаевич, как расстраивает все мои дела и весь мой здешний быт - такое отношение к делу. Я так тогда и распорядился; 500 рублей у меня все ушли (у меня и долги здесь и закупки необходимейшие). Из высланных тогда 500 я оставил себе ровно до 15 мая. А вот уже две недели прошло с 15 мая. И квартира, и лавочка, и содержание всё остановилось, а вдобавок заболел ребенок и ходит доктор. Вы не можете себе представить, как это влияет на мои занятия, не говоря уже ни о чем другом. Я на несколько дней иногда не способен работать.
Если уж с первой присылкой (обещанных ста рублей ежемесячно) вышла такая неточность, то что будет впоследствии, с другими присылками? Теперь же лето, у вас все на дачах, застой; обо мне совсем забудут. А я разве только к зиме могу надеяться на какое-нибудь получение мимо "Зари". Что же мне делать? Пусть не пеняют и на меня, если я окажусь неточным.
Клянусь Вам, как это ни смешно, что точность высылки чуть не важнее для меня самих денег. В конце концов деньги, какие-нибудь и откудова-нибудь, все-таки ведь явятся; но спокойствия, но возможности избавиться от забот хоть на время работы - этого уже не будет. Это уже нарушено.
Вся просьба моя к Вам: напомните обо мне Василию Владимировичу, сделайте это для меня как старый приятель! И вот еще: я раскаиваюсь теперь, что просил его высылать помесячно. Я предчувствую, что каждый месяц так будет. Если только возможно для него - не лучше ли, чтоб он мне выслал все 500 разом (обещанные вразбивку по 100 р. ежемесячно). Если только возможно! Если же нет, то хоть 300 или даже 200, - все-таки не в каждый месяц будет у меня это беспокойство и потрясение жизни. Действительно, потрясение; ведь я месяцев пять еще ни от кого не могу ждать ничего, кроме этих 100 руб. ежемесячно. И потому, остановись они, и жизнь останавливается.
Всё это - подробности мелкие, дрянные, но помогите мне, пожалуйста, Николай Николаевич, переговорите с Василием Владимировичем. Я очень нуждаюсь. (6)
Жена Вам кланяется и благодарит за память. Она тоже нездорова, кормит ребенка, а теперь и ночей не спит с ним по болезни.
Вам искренно преданный и сочувствующий
Ваш Федор Достоевский.
(1) было: которые имеют
(2) далее было: Вас
(3) далее было: 3 слова нрзб.
(4) далее было начато: Читал
(5) далее было: что-то
(6) Я очень нуждаюсь. - вписано
391. H. H. СТРАХОВУ
11 (23) июня 1870. Дрезден
Июнь 11/23 1870 Дрезден.
Благодарю Вас, добрейший Николай Николаевич, за скорый ответ, но письмо Ваше меня испугало, во-первых, за Вас: мне кажется, что я вовлек Вас, из-за себя, в неприятности с Кашпиревым. Как бы я не желал этого! Впрочем, может, я не так хорошо понял Ваше письмо. Во всяком случае благодарю Вас за старание обо мне. Отказ Кашпирева меня поразил, и я теперь совершенно не понимаю, что буду делать. Время же самое критическое для меня: из тех 500 руб. я ничего не сохранил - именно рассчитывая на постоянную присылку. Как и чем я продержусь, и придумать не могу. Ребенок болен, и расходы усиленные. Знакомств у меня здесь почти никаких, а в "Русский вестник" я положительно не желал бы обращаться с просьбами до положенного мною срока.
Мне случайно достался здесь "Вестник Европы" за нынешний год, и я просмотрел все нумера. Меня изумило даже. Неужели такая, неслыханная еще до сих пор у нас посредственность (разве исключая булгаринскую "Северную пчелу") - могла иметь подобный успех (6000 экземпляров и 2-е издание!). Вот что значит всем по плечу. Какое подлое подлаживание под уличное мнение. Самая последняя казенщина либерализма! Вот что, значит, успевает у нас! Издают, впрочем, ловко, в 1-е число каждого месяца, и литераторов много. Я прочел между прочим "Казнь Тропмана" Тургенева. Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он всё конфузится и твердит, что не имел (1) права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришел; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то.
Homo sum et nihil humanum... и т. д. Всего комичнее, что он в конце отвертывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: "Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать". (2) Впрочем, он себя выдает: главное впечатление статьи в результате - ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целости и своем спокойствии, и это в виду отрубленной (3) головы! Плевать, впрочем, на них всех. Надоели они мне ужасно. Я считаю Тургенева самым исписавшимся из всех исписавшихся русских писателей, - что бы Вы ни писали "за Тургенева", Никол<ай> Николаевич, - уж простите.
С мнениями Вашими о Вашей деятельности еще раз в высочайшей степени не согласен.
А как бы славно было хоть на минутку увидеться. И отчего бы Вам не съездить на месяц за границу? Двести рублей с проездом, не более, а если 300 - то и по Европе можно проехать. Заехали бы в Дрезден, повидались бы. Разве нельзя?
До свидания, благодарю Вас еще раз. Не оставьте меня, позаботьтесь если только можно.
Ваш весь Федор Достоевский.
Анна Григорьевна Вам кланяется. Она совсем измучена и кормлением и заботами. А тут еще эти неприятности!
(1) было начато: уме<л>
(2) далее было начато: Эта дрянная статья
(3) было: отнятой
392. С. А. ИВАНОВОЙ
2 (14) июля 1870. Дрезден
Дрезден, 2/14 июля/70.
Милый друг Сонечка, хотел тотчас же отвечать Вам и промедлил. И занятия, и всякие скверные хлопоты тому причиною. Да вот еще что: манера Ваша, вас всех, московских друзей, - не выставлять адресса.
По письму Вашему видно, что Вы переселились к Елене Павловне. Коли так, куда же мне адрессовать? Заметьте и то, что я могу потерять или заложить куда-нибудь письмо с последним адрессом Вашим. Теперь я три дня рылся и перерыл все листочки за все три года. Но все-таки знаю адресс, хоть и старый, и адресую на него. Дойдет или нет? Как хотите, такие вопросы руки отнимают. Умоляю Вас хоть для меня писать письма не по женской манере, то есть выставляйте число и всегда адресс, - ей-богу, лучше будет.
Ваше письмо произвело на меня тяжелое впечатление, добрый друг мой. Так неужели, если б Вы уехали в деревню, они бы Вам осенью уж и не достали переводов? Что Вы себя мучаете-то? Вам нужно здоровье и счастье. Вы работаете с утра до ночи. (1) Вам нужно замуж выходить, Соня, голубчик мой, не сердитесь на меня, Христа ради, за мои слова. Счастье раз в жизни дается, а потом ведь всё горе, всё горе. Ну так и надо к нему приготовиться, став в возможно-нормальные отношения. Простите меня, что я, три года не видав Вас, так пишу. Ведь это не советы с моей стороны, это просто (2) горячие желания. Не могу же я Вас не любить!
Что же касается до моего возвращения осенью в Россию, то это, разумеется, только фантазия, хотя и могущая осуществиться, но только фантазия. Вот увидим. Насчет же всех Ваших остальных советов (продажи романа, возвращения без денег ввиду невозможности того, чтоб кредиторы арестовали меня, и проч.) - скажу (3) Вам, что всё это Вы написали по неопытности, не зная сущности дела. Я уже двадцать пять лет литератором и никогда еще не видал, чтоб сам автор шел предлагать книгопродавцам 2-е издание. (Тем более через других, равнодушных, которым всё равно). Если предлагаете сами, то получаете десятую долю стоимости. Издатель, то есть купец, (4) всегда сам приходит, и тогда вместо каждой сотни получается по тысяче. "Идиот" же опоздал; ему еще прошлого года надо было быть изданным. Насчет же кредиторов, - то поверьте, засадят, как пить дадут, и вся их выгода в том. Уверяю Вас, что им известно, сколько я, н<а>прим<ер>, могу получить за роман с "Р<усского> в<естни>ка" или с "Зари". Они и засадят в надежде, что тот или другой журнал или кто-нибудь выкупят. Будьте уверены. Нет, воротиться надо не так.
Мне всего тяжеле смотреть здесь на тоску Анны Григорьевны. Ей хочется в Россию очень. Вот что наиболее меня здесь расстраивает. Ребенок здоров, только сосет еще изо всех сил, тогда как пора бы отучать. Вообще теперь неподвижная идея моя - воротиться. Еще немного если здесь проживу, то, пожалуй, и деньги перестану зарабатывать; никто печатать не будет. В России еще мог бы издавать какие-нибудь компиляции или учебники. Впрочем, не стоит об этом и говорить-то много. За нужду я ведь ворочусь, чтоб хоть в тюрьме сидеть. Мне бы только вот кончить теперь работу в "Р<усский> в<естни>к", за которой сижу, чтоб уж меня потом не тревожили. А между тем так устроилось, что я, наверно, до рождества не кончу. 1-ю большую часть пришлю, впрочем, в редакцию через 1 1/2 месяца и попрошу денег у них. 2-ю часть пришлю к началу зимы, а третью в феврале. Начать печатать должны будут с января будущего года. Очень боюсь, что они просто не захотят печатать роман мой. Я настоятельно объявлю, что вычеркивать и переправлять не могу. Начал я этот роман, соблазнил он меня, а теперь я раскаялся. Он и теперь меня занимает очень, но я бы не об том хотел писать.
Каждый раз, как пишу к Вам, чувствую, какое долгое лежит между нами время. Вот еще что: хочется мне ужасно, до последнего влечения, пред возвращением в Россию съездить на Восток, то есть в Константинополь, Афины, Архипелаг, Сирию, Иерусалим и Афон. Между тем это (5) возьмет minimum 1500 руб. Положим, деньги нечего жалеть; я бы написал книгу о поездке в Иерусалим, которая бы всё воротила, а такие книги ходки, говорю по опыту. Но пока ни наличных, ни времени нет, а вот вчера читал телеграммы, продающиеся на улицах, что еще чуть-чуть и война у Франции с Пруссией. Теперь всё так наболело, что начнись война где бы то ни было, сейчас разгорится. Дай только бог России не вступиться ни во что европейское, благо у нас своего дела довольно.
Перечел сейчас Ваше письмо, и опять руки опустились: ну куда я Вам адрессую, в самом деле? Клянусь Вам, что это совсем не шутка. Если квартира в Басманной еще за Вами, то Вы-то когда там будете, чтоб узнать о приходе письма? Это обескураживает; пишешь и думаешь, что, может, и не дойдет никогда.
Очень бы желал я видеть Машеньку и познакомиться с ней. (Пишу познакомиться; серьезно считаю, что в три года мы встретим взаимно во многом других совсем людей.) Передайте всем мой дружеский поклон. Напишите обо мне мамаше, передайте пожелание чего-нибудь очень хорошего Елене Павловне. Ничего, впрочем, не могу сказать об Ваших занятиях, тогда как хотелось бы сказать. Эти переводы - вещь ужасная. Периодическая, срочная работа в такие лета, с такими отказами от жизни - вот что горько. Но чтоб говорить что-нибудь, надо Вас видеть лично и лично узнать. Кстати, с кем Вы имеете непосредственные сношения в "Р<усском> в<естни>ке"?
Мне брат Андр<ей> Михайлов<ич> писал, что в Москве (у тетки) обо мне говорили как об чуме (сестрица Варвара Михайловна). Андрей Михайлович их разуверил и показал собственноручное письмо мое к нему. Пишет, что успокоились, не знаю. Что же касается насчет того, что остается вам ждать после тетки, - то это действительно, кажется, очень плохо, то есть, вернее, что нет ничего или в этом роде. Андрей Михайлович прислал мне, еще зимой, одну очень подробную и неутешительную записку о том, что в наличности. Почти ничего нет. До меня-то, разумеется, дело не касается (с этой стороны), но для Вас, для сестры Саши, для племянницы моей Кати (дочери брата) - плохо.
Люблю вас всех очень, чему вы, верно, поверите. Любите и вы меня хоть немножко. Я в немецкой земле умирать не хочу; приеду помирать на родину.
Жена и Люба Вас целуют очень. У нас жары, а у меня вчера был припадок, после долгого промежутка. Голова до того нехороша у меня сегодня, что я совсем как сумасшедший.
До свидания, милый мой друг, попомните меня.
Обнимаю Вас и целую.
Ваш Ф. Достоевский.
P. S. Если не ответите мне на это письмо, значит, оно не дошло, так и буду считать.
Адресс мой: Allemagne, Saxe, Dresden, а M-r Thйodore Dostoiewsky, poste restante.
(1) далее было: и даже
(2) далее было: 1 слово нрзб.
(3) было: то скажу
(4) то есть купец вписано
(5) далее было: не менее
393. В. В. КАШПИРЕВУ
Около 15 (27) августа 1870. Дрезден Черновое
Милостив<ый> госуд<арь> Василий Владимирович,
Письмо Ваше от 9 августа застало меня именно в то время, когда я собирался писать Николаю Николаевичу много и подробно об одном весьма важном для меня обстоятельстве, с просьбою сообщить о нем Вам. (1) Но Ваше письмо (2) предупредило меня, (3) и я обращаюсь теперь уже к Вам прямо. Впрочем, сперва объясню мое молчание: я сознаюсь, что виноват перед Вами, не уведомив Вас в свое время о двукратном получении от Вас денег (4) в июне и в июле. Но, во-1-х, я думал, что Вы не сомневаетесь в том, что деньги дошли до меня верно, и, во-2-х, я в конце июня и до половины июля был болен чрезвычайно усилившимся рядом припадков и недели три совсем ничего не работал, будучи в сильнейшей ипохондрии, чтоб не сказать более. А после того наступило одно обстоятельство, вследствие которого (5) я ни об чем не мог писать ни Вам, ни Николаю Николаевичу до самого последнего времени. (6)
Как Вам, вероятно, известно, (7) я с начала года работал для "Русского вестника" роман. (8) Я думал наверно кончить его к концу лета. Написано было у меня уж до 15 листов. (9) Во всё продолжение работы роман шел вяло и под конец мне опротивел. Между тем от первоначальной идеи его я отказаться не мог. Она меня влекла. Затем (10) мои припадки. Принявшись недели три назад после болезни опять за работу, я увидел, что не могу писать, и хотел изорвать роман. Две недели я был в положении очень тяжелом, и вот дней 10 назад я сознал положи<тельно?> слабую точку всего написанного. Теперь я решил окончательно: всё написанное уничтожить, роман переделать радикально, и хотя часть написанного и войдет в новую редакцию, (11) но тоже в радикальной переделке. Таким образом, я принужден начать работу почти всего года вновь сначала и, стало быть, ни в каком случае не могу поспеть с обещанным романом в "Зарю" к началу года. (12)
Я выставил себя перед Вами, так<им> обр<азом>, невольно обманщиком, хотя совесть моя не сознает за собой никакого обмана и намеренного уклонения от обязательств. Всё это только несчастие, которое давно уже меня преследует. Согласитесь сами: обязательства в "Русский вестник" я избегнуть не могу. Отказаться же от новой идеи и остаться при прежней редакции романа я не в силах совершенно. Я не мог предвидеть всего этого.
Всё это меня мучило очень Я понимал, (13) что я должен немедленно Вас уведомить. (14) Вот об этом-то я и собирался каждый день (15) написать Николаю Николаевичу и просить (16) его передать Вам всё дело. К Вам же прямо мне было писать тяжело. Вы могли мне не поверить, так как не знаете меня лично. В этом (17) случае (18) я не имел бы и не имею никакой возможности оправдать себя перед Вами точными доказательствами. (19)
Роман мой во всяком случае будет доставлен в "Зарю" в будущем году; но только в конце будущего года. С "Русским вестником" я раньше как к весне не кончу (20) (принимая в расчет все вероятные задержки, например, болезнь), (21) переезд в Россию и проч.), да и объем работы (22) в новом плане у меня наверно вырастет до 30 (23) листов или даже несколько более. Но, может быть, Вы не пожелаете ждать на мне; в этом Ваша полная воля и право, а я, разумеется, заслужил это, хотя, повторяю, при всем моем огорчении не могу себя обвинить по совести. Но в таком случае, прошу Вас, известите меня о Вашем решении, и я постараюсь возвратить Вам забранные мною у Вас 900 руб. по возможности скорее. Теперь, разумеется, у меня нет ни копейки (24) и еще очень долго не будет, а время теперь здесь, то есть в Германии, очень тяжелое, и я не знаю, что со мной станет, (25) пока (26) в сост<оянии> буду получать деньги из "Р<усского> в<естника>". Но впоследствии, по мере доставки романа в "Русский вестник", (27) конечно, можно будет мне заплатить Вам долг, и я употреблю все усилия, чтоб не заставить Вас ждать долее полугода.(28)
Я, разумеется, буду огорчен(29) чрезвычайно таким решением, ибо в высшей степени желал содействовать трудами моими, хоть на одну каплю, успеху "Зари", направлению которой я слишком сочувствую. Но и в этом уверять мне Вас не приходится опять-таки потому, что Вы лично меня не знаете. Но если Вы не захотите прервать наших литературных сношений и согласитесь <...>(30)
(1) вместо: с просьбою...... Вам. - было: с просьбою к нему сообщить мое письмо Вам.
(2) было: теперешнее письмо
(3) далее было: и об главном деле
(4) далее было: (по 200 руб.)
(5) вместо: наступило...... которого было начато: и тоже почти в продолжение трех недель тоже было одно обстоятельство, по которому
(6) далее было: В этом и состоит все главное дело, о котором я упомянул Вам. Чтоб объясниться, я должен войти в некоторые подробности и [извиняюсь] казалось бы посторонние и объясняюсь в них перед Вами заране.
(7) вместо: Как Вам...... известно - было: Дело в том, что
(8) далее было: и даже обещал доставить его в конце нынешнего года в редакцию "Русск<ого> вестника".
(9) далее было: весь роман разросся под пером до 25 листов, но 10 остальных еще надо было написать.
(10) далее было: последовали с месяц назад
(11) было: редакцию романа
(12) далее было начато: а. Всё это случилось дней 10 назад после долгой б. Положение мое было отчаянное в. Так я решился
(13) было: чувствовал
(14) вместо: Я понимал...... уведомить. - было: Всю эту последннюю неделю я каждый день думал приняться за это, чтоб было еще Вам время запастись материалом к началу будущего года взамен обещанного мною романа.
(15) вместо: каждый день - было: всю последнюю неделю
(16) было начато: с пр<осьбой>
(17) вместо: В этом - было начато: Но в <этом>
(18) далее было: согласитесь сами
(19) вместо: перед Вами...... доказательствами. - было: лично перед Вами.
(20) далее было начато: ибо объем
(21) было: припадки
(22) было: романа
(23) далее было: или до 35
(24) далее было: денег
(25) было: будет
(26) было: до тех пор пока
(27) далее было: мне
(28) вместо: ждать...... полугода. - было: а. ждать на мне возврата денег (девятьсот руб.) б. ждать возврата этих денег
(29) далее было: этим
(30) дальнейший текст письма не сохранился.
394. С. А. ИВАНОВОЙ
17 (29) августа 1870. Дрезден
Дрезден, 17/29 августа/1870.
Дорогой друг мой Сонечка, извините, что я не тотчас отвечаю Вам (по получении Вашего письма от 3 августа; коротенькое письмецо от 28-го июля тоже получил). Иногда бывает столько разных хлопот, неприятностей, тягостей, что ни за что взяться сил нет, тем более за письмо. Я только сочинения мои должен писать и пишу, в каком бы ни был расположении духа, да и то иногда не выдерживаю и бросаю всё. Жизнь моя не красна. На этот раз хочу Вам кое-что объяснить в моем положении, хотя, главное, потому и не люблю я писем, что трудно в них говорить, после стольких лет разлуки, о предметах для себя важных и быть понятым. Письма можно только писать деловые, к людям, с которыми в сердечных отношениях не состоишь.
Главное в том, что мне нужно возвратиться в Россию. Мысль эта проста, но не могу же я Вам рассказать в подробности те мучения и невыгоды, которые я терплю от заграничной жизни. Опускаю все нравственные (тоску по родине, необходимость русского быта мне как литератору и проч.). Но, например, одни семейные мучения чего стоят. Я ведь вижу, как хочется на родину Ане и что здесь ей невыразимо скучно. Кроме того, на родине я бы имел гораздо более средств достать для прожития денег; здесь же мы чрезмерно обеднели. Положим, жить можно, но няньки нельзя нанять. Нянька здешняя требует себе особую комнату, белье, чертово жалование, три обеда, столько-то пива (разумеется, с иностранцев). Аня же и сама кормит и с ребенком ночей не спит. Ни развлечения, ни времени развлечь себя. А главное, здоровье ее плохо. Да к чему, впрочем, я Вам рассказываю, когда это невозможно рассказать потому, что мелочей таких сотня или две и в целости их тягость и ужас. Вот я, например, с каким бы наслаждением повез жену и ребенка эту осень домой, в Петербург (как и мечтал о том весной), но чтоб уехать и приехать, нужно не менее 2000 руб., то есть это без всякой уплаты долгов и проч., а только чтоб поехать и приехать. Я сейчас же вижу отсюдова, как Вы вскидываете плечи и говорите: "К чему такая сумма? Какое преувеличение?" Но ради бога отучитесь, добрый друг мой, от этой манеры судить о делах людей, не зная их в подробности. 2000 руб. необходимы, да и то всё нищенским образом устроится. Это я Вам говорю. А где я возьму такие деньги? Теперь Любу надо от груди отучить и, кроме того, ей оспу привить. Сколько для Ани возни, да еще для ослабевшей, видимо потерявшей силы. Я вижу это и чуть с ума не схожу. А если б даже и получил деньги для переезда месяца через три, то будет зима, и грудного ребенка нельзя везти в мороз тысячи верст. Стало быть, надо ждать до весны. А будут ли к весне-то деньги? Заметьте, что в настоящее время в едва-едва пробиваюсь здесь кое-как, да и то наполовину в долг.
Но довольно. Теперь о другом, хотя всё тесно связано с главным. (1)
Писал ли я Вам или нет подробно о моих затруднениях с "Русским вестником", потому что я отдал мою повесть в конце прошлого года в "Зарю", в то же время оставаясь в денежном долгу у "Русского вестника" и еще за год до этого дав им слово, что работа моя им принадлежит. Писал ли я Вам, как это случилось? То есть как растянулась нечаянно моя повесть и я вдруг увидал, что не успею доставить ничего в "Русский вестник" к началу года? Они мне ничего не ответили на это, только перестали деньги присылать. В начале нынешнего года я писал к Каткову, что начну присылать роман с середины года, то есть с июня, так что если они захотят, то могут в конце года и напечатать его. Ну слушайте же: работал я до изнурения, понимая, что я не в России, что если прервутся мои литературные сношения с "Р<усским> вестником", то жить будет нечем (ибо отношения с другими журналами заочно тяжелы), и, кроме того, я измучился и исстрадался буквально из-за мысли, что в "Р<усском> вестнике" меня считают подлецом, тогда как они всегда так великолепно обращались со мной. Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно - не мог угадать. В июле, после последнего письма моего к Вам, я заболел целым рядом припадков падучей (каждую неделю). Они до того меня расстроили, что уже и думать о работе я не мог целый месяц, да и опасно было. И вот две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидал, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа. Всё надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул всё написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы. Вся работа всего года уничтожена. О, Сонечка! Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю? Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы! Я не хвастаюсь, спросите Вашу совесть и: воспоминания Ваши обо мне: хвастун ли я? Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь. А что выйдет? Заранее знаю: я буду писать роман месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу. Такую вещь нельзя иначе писать как два-три года. (Да и объемиста она: листов 35 будет). Детали, может, выйдут недурно, будут начерчены характеры - но начерно. Будет много невыдержек, лишних растянутостей. Бездна красот (говорю буквально) не войдет ни за что, ибо вдохновение во многом зависит от времени. Ну, а я все-таки сажусь писать! Разве не мучение (2) сознательно на себя руки подымать!
Но пока дело не в том, а дело в том, что все мои расчеты рушились. Я решительно надеялся в начале года, что, послав значительную часть романа в "Р<усский> вестник" к 1-му августа и попросив у них (3) вперед на житье денег, получу и поправлюсь. Теперь же что мне делать? Разве к 1-му сентября вышлю часть, да и то небольшую. (Я хотел выслать разом много, чтоб иметь хоть основание попросить вперед.) Теперь же просить стыдно. 1-я часть (всех будет 5) будет всего в 7 листах - как тут просить? А между тем так как все расчеты теперь переменились - то буквально не знаю в настоящую минуту, чем буду жить? Ну вот, извольте работать в таком настроении.
Наконец, много неизвестности. Положим, если я очень буду не жалеть себя и пошлю 1-ю часть в сентябре (так как кое-что из написанного прежде все-таки войдет сюда и я в сентябре поспею доставить листов 7), то, во-1-х, это уже, разумеется, для напечатания в будущем году, стало быть, я опять не исполнил обещания; (4) а во-2-х, захотят ли они со мной возобновить прежние отношения? Не самбициозничают ли? Не захотят ли обидеться? Так как я должен им, то роман примут, а вперед давать не будут? Да и не то одно: я желаю прежних дружеских отношений. Не знаете ли Вы, Сонечка, чего-нибудь? То есть продолжают ли они ждать от меня работы и что именно обо мне говорят? Если знаете хоть что-нибудь, то напишите мне. Но, ради бога, сами с ними не заговаривайте обо мне и не расспрашивайте у них. Разве если Вы там с кем-нибудь коротки, то скажите, что я работаю для них, но что весь роман переделываю и что во всяком случае скоро начну (5) высылать по частям. Впрочем, как знаете. Лучше (6) не говорите им; это можно только сказать в свободном, естественном разговоре, который сам собою пришел, а выпытывать я отнюдь не хочу. (7) Выпытывая, можно повредить себе и навести их на какие-нибудь подозрительные мысли насчет меня. Да и Вам не годится совсем. А потому лучше ничего не говорите им. Через два месяца всё узнаю. Конечно, "Заря" с коленопреклонением возьмет мой роман. Но мне бы хотелось с "Р<усским> вестником" возобновить отношения.
Ну вот, всё это меня очень волнует и мешает мне жить и работать спокойно; но есть и много другого, о котором не пишу. С войной кредит почти совсем кончился повсеместно, (8) - жить труднее. Но перетащу как-нибудь. Главное бы здоровье, но его-то и нет, то есть прежнего. Насчет войны с Вами не согласен совсем. Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. (9) Я говорю про народы в целом. Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит: она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли. А то ведь всё была старая фраза, с одной стороны, и трусость и телесные наслаждения - с другой. Наполеонова фамилья (10) будет уже невозможна. Эта новая будущая жизнь и преобразование так важны, что страдание, хоть и тяжелое, ничего не значит. Неужели Вы не видите руки божией? Семидесятилетняя наша русская, европейская - немецкая политика должна тоже будет измениться сама собою. (11) Те же немцы нам откроют наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок! Сколько новой жизни повсеместно будет вызвано! Даже наука ведь падала в узком материализме, за отсутствием великодушной мысли. Что значит временное страдание! Вы пишете: "Изранят, убьют, а потом перевязывают и ухаживают". Вспомните величайшие в мире слова: "Милости хочу, а не жертвы". Кажется, в настоящее мгновение или на днях многое должно решиться: кто кого надул? Кто сделал стратегическую ошибку? Немцы или французы? Мне кажется, что немцы. Я еще за 10 дней так думал. Но всё равно, кажется, временно немцы одолеют: у французов есть одна бездна, в которую они временно свалятся: это династический интерес, которому пожертвовано отечество. А многое бы я мог Вам написать как личный наблюдатель немецких нравов, по отношению к настоящей минуте, да некогда.
С Вашим философствованием насчет выбора жизни и о браке - в высшей степени не согласен. Друг мой, как я Вас люблю и как бы желал Вам счастья! Как бы желал я увидеться с Вами поскорее! Знаете, мне кажется, жизнь Ваша теперь какая-то одинокая, трудовая, в высшей степени однообразная и затворническая. Берегитесь, друг мой. Вы не замечаете, может быть, однообразия и затворничества. Это беда! Но что в письме напишешь? В рассуждения только уйдешь, а нужно дело. Ах, кабы поскорее увидеться! Аня говорит про Вас, что в один слог можно влюбиться (то есть читая Ваши переводы). В будущем письме пошлю Вам карточку Любы. Адресс всегда выставляйте. Андрей Михайлович писал только про Варвару Михайловну и ничего не писал про Верочку. Вы пишете про другого опекуна в Москве. Что же он делает такое? Помните ли, я Вам писал о записке, которую мне доставил Андрей Михайлович зимою о том, в каком виде он принял дела тетки после покойного папаши? Любопытная в высшей степени вещь. Он никогда, впрочем, не затрагивал высокую честность покойного Вашего отца. Но на ошибки его указал. Впрочем, когда и кто мог бы проверить: были ли ошибки? Но знайте одно, что после тетки вряд ли и 30 со ста получат ее наследники по завещанию. Не говорите об этих моих откровенностях; не хочу я ни с кем ссориться заочно; довольно и личных недоброжелателей. (12) Да и вообще, не давайте читать мое письмо другим. Я ведь только с Вами одной откровенничаю.
Всем поклон. Напомните об мне всем. Вас целую крепко, и знайте, что нет у Вас доброжелателя и друга крепче меня. Мне счастье уже одно то, что я пишу это Вам. Пишите, не забывайте, а я сажусь за каторжную работу.
Ваш всей душой и сердцем Ф. Достоевский.
О петербургских мучается душа. Ничего-то я им не высылаю. Раньше начала будущего года и не вышлю, а они в нищете. Это у меня на совести лежит; я обещался им их поддерживать; особенно Пашу жалко.
Р. S. Вы моих дел с кредиторами не знаете, а потому и полагаете, что им невыгодно будет меня засадить. Напротив, засадят, потому что именно это будет им, по некоторым соображениям, выгоднее. Но писал ли я Вам или нет, что у меня есть одна надежда (13) достать тотчас же по приезде в Петербург тысяч пять, года на три. Тогда бы я избежал тюрьмы. Надежда эта не лишена основания. Но надо лично, а заочно нельзя, да и испортить дело можно. Это не через литературу. Но если б теперешний роман удался, то шансов достать эти 5000 было бы больше. Всё это пусть будет между нами.
До свидания, друг мой.
Ваш Д.
(1) вместо: главным - было начато: пер<вым>
(2) далее было начато: знать
(3) вместо: у них - было: у него
(4) текст: стало быть...... обещания - вписан
(5) было: ст<ану>
(6) было: Впрочем
(7) далее: 4 слова нрзб.
(8) далее: 1 слово нрзб.
(9) далее было: Идеал
(10) далее было: навеки
(11) далее было: Стало <быть?>
(12) было: вр<агов?>
(13) было: мысль
395. M. H. КАТКОВУ
19 сентября (1 октября) 1870. Дрезден
Дрезден 1 октября/19 сентября 1870.
Милостивый государь многоуважаемый Михаил Никифорович,
Я работал всё лето из всех сил и опять, оказывается, обманул Вас, то есть не прислал до сих пор ничего. Но мне всё не удавалось. У меня до 15 печатных листов было написано, но я два раза переменял план (не мысль, а план) и два раза садился за перекройку и переделку сначала. Но теперь все установилось. Для меня этот роман слишком многое составляет.
Он будет в 30 листов и в трех больших частях. Через 2 недели по получении этого письма редакция "Русского вестника" получит два первые эпизода 1-й части, то есть половину ее, а к 15 ноября и всю 1-ю часть (от 10 до 12 листов). Затем уже доставка не замедлит. Из написанных 15 листов наверно двенадцать войдут в новую редакцию романа. Мне самому, теперь особенно, слишком дорог успех, и я не захочу сам вредить ему, замедляя высылку. Таким образом, ранее января будущего года нельзя начать печатать. Прошу Вас чрезвычайно - извинить меня за то, что я не сдержал слова и высылаю так поздно. Но не от меня зависело - уверяю Вас! Теперь же счел необходимым уведомить Вас о ходе дела и о том, что непременно доставлю работу и не манкирую ни за что на свете.
Примите, многоуважаемый Михаил Никифорович, уверение в глубочайшем моем уважении.
Покорный слуга Ваш
Федор Достоевский.
396. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "РУССКИЙ ВЕСТНИК"
7 (19) октября 1870. Дрезден
Дрезден 7/19 октября/1870.
Имею честь при сем препроводить в многоуважаемую редакцию начало моего романа "Бесы". Я слишком опоздал против обещанного мною срока; приношу от всего сердца извинение; но на этот раз виноват не столько я, сколько совершенно непредвидимые внешние обстоятельства. За одно ручаюсь: остановки более не будет. Здесь, в высылаемом, заключается половина первой части. Всех частей - три. Каждая часть имеет четыре деления (которые обозначены у меня римскими цифрами и заголовком). Каждое деление дробится далее на главы. (Всего высылаю теперь 62 полулистка почтовой бумаги малого формата).
III и IV отделы первой части будут высланы мною в редакцию "Русского вестника" в ноябре нынешнего 1870 г.
Если редакция определит печатать мой роман с январского номера будущего 1871 года, то, повторяю, с моей стороны задержки более не будет. Отвечаю за это.
Покорнейше прошу многоуважаемую редакцию пересмотреть французские фразы в романе. Мне кажется, что нет ошибок, но я могу ошибаться.
Равно попрошу покорно сверить мой эпиграф из Пушкина с изданием Пушкина. Я припоминал наизусть.
У меня в одном месте есть выражение: "Мы надевали лавровые венки на вшивые головы". Ради бога, умоляю: не вычеркивайте слово вшивые. И вообще прошу большого снисхождения к моему роману.
С месяц назад я писал письмо в редакцию на имя Михаила Никифоровича, в котором уведомлял о романе. Дошло ли оно в редакцию? Может быть, при теперешних военных хлопотах здешние почты иногда задержат письмо несколько дней лишних.
Тоже с месяц назад отправил я в редакцию "Русского вестника" письмо на имя родственницы моей Софьи Александровны Ивановой. Ответа я от нее не получил и полагаю, что письмо мое не дошло.
Вместе с этой первой посылкой романа я посылаю завтра же, особо, письмо к Михаилу Никифоровичу. Уведомляю об этом здесь для точности, на случай если б задержалось как-нибудь в дороге или пропало то письмо.
Честь имею пребыть с глубочайшим уважением покорнейшим слугою редакции
Федор Достоевский.
397. M. H. КАТКОВУ
8 (20) октября 1870. Дрезден
Дрезден 8/20 октября 1870 г.
Милостивый государь многоуважаемый Михаил Никифорович,
Я выслал сегодня в редакцию "Русского вестника" всего только первую половину первой части моего романа "Бесы". Но в очень скором времени вышлю и вторую половину первой части. Всех частей будет три; каждая от 10 до 12 листов. Теперь замедления не будет.
Если Вы решите печатать мое сочинение с будущего года, то мне кажется необходимо, чтоб я известил Вас предварительно, хотя бы в двух словах, об чем собственно будет идти дело в моем романе.
Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностию, и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что всё это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, - только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа.
Это другое лицо (Николай Ставрогин) - тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо - трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: "Что это такое?" Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества). Но подождите судить меня до конца романа, многоуважаемый Михаил Никифорович! Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо. Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо.
Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз. Правда, у меня с этим романом происходило то, чего никогда еще не было: я по неделям останавливал работу с начала и писал с конца. Но и, кроме того, боюсь, что само начало могло бы быть живее. На 5 1/2 печатных листах (которые высылаю) я еще едва завязал интригу. Впрочем, интрига, действие будут расширяться и развиваться неожиданно. За дальнейший интерес романа ручаюсь. Мне показалось, что так будет лучше, как теперь.
Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже Святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю.
Теперь о другом предмете.
Судите меня как хотите, Михаил Никифорович, но я до того обеднял, что, как ни совестно мне это, не могу не обратиться к Вам с просьбой! Мне совершенно нечем существовать, а у меня жена и ребенок. При слабом здоровье, она месяц тому назад откормила ребенка, а теперь, вместо того чтоб отдохнуть, не спит с ним по ночам. У нас не только няньки - и служанки нет. Это убивает душу мою; работа же иногда развлекает, а иногда и тяжела в таком положении.
Я знаю, что я Вам должен очень много. Но на этом романе я сквитаюсь с редакцией. Теперь же прошу у Вас 500 руб. Я знаю, что это ужасно много; но я почти ровно столько же здесь должен. Позвольте мне надеяться на доброту Вашего сердца. Умоляю уведомить меня поскорее; боюсь, что в Германии пропадают иногда теперь письма. Я с ума сойду от одной мысли, что письмо это пропало. Адресс мой тот же:
Saxe, Dresden.
А m-r Thйodore Dostoiewsky, poste restante.
Примите уверение в глубочайшем моем уважении.
Искренно преданный Вам Федор Достоевский.
Перечел письмо и - совестно. Не осудите меня, Михаил Никифорович!
398. С. А. ИВАНОВОЙ
9 (21) октября 1870. Дрезден
Дрезден 9/21 октября 1870.
Милый друг мой Сонечка, два месяца назад, сейчас по получении Вашего письма, в котором Вы просили меня писать Вам чаще и давали адресс в редакцию "Русского вестника", я Вам писал и послал Вам тогда же большое письмо, на двух листках. Но Вы мне не ответили до сих пор, несмотря на то, что сами вызывали на большую аккуратность в переписке. Слишком наклонен думать, что Вы не получили того письма вовсе: или затерялось дорогой, или залежалось в редакции, а так как там всегда много писем и так как Вы не спросили сами, то и лежит, должно быть, до сих пор, а Вы-то меня браните. Спросите, пожалуйста, в редакции, чтоб поискали: я очень боюсь, чтоб не стали пропадать письма.
Теперь я Вас только уведомляю об этом пропавшем письме и пишу наскоро два слова. Боюсь тоже, не были ли Вы больны: это уже всего хуже! Во всяком случае прошу Вас очень, известите меня о себе, а то я очень буду беспокоиться. Да и теперь слишком уж и давно уж беспокоюсь, дорогой друг Вы мой. Не может быть, наконец, чтоб и это письмо пропало.
Я только что теперь успел отослать в редакцию "Русского вестника" начало моего романа, за которым так долго сидел, и всё еще недоволен. Зато за продолжение и за конец романа спокоен: по крайней мере выйдет занимательно (а занимательность я, до того дошел, что ставлю выше художественности). Насчет художественности не знаю, кажется, должно бы иметь успех. Мысль смелая и большая. То-то и есть, что всё беру темы себе не по силам. Поэт во мне перетягивает художника всегда, а это и скверно. Но дело теперь не в том, а в том, что я, отправив в редакцию сравнительно немного, прошу у Михаила Никифоровича много денег вперед. И если мне не помогут, - то пропал я тогда совершенно.
Приехали ли все Ваши из деревни? Где Вы живете? Адресс точнее выставляйте и в каждом письме, в конце, не забывайте выставлять адресс.
Пишите больше подробностей о Вашем житье.
Отвечайте скорее. Я стараюсь так устроить дела, чтоб к весне воротиться в Россию. Хотелось бы к тому времени половину романа напечатать. Начинаю иногда хворать. Жена ужасно скучает и тем надрывает мне сердце. Каким бы исходом ни угрожали мне дела мои к весне, но я ворочусь.
Иван Григорьевич Сниткин уехал от нас из Дрездена и будет, вероятно, очень скоро в Москве. Так как он каждый день с нами виделся, то можете его порасспросить об нас.
Мне Майков писал, что Паша, мой пасынок, женится. Миша, мой племянник, уже женился. Каковы!
Всем кланяюсь. Мамашу и Машеньку целую. Детей тоже. Жена Вам кланяется. Девочка моя здорова.
Пишите же, Ваш весь
Федор Достоевский.
Saxe, Dresden, а M-r Thйodore Dostoiewsky, poste restante.
399. A. H. МАЙКОВУ
9 (21) октября 1870. Дрезден
Дрезден 9/21 октября/1870.
На письмо Ваше, дорогой и многоуважаемый Аполлон Николаевич, - письмо, которым Вы меня и обрадовали и удивили, - не отвечал до сих пор потому, что сидел за досадной работой и во что бы ни стало хотел кончить. А потому не только на два, на три накопившиеся письма не ответил, но даже и не читал ничего во всё это время (кроме газет, разумеется). Работа, которую я затянул, есть только начало романа в "Русский вестник", и по крайней мере полгода еще буду писать его день и ночь, так что уж он мне заране опротивел. Есть, разумеется, в нем кое-что, что тянет меня писать его; но вообще - нет ничего в свете для меня противнее литературной работы, то есть собственно писания (1) романов и повестей - вот до чего я дошел. Что же касается до мысли романа, то ее объяснять не стоит. Хорошо рассказать в письме никак нельзя, это во-первых, а во-вторых, довольно будет с Вас наказания, если вздумаете прочитать роман, когда напечатают. (2) Так чего же два-то раза наказывать?
Пишете Вы мне много про Николая-Чудотворца. Он нас не оставит, потому что Николай-Чудотворец есть русский дух и русское единство. Мы уже теперь с Вами не ребята, многоуважаемый Аполлон Николаевич, мы знаем, например, вот какой факт: то, что в случае - не то что русской беды, а просто больших русских хлопот, - самая нерусская часть России, то есть какой-нибудь либерал петербургский чиновник или студент, и те русскими становятся, русскими себя начинают чувствовать, хотя и стыдятся признаться в том. Я вон как-то зимою прочел в "Голосе" серьезное признание в передовой статье, что "мы, дескать, радовались в Крымскую кампанию успехам оружия союзников и поражению наших". Нет, мой либерализм не доходил до этого; я был тогда еще в каторге и не радовался успеху союзников, а вместе с прочими товарищами моими, несчастненькими и солдатиками, ощутил себя русским, желал успеха оружию русскому и - хоть и оставался еще тогда всё еще с сильной закваской шелудивого русского либерализма, проповедованного г<--->ками вроде букашки навозной Белинского и проч., - но не считал себя нелогичным, ощущая себя русским. Правда, факт показал нам (3) тоже, что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и проч. дело не кончилось. Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Его: повели нам войти в свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось всё стадо с крутизны в море и всё потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого - уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли (4) в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг: кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и бога. Ну, если хотите знать, - вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется "Бесы", и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Безо всякого сомнения, я напишу плохо; будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе. И потому испорчу, это наверно. Тема слишком сильна. Но так как еще никто, из всех критиков, судивших обо мне, не отказывал мне в некотором таланте, то, вероятно, и в этом длинном романе будут места недурные. Ну вот и всё.
А что у вас в Петербурге, кажется, еще много умного народу, которые хоть и ужаснулись мерзавцев, вошедших в свиней, но всё еще мечтают о том, как хорошо было в либерально-гуманные времена Белинского и что надо бы воротить тогдашнее просвещение. Ну-с, вот эту-то мысль даже можно увидать теперь в самых новообращенных националистах и проч. Старики не сдаются: Плещеевы, Павлы Анненковы, Тургеневы и целые журналы вроде "Вестника Европы" держатся этого направления. А продолжают ли на выпусках, в гимназиях, раздавать гимназисткам книги вроде полного собрания сочинений Белинского, в которых (5) тот плачет, зачем Татьяна осталась верна мужу? Нет, долго еще это не искоренится, и потому, мне кажется, нам нечего бояться даже и внешних политических потрясений, (6) н<а>прим<ер> европейской войны за славян, хотя дело страшное: мы одни, а они-то все. Дают теперь нам обстоятельства года два или три наверного мира - поймем ли наше положение? Приготовимся ли? Настроим ли дорог и крепостей? Заведем ли еще хоть миллион штук оружия? Станем ли твердо на окраинах, и решатся ли у нас на реформу (7) в подушном поборе и рекрутчине? Вот чего надо, а прочее, то есть русский дух, единение - всё это есть и будет и (8) в такой силе, в такой целости и святости, что даже мы не в силах проникнуть во всю (9) глубину этой силы, не только иностранцы, и - моя мысль - девять десятых нашей силы именно в том состоит, что иностранцы не понимают и никогда не поймут всей глубины и силы (10) нашего единения. О, как они умны! Вот уже три года читаю усидчиво все политические газеты, то есть главное большинство. До какой степени хорошо они знают свои дела! Как предсказывают вперед! Какое умение иногда ударить в самую настоящую точку! (Какое сравнение с нашими политическими газетами с подражающею дрянью, кроме лишь разве "Моск<овских> ведомостей".) И что же? Чуть лишь дело коснется до России, - точно горячешный человек в темноте забормочет черт знает что такое! Я думаю, звезду Сириус основательнее знают в Европе, чем Россию. Это-то вот до времени и есть наша сила. А другая сила была бы наша собственная вера в свою личность, в святость своего назначения. Всё назначение России заключается в православии, в свете с Востока, который потечет к ослепшему на Западе человечеству, потерявшему Христа. Всё несчастие Европы, всё, всё безо всяких исключений произошло оттого, что с Римскою церковью потеряли Христа, а потом решили, что и без Христа обойдутся. Ну, представьте же Вы себе теперь, дорогой мой, что даже в таких высоких русских людях, как, например, автор "России и Европы", - я не встретил этой мысли о России, то есть об исключительно-православном назначении ее для человечества. А коли так - то действительно еще рано спрашивать от нас самостоятельности.
Но слишком ушел в лес, а между тем уже четвертая страница. Живу кое-как, стараюсь работать, везде опоздал, везде манкировал обещаниями - и оттого страдаю. Тоскует и Анна Григорьевна, так что и не знаю, что делать. Весной надо бы воротиться, - да всё денег нет, то есть не на уплату долгов, а только на то, чтоб воротиться. Здесь знакомств имею мало, а русских в Дрездене такая куча, как англичан. Всё дрянь народ, то есть вообще говоря... И боже мой, какая есть дрянь! И для чего они скитаются?
Девочка моя здорова, выкормлена, отучена от груди, начинает сильно понимать и даже говорить, - но очень нервный ребенок, так что боюсь, хотя здорова. Что это Вы, многоуважаемый друг, пишете о Паше, о таком факте, как его женитьба, и сообщаете так мало подробностей. Ради Христа, сообщите, если знаете сами. Я от Паши никакого уведомления не получал. А ведь он мне дорог. Разумеется, было бы очень смешно, с моей стороны, отсюдова, после 3-х лет разлуки, претендовать на влияние над его решениями. Но все-таки грустно. Есть у меня племянник Миша, тот женился еще раньше Паши, но тот мальчик очень умный и с характером. А Паша - это дело другое, то есть насчет характера и хоть какой-нибудь выдержки.
Если напишете мне что-нибудь, то очень, очень меня одолжите. Жена Вам кланяется. Люба целует. До свидания, будьте здоровы и благополучны.
Ваш весь Федор Достоевский.
На конверте:
Russie. St.-Pйtersbourg. Его превосходительству Аполлону Николаевичу Майкову.
С.-Петербург. По Большой Садовой против Юсупова сада дом Шеффера.
(1) было: письма
(2) вместо: почитать роман...... напечатают. было: прочитать его.
(3) было: мне
(4) над текстом: человека и вошли было: 1 слово нрзб.
(5) вместо: в которых - было: где
(6) далее было: хотя
(7) вместо: и решатся ли у нас на реформу - было: и решится ли царь-освободитель
(8) вместо: единение - всё это есть и будет и - было: 1 слово нрзб.
(9) было: это
(10) вместо: силы - было: святости
400. H. H. СТРАХОВУ
9 (21) октября 1870. Дрезден
Дрезден 9/21 октября/1870 г.
Вот уже три недели, как получил Ваше письмо, многоуважаемый Николай Николаевич, и до сих пор еще не отвечал на него и уверен, что Вы бог знает что теперь обо мне думаете. А между тем мне Ваше письмо было дорого: без нежностей говоря, я весьма обрадовался тому, что Вы вновь пожелали завязать сношения письменные. Никогда еще я так не ценил людей, как теперь в моем скверном уединении. Надежда возвратиться осенью в Петербург - мне не удалась: средств недостало; (1) пришлось опять отложить до весны и мучительно проскучать в Дрездене еще зиму.
Не ответил я Вам до сих пор потому, что буквально сидел, не разгибая шеи, за романом в "Р<усский> вестник". До того не удавалось, до того много раз пришлось переделывать, что я наконец дал себе слово не только не читать и не писать, но даже и не глядеть по сторонам, прежде чем кончу то, что задал себе. И это ведь еще только самое первое начало. Правда, романа много написано из середины и много забракованного (разумеется, не целиком). Но тем не менее я все-таки сижу еще на начале. Признак дурной, и, однако, хочется сделать что-нибудь получше. Говорят, что тон (2) и манера рассказа должны у художника зарождаться сами собою. Это правда, но иногда в них сбиваешься и их ищешь. Одним словом, никогда никакая вещь не стоила мне большого труда. Вначале, то есть еще в конце прошлого года, - я смотрел на эту вещь как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее - и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками, - давай черкать написанное. Потом летом опять перемена: (3) выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. И вот теперь, как уже отправил в редакцию "Р<усского> вестника" начало начала, - я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно! А между тем я ведь ввел героя не с бух-да-барах. Я предварительно записал всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, новое; надеюсь, но боюсь. Пора же наконец написать что-нибудь я серьезное. А может быть, и лопну. Что бы там ни было, а надо писать, потому что с этими переделками я ужасно много времени потерял и ужасно мало написал.
Но о деле: Вы не можете себе представить, многоуважаемый Николай Николаевич, как мне тяжело было изменить моему обещанию "Заре". Но я до того доведен, что еще немного, и я с ума сойду! Не мог я предвидеть таких остановок и переворотов в моей работе.
Но если я не кончу предварительно одного, то я ничего не сделаю и в другом. Моя вещь в "Зарю" будет в будущем году, но - в конце года, а в антракте я возвращусь в Петербург. Что же касается до повести, то не знаю, в состоянии ли буду выполнить даже и это обещание. Два месяца назад (давая это обещание) - я был в другом положении. Одно скажу: все мои симпатии и пожелания обращены к "Заре", и если я, с своей стороны, хоть одной каплей могу послужить "Заре", то сочту себя счастливым. Подождите на мне - и тогда произносите обо мне окончательное суждение. А теперь пока пощадите.
Я Ваше письмо прочел с большим удовольствием. Мне в нем понравилась особенно некоторая перемена Вашего собственного взгляда на Ваши труды. Говорю Вам и предрекаю, что Вы непременно должны найти горячих приверженцев и немало. Уж одно то, что Вы проповедуете истину! Я с большим нетерпением жду целого ряда Ваших статей за нынешний сезон. Так или этак, а истина должна восторжествовать. Вы пишете о криках: да ведь тем лучше. А об "Вестнике Европы" и об успехе его и говорить нечего, как то, что это журнал петербургских чиновников и всем по плечу (в пошлом, а не в популярном смысле этого выражения). Он не мог не иметь успеха и продержится еще очень долго - несколько лет. Но Вы победите. Одно бы пожелать надо "Заре": этой бюрократической аккуратности "В<естника> Европы". (NB. Заметили ли Вы, однако, что все лучшие журналы, бывшие в России, не отличались аккуратностию? Но лучше бы этому не подражать.) В последней книжке "Зари" я прочел только Вашу статью о Полонском. Остальное лишь переглядел - времени не было, но, кажется, книжка превосходно составлена. Все статьи читаются и именно соответствуют интересу минуты. Анна Григорьевна говорила мне, что роман Авсеенко хорош. Дай бог, прочту непременно. Статья о Полонском мне понравилась очень. Бесспорно важная тема о том: в чем заключается истинная поэзия? Но еще бы, мне кажется, лучше было, если б Вы распространились при этом и о том, - что именно составляет фальшивую, напускную поэзию. Клянусь Вам, Николай Николаевич, что публика теперешняя уже далеко не та, чем во времена нашей юности. Теперешней уже многое надо вновь растолковывать. Ах, Николай Николаевич - будьте позлее! Много этим пользы принесете и другим и себе. Впрочем, чего же я Вас учу! Но Вы мне дороги. Я недаром Вашу статью разрезываю первую, и день получения книжки с Вашей статьей для меня праздник.
Как Ваше здоровье? Не могу похвалиться здоровьем, - вот что скверно. Теперь для меня наступает зима усиленной работы день и ночь. Хочу одолеть к весне всё. Это единственная возможная манера работать, то есть без отдыха, (4) иначе надорвешься и не кончишь. Живу я скучно и слишком регулярно. Каждодневно делаю прогулку и прочитываю по нескольку газет, между прочим, и две русские. По-моему, все эти потрясающие современные события будут иметь непосредственное и скорое влияние и на нашу русскую жизнь, а стало быть, и на литературу. Во всяком случае (5) времена необыкновенные. Не думаю, чтоб литература проиграла в своем влиянии и значении. Напротив, во всяком случае выиграет, но, читая, например, газеты русские, так и чувствуешь, до какой степени это скороспело и без собственной мысли. (Кроме "Москов<ских> ведомостей", разумеется.)
Не ответите ли Вы мне как-нибудь, дорогой Николай Николаевич. Вот осчастливите. А я уж обещаюсь быть аккуратным.
Вам искренно преданный
Ваш Федор Достоевский.
(1) было начато: недостато<чно>
(2) далее было начато: тот
(3) было: революция
(4) далее было: то есть
(5) вместо: Во всяком случае - было начато: Вооб<ще>
401. H. H. СТРАХОВУ
2 (14) декабря 1870. Дрезден
Дрезден 2/14 декабря 1870.
Простите и Вы меня, многоуважаемый Николай Николаевич, что не сию минуту отвечаю на письмо Ваше. Все мои заботы не по силам. Вы пишете мне об обещанной в "Зарю" статье, о романе. Я давно уже, с боязнию, ждал Вашего вопроса и - что могу ответить? Теперь, в настоящую минуту, я почти совсем себя придавил. Обязательство в "Русский вестник" было моим долгом, говоря буквально, то есть я остался туда должен значительную сумму. Меня не беспокоили, (1) обращались со мной деликатнейшим и благороднейшим образом. Говоря с полною точностию, повесть (роман, пожалуй), задуманный мною в "Р<усский> вестник", начался еще мною в конце прошлого (69-го) года. Я надеялся окончить (2) его даже к июлю месяцу, хотя бы он разросся свыше (3) 15 листов.
Я вполне был уверен, что поспею в "Зарю". И что же? Весь год я только рвал и переиначивал. Я исписал такие груды бумаги, что потерял даже систему для справок с записанным. Не менее 10 раз я изменял весь план и писал всю первую часть снова. Два-три месяца назад я был в отчаянии. Наконец всё создалось разом и уже не может быть изменено, но будет 30 или 35 листов. Если б было время теперь написать не торопясь (не к срокам), то, может быть, и вышло бы что-нибудь хорошее. Но уж наверно выйдет удлинение одних частей перед другими и растянутость! Написано мною до 10 листов всего, 5 отослано, 5 отсылаю через две недели и затем буду работать каждый день как вол, до тех пор как кончу. Вот мое положение; что же могу я в эту минуту отвечать Вам утвердительно?
Верьте, что всё, что написал я Вам, - честная правда, до последнего слова.
Не мог же я знать вперед, что целый год промучаюсь над планом романа (именно промучаюсь).
Наконец, если б я, чтобы сдержать мое летнее обещание "Заре", бросил роман и принялся за другой в "Зарю", то, согласитесь сами, было ли бы возможно физически писать его? Я не мог бы никак бросить теперешнюю работу, именно потому, что она так болезненно досталась мне. Я к Вам обращаюсь, к Вашему тонкому пониманию участи писателя: решите сами, возможно ли это?
Итак, буду писать, - но будущего не знаю. Одно знаю: вторая половина романа достанется мне неимоверно легче, чем первая. Если кончу (что, впрочем, наверно) летом, то к концу года (4) помещу в "Заре" или повесть, или начало романа (то есть такое начало романа, которое, само по себе, есть отдельный роман). Вы просите заглавие? Не могу дать. Вот в чем дело: повестей задуманных и хорошо записанных у меня есть до шести. Каждая такого свойства, что я с жаром присел бы за нее. Но если б я был свободен, то есть если б не нуждался поминутно в деньгах, то ни одну бы не написал из всех шести, (5) а сел бы прямо за мой будущий роман. Этот будущий роман уже более трех лет как мучит меня, но я за него не сажусь, ибо хочется писать его не на срок, а так, как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не на срок напишется. Этот роман я считаю моим последним словом в литературной карьере моей. Писать его буду во всяком случае несколько лет. Название его: "Житие великого грешника". Он дробится естественно на целый ряд повестей. Но не знаю, смогу ли начать его в этом году, если даже к июлю кончу в "Р<усский> вестник". Итак, всё во времени. Заглавия теперь дать не могу. Сговоримся же обо всем лично или в конце апреля, или в мае будущего года. (Я был бы и осенью в Петербурге, если б не запоздал с романом, а стало быть, и с деньгами. Теперь же, в декабре, возможности нет перевезти ребенка, а потому и сижу здесь до весны). Чтоб окончить в настоящую минуту, скажу Вам, что редакция во всяком случае может обещать меня (без заглавия), и я, что бы ни случилось, слово сдержу. (NB. Хотя, признаюсь, работа дорого достается, начинаются сильные приливы крови к голове; боюсь, не доканать бы себя. Но меня роман в "Р<усский> вестник" измучил за год.)
Вы пишете насчет Писемского и Клюшникова. Но ведь Писемский, во всяком случае, напишет любопытно. Вы говорите, что их имена не привлекут. Сделайте так: напишите, что в будущем году непременно явятся у вас следующие, - и затем выставьте (6) все имена, то есть Толстого, Кохановскую, Писемского, Клюшникова, Чаева, меня и проч. и проч., - и поверьте, что выйдет (7) по крайней мере прилично. Ну какой же журнал может обещать больше этого по беллетристике?
В будущем году направление "Зари" могло бы обратить на себя внимание, вследствие клонящихся к тому политических обстоятельств в Европе. Во всяком случае, все будущие ближайшие (8) годы, как кажется, не обойдутся без начала разрешения Восточно-славянского вопроса. Если б даже и не состоялась подписка на будущий год вполне удовлетворительная, то журналу как "Заря", то есть с таким направлением, - нельзя унывать. Будущность несомненно его возвысит, и даже близкая. Будущность принадлежит этому направлению, (9) а нигилисты исчезнут яко прах. Дело, стало быть, в исполнении задачи.
Вы спрашиваете моего мнения о последних книжках. На лету не скажешь, а если б увидеться, то, кажется, долго и много бы говорил. И как хочется высказать. Для меня "Заря" - вещь родная. Она, почти одна из журналов, стоит за те мнения, которые я ценю теперь выше моей жизни и которым, по убеждению моему, принадлежит будущность. Насчет же теперешнего исполнения, то (исключая Ваших статей, которыми упиваюсь) - оно не совсем, по-моему, удовлетворительно. Но всё это - длинная тема. Вот Вам одна крошечная заметочка: по-моему, нельзя бы помещать (10) в одном номере две такие статьи, как об Америке Огородникова и о "Грамотности и народности" Константинова, - они обратно противуположны по направлению. Огородникову Американец плюнул в глаза, а он пишет: это мне понравилось. Из русского ему нравится, и он с почтением говорит лишь о студенте Я., явившемся в глубь Америки, чтоб узнать на опыте, каково работать американскому работнику (!). (11) И вдруг в том же номере статья Константинова.
Но, впрочем, всё это я напрасно пишу.
Мне не нравится в Ваших статьях лишь то, что Вы их редко помещаете. Ну, возможно ли было манкировать Вам в ноябрьскую книгу, голубчик Николай Николаевич, то есть в самую подписную книгу из всех! (Замечу, что в ноябрьской книге, так или этак, но все статьи чрезвычайно занимательны. Если б к тому же и Ваша - то вышло бы вдвое занимательнее.)
К статье о Карамзине (Вашей) я пристрастен, ибо такова сочти была и моя юность и я возрос на Карамзине. Я ее с чувством читал. Но мне понравился и тон. Мне кажется, Вы в первый раз так резко (12) высказываете то, о чем все молчали. Резкость-то мне и нравится. Именно смелости, именно усиленного самоуважения надо больше. (13) Нисколько не удивляюсь, что эта статья Вам доставила даже врагов.
"Король Лир" Тургенева мне совсем не понравился. Напыщенная и пустая вещь. Тон низок. О, выписавшиеся помещики! Ей-богу, не из зависти говорю.
Вы говорите, что интересная для Вас минута пришла. Но теперь именно такое время настает, что чем дальше, тем интереснее для нашего направления.
Все-то меня не то что забыли, а вроде того, что забросили. Здоров ли А<поллон> Николаев<ич> Майков? (14)
Здесь очень много столпилось русских. На этой неделе все собрались (собственной инициативой) и послали адресс канцлеру по поводу 19 октября. Адресс написал им я.
До свидания, многоуважаемый Николай Николаевич, не забывайте меня и верьте моим искренним чувствам к Вам. Неужели мы скоро свидимся? Как хочется в Россию. Анна Григорьевна больна по России. До свидания, дорогой Николай Николаевич.
Ваш Федор Достоевский.
Р. S. Анна Григорьевна Вам кланяется.
(1) было начато: о<беспоили>
(2) было: вполне окончить
(3) было: даже свыше
(4) далее было: наверно <?>
(5) вместо: всех шести - было: них
(6) было: выпиши<те>
(7) далее было: если не очень красноречиво <?>
(8) ближайшие вписано
(9) Будущность...... направлению вписано. К этому тексту примеч. Достоевского: "Этого только Ваш прозорливый Тургенев не видит. Не соглашусь с Вами в его прозорливости".
(10) вместо: помещать было начато: ст<авить>
(11) далее было начато: Од<ин?>
(12) вместо: так резко - было начато: ре<зко>
(13) далее было: Эта
(14) далее было начато: Если ув<идите>
402. A. H. МАЙКОВУ
15 (27) декабря 1870. Дрезден
Дрезден 15/27 декабря/1870.
Давно не писали мы друг другу, дорогой и любезнейший Аполлон Николаевич. Не знаю, не сердитесь ли Вы за что-нибудь на меня? Кажется, за что бы? Вернее же всего, что виновато долгое мое отсутствие. Между тем (так как скоро наступит время, что и я расплюнусь с заграницей и возвращусь домой) вспоминается и мечтается сильно о прежних друзьях и товарищах. Как-то встретимся, что-то перескажем друг другу и какими друг другу покажемся? Одним словом, предчувствую наступление нового периода жизни и волнуюсь. Анна Григорьевна даже больна тоской по родине. Но увы, никаким образом не смог устроить возвращения осенью. Приеду к 1-му мая 1871, и что бы там ни было! Разумеется, не без надежд устроить дела, хоть наполовину. Но всё это еще в будущем. Одно несомненно - что срока возвращения не переменю.
Живу я теперь ужасно. Если б не работа денная и нощная, то очумел бы с тоски. Здоровье по-прежнему. Одно мучает: прихварывает Анна Григорьевна. Дочка здорова и весела. Работу навалил на себя почти сверх сил. Задумав огромный роман (с направлением - дикое для меня дело), полагал сначала, что слажу легко. И что же? Переменил чуть не десять редакций и увидал, что тема oblige, a поэтому ужасно стал к роману моему мнителен. Еле-еле окончил первую часть (большую, в 10 листов, а всех частей 4) и отослал. Думаю, что сильно неказиста и неэффектна. С первой части даже и угадать нельзя будет читателю, куда я клоню и во что обратится действие. В "Р<усском> вестнике" отозвались благосклонно. Название романа "Бесы" (всё те же "бесы", о которых писал Вам как-то) с эпиграфом из Евангелия. Хочу высказаться вполне открыто и не заигрывая с молодым поколением. А впрочем, в письме ничего не расскажешь.
Жаль, что я не сдержал слова в "Зарю". Если поступят со мною гуманно и не обругают подлецом, то заслужу "Заре" в свое время. Невозможно рассчитать всё по нитке вперед. Знал (1) ли я, что в целый год и 10-ти листов не напишу? Оторваться от "Русского вестника" до срока не могу. Да и, начав одно, нельзя перейти к другому.
Аполлон Николаевич, я к Вам с величайшею просьбою, но не подумайте, что из-за нужды только стал писать к Вам. Просьба моя огромная; не имею никого, кому бы мог довериться в этом деле. (2) А оно так для меня важно, что в нем, при известном обороте, может заключаться в близком будущем или беда для меня, или разрешение большей части моих затруднений.
Стелловский объявил об издании моих сочинений и "Преступления и наказания". Объявление прочел в "Голосе" (кажется, от 11-го декабря). Не сказано, какое это издание, старое или новое и в формате ли его Собрания сочинений русских авторов (то есть в 2 столбца и в 8-ю долю). Но, вероятно, старое и, вероятно, в 8-ю долю. Иначе он, в силу контракта, заплатил бы мне 3000 руб. неустойки, и потому не станет он делать нового. Но важно для меня то, что издано им "Преступление и наказание", за которое он должен мне немедленно заплатить, в силу контракта, и под страхом неустойки в 3000 руб. Уплата, по пункту контракта, определена таким образом: он должен заплатить за каждый лист "Преступления и наказания" (напечатанного не иначе как в его формате Сочинений р<усских> авторов, то есть 8-я доля и в 2 столбца) ровно столько, во сколько. обошелся каждый лист напечатанного им в 1866-м году (в его формате) издания моих сочинений. Проверить поэтому слишком легко: стоит сосчитать число листов прежнего издания (в его формате, за исключением "Преступления и наказания", которое только теперь появилось) и разделить 3000 руб. (цену, которую я тогда с него получил) (3) на это число листов. Таким образом определится плата за лист. Затем, помножив эту плату на число листов "Преступления и наказания" (в его формате), получим всю сумму, (4) которую мне приходится получить теперь с него. Сумма эта будет, кажется, около 900 руб. Помнится, я Вам писал об этом когда-то, да и Стелловский, кажется, так Вам говорил.
Повторяю: Стелловский не имеет никакой причины и никакой возможности отказаться от немедленной уплаты по первому востребованию. Иначе платит мне неустойку в 3000 руб. А потому никак не посмеет отказаться.
Теперь: просьба моя к Вам в том: не согласитесь ли Вы (ради Христа) потребовать с него уплату и получить сумму? Если согласитесь, то дело, по формальному порядку, должно произойти таким образом: получив Ваше согласие, я немедленно высылаю Вам отсюда бесспорную и совершенно законную доверенность на получение этих денег, по пункту контракта. Доверенность. будет засвидетельствована в нашем здешнем посольстве (я знаю, что такого роду доверенности совершенно законны и бесспорны). При этом высылаю Вам подлинную копию с контракта моего с Стелловским в 1865 году; и наконец, мое письмо отсюда к Стелловскому (незапечатанное).
Письмо это будет следующего содержания.
М. Г. Вы объявили о Вашем издании моего романа "Преступление и наказание", (5) о чем я известился из объявлении Ваших в газетах. По такому-то пункту контракта, совершенного нами обоюдно (там-то и там-то), Вы должны немедленно уплатить мне (6) причитающуюся мне плату. А по такому-то пункту контракта, в случае неуплаты, подвергаетесь законной неустойке в мою пользу в 3000 руб. Находясь в (7) настоящее время в Дрездене, я выслал д<ействительному> с<татскому> с<оветнику> Ап<оллону> Н<иколаеви>чу Майкову законную и бесспорную доверенность на получение следуемых мне от Вас денег за напечатанный роман, засвидетельствованную, по закону, русским посольством. Сверх того выслал ему же подлинную копию с контракта, совершенного нами обоюдно в 1865 году. Вследствие чего и прошу Вас, немедленно по получении письма сего, произвести Ап<оллону> Николаевичу Майкову сию уплату в конторе частного маклера Барулина, в которой совершен нами обоюдно вышеупомянутый контракт. По предъявлении Вам в сей конторе Ап<оллоном> Никол<аевиче>м доверенности и по уплате денег прошу Вас на подлинном и на копии контракта расписаться в уплате денег и получить на подлинном и на копии с контракта расписку с Ап<оллона> Николаевича в получении им сих денег. Затем уплата и получение имеет быть засвидетельствована частным маклером Барулиным. Всё это по примеру и образу того, как получена была мною в 1865 году Ваша уплата 3000 руб. за издание моих сочинений. (8) Расчет же суммы, следуемой мне в уплату за напечатанный Вами роман мой "Преступление и наказание", доверяю сделать Ап<оллону> Ник<олаеви>чу Майкову, по соглашению с Вами и в силу такого-то пункта контракта. (9)
Вот смысл письма; напишу же я его более юридически.
Теперь: по получении от меня доверенности, копии и письма Вам осталось бы (10) только следующее: написать Стелловскому четыре строки и послать их ему вместе с письмом моим к нему. Вы его просто уведомите, что, имея от меня доверенность мою, как усмотрит он из прилагаемого моего письма к нему, Вы просите его назначить Вам, по возможности немедленно: когда угодно ему будет произвести Вам уплату в том виде, как усмотрит он из прилагаемого мною к нему письма?
Вот и всё. Вся моя просьба к Вам! Угодно ли Вам бесконечно одолжить меня, Аполлон Николаевич? Это последнее одолжение, о котором прошу Вас. Более уже не буду беспокоить моими просьбами. (11)
Выслушайте теперь, Аполлон Николаевич, почему это всё для меня так важно.
Само собою разумеется, что важно для меня и самое получение, в настоящую минуту, всей этой значительной для меня суммы. Тем более, что ни под каким видом Стелловский не может отказаться от уплаты, ибо знает, что заплатит неустойку в 3000, по совершенно точному и ясному пункту контракта. Я потому и прошу Вас так настоятельно и убедительно, что никакой задержки и никаких, чуть-чуть лишь значительных хлопот не предвижу; ибо он никаким образом не посмеет отказаться, зная, чему подвергается.
Но, кроме получения денег, для меня важно и будущее. А во всем этом деле очень и очень может заключаться нечто, (12) могущее повлиять на мое будущее. Именно: Стелловский шельма. Скупив в 1865 году векселя мои (за брата) Демису и мой вексель Гаврилову, он принудил меня тогда сделать с ним этот позорный контракт продажи моих сочинений требованием немедленной уплаты или тюрьмы. Так точно может он поступить и теперь по моем возвращении. Скупив с выгодою, то есть за бесценок, некоторые мои векселя, он может опять лет на семь сделаться собственником моих бывших и будущих сочинений, принудив меня, по возвращении моем, к какому-нибудь контракту, подобному контракту 1865 года. Я даже имею основание это предполагать; раз уже ему удалось, почему же ему в другой не попробовать? Теперь рассудите: если бы он, под каким бы то ни было предлогом, не заплатил Вам теперь этих денег за "Преступление и наказание" (хотя бы, например, объявил Вам, что у него на меня вексель, что будет совершенно незаконно, ибо вексель векселем, а уплату он все-таки произведи), - то я, в будущем, имею против него щит, а именно - требование 3000 руб. неустойки, потому что он, по смыслу контракта, ни под каким видом не имеет права уклониться от законного требования уплаты в ту же минуту, как ее потребуют.
И потому просил бы Вас очень:
Если он от уплаты уклонится, замедлит ответом или предъявит Вам какую-нибудь причину, то чудесно было бы, если б при этом находился еще кто-нибудь свидетелем. Всего лучше и удобнее, по-моему, поступить бы так:
Когда Вы, в первый раз, пошлете ему записку Вашу при моем к нему письме, то прибавьте в записке, что ждете ответа по возможности не далее как в трехдневный срок. Если он Вам ничего не ответит или ответит (что бы там ни было, это всё равно), но не письменно, а лично, то вот тут бы не худо свидетеля. Для этого сделать так: если он уклонится от ответа в трехдневный срок, то послать к нему еще четыре строчки, но не по почте, а с кем-нибудь (можно бы даже взять какого-нибудь ходатая по делам, если будет стоить недорого; я заплачу) и добиться от него ответа (какого бы там ни было), только ответа при свидетеле. Таким образом я буду иметь факт и свидетелей факта, что Стелловский по предъявленному от моего имени законному требованию с него, в силу контракта, денег - их не заплатил. С меня довольно. Он заплатит мне тогда непременно 3000.
Итак, я прошу Вас, многоуважаемый друг мой, всего только добиться от него какого-нибудь ответа и чтоб об ответе этом знало и еще какое-нибудь третье лицо, то есть Ваш посланный. Вот и всё. Хлопотать же о непременном получении денег в случае, если б он стал вилять и отлынивать, - совершенно не надо. С меня довольно будет того, что он, под каким бы там ни было предлогом, не заплатил.
Но повторяю еще раз: предположение, что он не заплатит Вам по первому Вашему требованию и станет вилять, - почти невозможно. Он слишком тертый калач и знает, чему он подвергается. Знает тоже, что я его не пощажу и неустойку с него возьму. И потому не посмеет он Вам не уплатить и не ответить тотчас же на Ваше письмо. А так <как> Вы, кроме доверенности от меня, будете иметь в руках еще подлинную копию с нашего контракта 1865 и дело будет происходить в конторе маклера, то он уже никак не посмеет заподозрить неправильность выданной Вам мною доверенности или что-нибудь в этом роде. Дело будет вестись слишком серьезно, ясно и на открытую. И опять повторяю: если он не захочет уплатить, то добиваться уплаты не надо. Я Вас не посмею обременить такою просьбой. Всего только послать ему четыре строки с извещением и получить ответ.
NB.) (13) Уплата в конторе Барулина (где-то на Невском) делается лишь для его полнейшего удостоверения. Но если он захочет (14) отдать Вам деньги просто под расписку Вашу, без Барулина, - то тем лучше еще; меньше хлопот.
Не откажите же мне, Аполлон Николаевич. Прошу Вас чрезвычайно. Дело не может иметь никаких особенных хлопот, а мне Вы сделаете бог знает какое одолжение!
Буду ждать Вашего ответа. Но по важности для меня дела, прошу Вас, любезнейший Аполлон Николаевич, ответьте мне немедленно по получении этого письма, всего хоть двумя строчками: да или нет?
Анна Григорьевна очень кланяется Вам и Анне Ивановне. Глубокий поклон Анне Ивановне от меня.
Ваш весь Федор Достоевский.
Женился ли Паша?
(1) было: Кто знал
(2) вместо: довериться...... деле - было начато: поручить это
(3) далее было: и выйд<ет>
(4) вместо: получим...... сумму было начато: получится вся сумма
(5) далее было: в форма<те>
(6) далее было: по такому-то пункту контракта
(7) было: в Дрездене
(8) далее было начато: Впрочем, если Вам угодно будет заплатить Ап<оллону> Ник<олаеви>чу следуемую мне сумму за "Преступление и наказание"
(9) далее было начато: Впрочем, в случае если Вы пожелаете заплатить немедленно и просто Ап<оллону> Ник<олаеви>чу Майкову всю следуемую сумму без засвидетельствования маклера на копии или на подлиннике
(10) вместо: осталось бы - было: остается
(11) далее было начато: Получив же
(12) было начато: случай
(13) далее было начато: Если он не
(14) было начато: со<гласится>
403. A. H. МАЙКОВУ
30 декабря 1870 (11 января 1871). Дрезден
Дрезден 30 декабря 1870 года.
Благодарю Вас беспредельно, любезнейший Аполлон Николаевич, во-первых, за Вашу готовность помочь, а во-2-х, за то, что не замедлили ответом. Но так как Вы позабыли выставить на конверте poste restante, то я и получил Ваше письмо только на третий день по приходе его в Дрезден, (1) и почтальон разыскивал меня здесь три дня через полицию. Высылаю Вам доверенность, и не обвините меня в нахальстве, прочтя ее: всё это, как уверяли меня, одна только необходимая форма. Впрочем, такая полнота доверенности и для самого Стелловского будет внушительнее. Эту доверенность Вам надо будет засвидетельствовать в департаменте внешних сношений, кажется (Паша знает), где засвидетельствуют подпись нашего посольства. Кроме того, высылаю Вам подлинную копию с контракта моего с Стелловским в 1865 году. Прочтите, прошу Вас очень, внимательно эту копию, особенно 8-й и 13-й пункты - и Вы увидите всю суть дела совершенно ясно и убедитесь, до какой степени это дело простое и бесспорное. Тут только взять да получить. Да и тяжело было бы мне утруждать Вас более сложным делом. Мое мнение, что чем открытее, (2) проще и суше (то есть строже) Вы поведете дело, тем лучше. Высылаю и письмо к Стелловскому, незапечатанное; прочтите его. Главное в том, чтоб у Вас под рукою был уполномоченный (если надо, я заплачу из полученной с Стелловского суммы, если не много) для того, чтоб он снес Стелловскому это письмо мое с запиской от Вас в четырех строках (но и уполномоченный пусть бы передал письмо мое незапечатанным). В Ваших же четырех строках Вы пригласите его, если он хочет, к Барулину, и чтоб он назначил Вам время для уплаты в конторе Барулина. А то как хочет, но только пусть уплатит под Вашу расписку.
Не заплатить он не может: прочтите 13-й пункт контракта. Но беда, если будет вилять и оттягивать. Тогда пусть уполномоченный Ваш (3) спросит через полицию. Главное в том, чтоб он дал ответ. Конечно, это дело прямое и рано ли, поздно ли, а я с него получу. Но уж как бы хотелось получить теперь! Не хочется просить всё вперед да вперед у "Русского вестника", а иначе и жить нечем.
Повторяю как и в прошлом письме моем: не думаю, чтоб он мог отказаться, да и представить не могу, на каком основании он бы мог это сделать? Но в случае если он откажется от уплаты на каком бы то ни было основании, то покажите, прошу Вас очень, доверенность мою Вам и копию какому-нибудь дельцу: что он скажет? Дело бесспорное и можно бы потребовать сейчас уплаты через полицию. В таком случае, если делец возьмется выиграть наверно дело, то я готов уплатить по окончании дела, если не очень много, говоря сравнительно. (Не может ли Вам прислужить в чем Паша?) (4)
Во всяком случае, повторяю это, я только прошу Вас предъявить Стелловскому мое письмо и четыре Ваши строки и вытребовать у него какой-либо ответ. Вот и всё. А главное, умоляю Вас уведомить меня об ответе его неотлагательно. Это очень важно для меня. Рассудите: или знать, что получу рублей 900, или писать в "Русский вестник" просьбу. Кстати, сделайте расчет. Это в одну минуту: стоит только знать число листов в изданном "Преступлении и наказании" и помножить на то число рублей, в которое обошелся каждый лист издания всех моих сочинений Стелловским в 1866-м году. То же число рублей определяется ясно: надо сосчитать всё число листов всех трех томов издания Стелловским моих сочинений в 1866-м году (разумеется, кроме "Преступления и наказания") (5) и этим числом листов разделить сумму 3000 р. Тогда и определится, что стоит каждый лист. Впрочем, прочтите 8-й пункт контракта, там это ясно обозначено. (6)
Ну вот и всё. В конце концов думаю, что он не откажется, а просто уплатит, разве только повиляет немного. Но, ради бога, уведомьте поскорее.
Да, приехать я непременно хочу и ворочусь весной наверно. Здесь я нахожусь в таком гнусном состоянии духа, что почти писать не могу. Мне ужасть как тяжело писать. За событиями слежу и у нас и здесь лихорадочно и много прожил жизни в эти четыре года. Сильно жил, хотя и уединенно. Что бог пошлет дальше - приму безропотно. Семейство тоже сильно обязывает совесть. Хочется, наконец, и людей видеть. Страхов писал мне, что ужасно всё еще в нашем обществе молодо-зелено.
Если б Вы знали, как это отсюда видно! Но если б Вы знали, какое кровное отвращение, до ненависти, возбудила во мне к себе Европа в эти четыре года. Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы! Ну разве не младенец тот русский (а ведь почти все), который верит, что пруссак победил школой? Это похабно даже. Хороша школа, которая грабит и мучает, как Атиллова орда? (Да и не больше ли?)
Вы пишете, что против грубой силы встает теперь, во Франции, дух нации? Да никогда же я в этом не сомневался с самого начала, и если там не дадут маху, заключив (8) мир, и переждут еще месяца три, то немцы будут выгнаны, и тогда - какой позор! Долго писать надо, а то бы я мог сообщить Вам много любопытного из наглядных наблюде<ни>й, например, как отправляются отсюда во Францию солдаты, как собирают их, экипируют, продовольствуют и везут. Это ужасно любопытно. Дрянная, например, бабенка, проживающая тем, что снимает две комнаты и, меблировав их, отдает их внаем (стало быть, имеет свою мебель на два гроша), за то, что имеет свою мебель, должна дать постой с прокормлением на свой счет десятерым солдатам. Они простоят дня три, два, один, редко неделю, но ведь это ей в 20-30 талеров обойдется.
Я сам читал несколько писем солдатиков немцев из Франции, из-под Парижа, сюда к своим матерям и отцам (лавочникам, торговкам). Господи, что пишут! Как они больны, как голодны! Но - долго рассказывать! Между прочим, наблюдение: первоначально "Wacht am Rhein" раздавалось на улице в толпе часто, теперь совсем нет. Всего больше горячатся и гордятся профессора, доктора, студенты, но народ - не очень. Совсем даже нет. Но профессора гордятся. В Lese-Bibliothek каждый вечер встречаю их. Один седой как лунь и влиятельный ученый громко кричал третьего дня: "Paris muss bombardiert sein!". Вот результаты их науки. Если не науки-так глупости. Пусть они ученые, но они ужасные глупцы! Еще наблюдение: весь здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, глуп, туп, с самыми низменными интересами. Но до свидания, довольно. Обнимаю Вас, благодарю заранее. Ради бога, не забывайте и уведомьте поскорее.
Ваш Достоевский.
Сохраните копию с контракта; это важный для меня документ.
Р. S. На случай если получите с Стелловского деньги, то не переводите через банкира, а просто, застраховав, высылайте сюда мне русскими кредитными билетами, то есть те самые, которые получите. Здесь они хорошо меняются.
Р. S. Если б Стелловский стал предлагать Вам вместо уплаты какую-нибудь (8) другую сделку, например издание "Идиота" и проч., то не соглашайтесь и не слушайте, а требуйте уплаты, без рассрочки.
(1) далее было: так как
(2) было: откровеннее
(3) в подлиннике ошибочно: Вас
(4) далее было: разумеется
(5) текст: (разумеется...... наказания") - вписан
(6) далее было начато: Разумеется, чтоб узнать, что стоит лист, не надо
(7) далее было: в удобную минуту
(8) было: какую-то
1871
404. С. А. ИВАНОВОЙ
6 (18) января 1871. Дрезден
Дрезден 6/18 января 1871.
Милый, добрый друг мой Софья Александровна,
Чуть припомню, с которого времени не писал к Вам, просто страшно становится. Бог знает, что можете вы обо мне подумать все и Вы в особенности? А между тем нет человека, более вас всех любящего и Вам в особенности преданного, чем я. Но поверите ли Вы мне, что у меня буквально ни минуты не было времени написать Вам? Я знаю, Вы не поверите, а между тем это сущая правда. Я всё писал роман и всё никак не могу с ним справиться. Выходит решительная дрянь; а бросить невозможно потому, что мысль слишком мне нравится. Всё разовьется преимущественно в 2-й и в 3-й частях. Но зато первая, по-моему, дрянь, и я раз двадцать (если не больше) ее переделывал и переписывал. В целый год я написал только 8 печатных листов. Для февральского номера послал вчера только половину и дал честное слово, что через 10 дней пришлю окончание этой проклятой 1-й части. А у меня еще ничего не написано.
Эта работа измучила меня и нравственно и физически; чувствую себя даже нездоровым - и поверьте же опять мне, что ни одной минуты не мог уделить, чтоб написать Вам. Минуты, может, и были, но настроение было не то. Не мог, не мог, правду говорю.
Об Вас много думал. Нас разделяют 4 года. Всё воображаю, как свидимся. Весною наверно ворочусь. Анна Григорьевна даже заболела по России, и это мучит меня. Она грустит и тоскует. Правда, она истощена слишком физически кормлением целый год ребенка. С тех пор здоровье ее сильно пошатнулось, а тут тоска по родине. Доктора сказали, что у ней признаки сильного истощения крови и именно от кормления. Последнюю неделю ей даже очень худо. Мало ходит, больше сидит или лежит. Боюсь ужасно. Можете представить мое положение. А между тем не хочет лечиться, говорит, что доктора ничего не понимают. Прописали ей железо, она не хочет принимать. Я совсем теряюсь и с ума схожу. Это положение вообще продолжается уже давно. Можете представить после этого, удачно ли мог я работать?
Я-то, по крайней мере, работаю и тем занят, хотя работа моя мне не нравится и составляет мое мучение. А Аня только тоскует. По обыкновению, помогала мне переписывать до последнего времени; но внутренняя тоска ее, тоска по родине - ничем не изгоняется. Не только надежда, но даже уверенность полная, что весной, чуть степлеет, поедем в Россию; но и надежда не ободряет ее. Доктора говорят, что тоска от болезни. Но (1) ведь это ничему не помогает.
Конечно, Вам, во всяком случае, не может быть понятна вся тоска, всё страдание мое теперь; мы четыре года в разлуке и друг от друга отвыкли; поверьте, по крайней мере, что ни об ком я не вспоминаю с таким чувством, как об Вас.
Люба здорова и весела, милый и смышленый ребенок, любит нас, начинает говорить, всё понимает и уже ходит через всю комнату. Только она нам и отрада здесь. О, поскорее бы к Вам! Как бы не задержало что-нибудь.
Иван Григорьевич передал мне желание милой Марьи Александровны, чтоб ей посвящена была моя работа. Но этого никак нельзя сделать, несмотря на всё желание мое. Я уже отослал первую половину 1-й части, когда получил это желание. Правда, тотчас же хотел было написать в редакцию, чтоб вставить строчку о посвящении, потому что тогда еще наверно не начинали печатать. (2) Но - остановился за совершенною невозможностию посвятить Марье Александровне. В романе (3) (во 2-й и в 3-й части) будут места, которые хоть и можно читать даже девушке, но все-таки нехорошо посвятить ей. Одно из главных лиц романа признается (4) таинственно другому лицу в одном своем преступлении. Нравственное влияние этого преступления на это лицо играет большую роль в романе, (5) преступление же, повторяю, хоть о нем и можно прочесть, но посвятить не годится. Когда посвящаешь, то как будто говоришь публично тому, кому посвящаешь: "Я о Вас думал, когда писал это". Не знаю, может быть, я рассуждаю неправильно. (6) Я еще далеко не дошел до того места, и всё будет, может быть, очень прилично; но теперь все-таки посвятить не решусь.
И потому пусть голубчик Машенька извинит меня и не сердится. Если жив буду, то докажу ей, при следующей повести, как мило мне было и как даже тронуло меня желание ее, чтоб я посвятил ей мой труд. Это не фраза для приличия, а буквальное выражение моего чувства.
Что написать Вам о подробностях нашей здешней жизни? Живем мы скучно, по-монастырски, никаких развлечений, да и нет их здесь, театры подлейшие и везде немецкие гимны фатерланду. Разве иногда на музыку сходим, когда еще Аня была здоровее.
Морозы здесь ударили ужасные, доходило до 20 градусов, и даже и теперь холод. Квартира же нам попалась прехолодная. Здешние печи без заслонок. Топливо идет бессмысленно много, а тепла нет. Немцы хотят лучше мерзнуть, чем перенять у русских печи. Россию здесь ненавидят.
Как ни старались мы уклоняться от знакомств с здешними русскими, которых здесь множество, но не уклонились. Сами собой завелись некоторые. Вообразите, я новый год должен был встретить на бале у нашего здешнего консула. У Ани тоже несколько знакомств с здешними нашими дамами. Средства наши иногда очень плохи, например в настоящую минуту, а уж это дурно при нездоровье Ани. Послал в "Р<усский> вестник" просьбу о деньгах; не знаю, скоро ли вышлют, а ужасно бы надо поскорее. Мало ли что может случиться! Ужасно беспокоюсь. Правда, ожидаю еще получки из Петербурга. Издатель Стелловский издал мой роман "Преступление и наказание". По совершенно точному смыслу нашего контракта (еще 5 лет назад) он обязан мне тотчас же по напечатании заплатить руб<лей> до 1000. Я послал в Петербург доверенность Майкову на получение денег. Но несмотря на все права мои ужасно боюсь, что не получу. Этот Стелловский такой человек, что никогда еще не платил денег без судебного понукания! Если он не заплатит эту 1000, на которую я так рассчитываю, то просто поставит меня на время в самое безвыходное и отчаянное положение. Так что ужасно беспокоюсь и об этом. Деньги дали бы мне средство улучшить домашнее мое положение, а уж как бы это необходимо в теперешнюю минуту.
Люба Вас обнимает и целует и благодарит, что ее любите. Я и Аня ужасно обрадовались, что Вы похвалили ее карточку. Я Вам вышлю другую ее фотографию, потому что из прежней она уже выросла. Аня беспрерывно говорит об Вас, и, знаете что, друг мой Сонечка, мы с ней ужасно часто мечтаем, как мы приедем и Вас выдадим замуж. Это любимый наш разговор. Аня вас мало видела, но любит вас всех чрезвычайно. Перецелуйте всех ваших за меня. Верочку особенно обнимаю и целую. Поздравляю всех с новым годом. Паша прислал мне длинное письмо; объявляет, что он женится, и описал весь свой роман очень мило. Не знаю, жалеть ли или порадоваться его женитьбе. Вероятнее первое. Но, кажется, из него, судя по занятиям его, может выйти дельный мальчик. Дай ему бог всего хорошего.
До свидания, милый друг Сонечка, и, кажется, наверно до близкого. Аня всех вас целует и всех поздравляет. Пожелайте ей поправиться.
Ваш Достоевский.
Напишите мне что-нибудь. Не сердитесь за молчание. Пишите более частных подробностей.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Адресс мой тот же, poste restante.
(1) далее было: так
(2) было: еще печатать
(3) вместо: В романе было: Тут
(4) далее было: 1 слово нрзб.
(5) далее было: и имеет
(6) далее было: Может быть
405. П. А. ИСАЕВУ
6 (18) января 1871. Дрезден
Дрезден 6-го/18-го января 1871.
Я уже давным-давно, милый друг Паша, слышал, что ты женишься (писал Аполлон Николаевич), беспокоился и интересовался о тебе чрезвычайно. Писал к Майкову и спрашивал подробностей, равно как и Ивану Григорьевичу поручил разузнать, когда он уезжал из Дрездена. Но ничего особенного не узнал. Всё покрыто было мраком неизвестности. Тяжело мне было и то, что ты меня не уведомлял: значит, думал я, бросил совершенно и концы отрезал, и мне это было грустно. Кроме того, я имел некоторое основание подумать, что ты питаешь на меня претензию насчет всего этого прошлого дела со Стелловским и дивился твоей раздражительности и самолюбию. Теперь, по письму твоему, слава богу вижу, что всё это не совсем было так (хотя, может быть, и было несколько). Роман в нескольких частях, присланный тобою под видом письма твоего, - чрезвычайно утешил меня и чрезвычайно мило написан. Значит, не без дарований же ты, Паша, если в состоянии так хорошо написать! Суди же теперь, друг мой, если б ты хоть сколько-нибудь прежде поучился, ведь сколько бы ты мог тогда извлечь из своих природных способностей? Сколько бы разнообразного применения могло открыть им образование? Но я уверен, друг мой, что ты не из тех неучившихся, которые мало того, что не доучились или ничему не учились, но еще и презирают образование. Много таких теперь. Но ты наверно на толпу не захочешь походить, хотя бы и "прогрессивную". Совет мой, или, вернее, великая просьба - не оставлять идею об образовании и об учении. Ну что же такое, что ты женишься, чем это может помешать тебе учиться? Чем образованнее человек, тем более он учится, и так всю жизнь. Одна уже неутолимая жажда к знанию, заставляющая, например, великого ученого, в 70 лет, всё еще учиться, - свидетельствует о благородстве и высоте его натуры и о глубоком отличии его от толпы. Для того же, чтоб заняться самообразованием, всегда можно найти время даже и при семейных тягостях и при служебных занятиях. Понемногу, но постоянно и до всего дойдешь. Займись, например, историей, но только систематически, не поверхностно и не урывками и непременно сначала (при этом, разумеется, география), и через два-три года занятий сам увидишь, как расширится круг твоего зрения и повысится уровень мыслей. Отец твой был человек образованный, даровитый, добрый и простодушный. Поверь, что если б не был он образован, то был бы и мнителен, и тщеславен, и раздражителен - и доброта и простодушие его направились бы совсем в другую сторону. Но образование придает еще и великодушие и благородство мысли. Это было в твоем отце. Напоминаю тебе про отца потому, что вижу и всегда видел в тебе большое с ним сходство и очень желал бы, чтоб ты походил на него.
Из письма твоего, если всё правда. (NB. Будь уверен, что я не считаю тебя способным солгать намеренно; можно говорить неправду и без намерения, вполне веруя, что говоришь правду) - вижу, что ты стал дельным человеком и умеешь заставить себя заниматься. Поздравляю тебя от души и рад, как не можешь и представить себе. Дай тебе бог развернуться еще лучше и никогда не ослабевать. Важно то, что ты берешь на себя теперь, кроме вообще человеческого долга, и большой нравственный семейный долг. Ну, брат, справишься ли? Не одни ведь средства к существованию нужны для семейного счастия. Из письма твоего я, по многим фактам, могу заключить, что Надежда Михайловна - девушка с характером твердым и с серьезным взглядом на жизнь. Если (в чем я уверен) она тебя и любит - то как бы хорошо было, если б ее влияние на тебя укреплялось всё более и более, в продолжение всей вашей будущей брачной жизни! Какую пользу это принесло бы тебе. Ты, пожалуйста, пойми меня как следует, Паша. Я не про "мужа под башмаком" говорю. Совсем не то! Нравственное влияние женщины, даже на самого сильного духом мужчину, (1) не только полезно, не только всегда необходимо, но и вполне натурально. Это второе и окончательное воспитание человека. И еще, друг мой: все отношения должны быть всю жизнь основаны на внутреннем взаимном, обоюдном уважении. Боюсь, что ты примешь мои слова за резонерство; а я потому только не утерпел и заговорил об этом, что люблю тебя и со страхом и жалостию думаю иногда: "Как вы оба еще молоды!". Но заметь, я не пророчу дурного. Уж если так случилось, то я надеюсь и радуюсь. Дай тебе бог. Бог-то не оставит, но счастье и от тебя зависит. (2) Видишь, Паша, - нас разделяют 4 года разлуки. Ты сильно ушел вперед в этот срок, и мне даже вообразить трудно себе теперь твою женитьбу, да и всю твою внутреннюю жизнь. Одно только осталось у меня: искреннее, теплое и всегда дружеское соболезнование о тебе, внутренняя забота и любовь к тебе; а стало быть, и желание тебе всего самого лучшего. Кроме того, есть и желание быть тебе полезным и вещественно. Но пока последнее под спудом и неисполнимо, хотя я и не без надежды на поворот моих обстоятельств к лучшему.
Передай от меня Надежде Михайловне мой задушевный искренний привет, поздравление и желание теперь и впредь всего лучшего. Хорошо бы ты сделал, если б прислал нам (с ее позволения) ее фотографическую карточку; да, кстати, и свою бы не забыл, так как четыре года я не видал тебя. А все-таки, Паша, все-таки боюсь за тебя. Хорошо, голубчик, если б ты твердо стал на дорогу, не уставая в труде и развиваясь до всей высоты понимания своих будущих обязанностей.
Пишешь ты о письмах к Ал<ександру> Устиновичу и Порфирию Ивановичу. Друг мой, высылаю их. Так и передай незапечатанные. Но вот в чем дело: не знаю я наверно, насколько основательно то, о чем ты просишь, не знаю ничего и о должности контролера, и потому просить-то я их прошу в твою пользу, но в то же время совершенно не знаю, решатся ли они тебе доставить ее. Уведомь, пожалуйста, как приняли они оба мою просьбу? Прибавлю еще к тому, что ты сильно преувеличил мое на них влияние. Без сомнения, я состоял к ним в отношениях добрых всегда, их любил и уважал. Но опять-таки 4 года разделяют нас, и наконец, я даже виноват перед многоуважаемым Александром Устиновичем еще с издания журнала. (3)
Анна Григорьевна тебя благодарит за письмо и сама хочет тебе ответить и тебя поздравить, несмотря на то, что прихворнула. Да и вообще здоровье ее не совсем хорошо. Люба растет, ходит по комнате, всё понимает и ужасно хочет говорить. Она здорова и милочка, тебя целует и твою невесту.
Не рассердись, не обидься и не посетуй на меня за то, что не сейчас тебе ответил. (4) Очень это меня мучило, но никак не могу. Буквально день и всю ночь сижу и работаю. Запоздал с романом. Туго идет у меня. Бьюсь, рву написанное и переделываю вновь - а потому не мог и письма написать. Я все письма оставил, даже самые деловые и необходимые. Никуда не хожу и никого не принимаю к себе. Много работы.
До свидания, Паша милый, напиши мне, верь моей всегдашней любви к тебе, чем и докажешь, что сам меня любишь. Если пригожусь тебе когда-нибудь в чем-нибудь, то тем буду счастлив.
Твой весь Ф. Достоевский.
А все-таки страшно за тебя; но не сочти за карканье ворона.
Насчет журналов в настоящую минуту никак не могу: должен в оба журнала и совестно просить еще по номеру в кредит. Впоследствии другое дело, то есть в течение года.
Я думаю, я к весне ворочусь в Петербург. Увидимся ли в Петербурге-то? Я очень, очень бы хотел тебя увидеть и обнять.
(1) было: мужа
(2) далее было: на девять десятых
(3) далее было начато: Вот причина и 2 слова нрзб.
(4) вместо: то...... ответил - было: одно важное обст<оятельство>
406. А. Н. МАЙКОВУ
7 (19) января 1871. Дрезден
Дрезден 7/19 январ<я> 1871.
Любезнейший и дорогой Аполлон Николаевич.
Получил Ваше письмецо и очень рад, что Вы получили повестку: это от меня. Повторяю, прочтите копию и увидите весь смысл дела ясно. Но вот что: если Вы семь раз не заставали Стелловского, значит, он раскусил, зачем Вы приходили, и этот факт дает мне уверенность, что он не хочет заплатить, то есть он заплатит в конце концов, ибо не заплатить не может, но - когда? Вероятно, ему выгодно оттянуть уплату на бесконечность, и он будет вилять всеми силами. Поэтому действовать с ним прямо нельзя. Он просто не даст ответа ни на мое письмо (высланное Вам к нему), ни на Ваш запрос и не будет давать до последней невозможности. Вам, стало быть, хлопоты, а я останусь без денег. И потому вот мой совет: сохранив все права поверенного (то есть на прием денег и проч.), о чем особенно прошу Вас, ибо он будет понимать, что за дело взялся честный и влиятельный в литературе человек (а это мерзавцам внушает) - возьмите сами поверенного, опытного ходока (не на процессы, не присяжного поверенного, ибо тут не может быть процесса серьезного), - а ходока, знающего, как взыскать, какую меру понуждения употребить, как действовать, н<а>пример, через полицию - то есть знающего все эти мелкие практические проделки; должно быть, таких в Петербурге много. Паша, разумеется, не способен на это. Тут нужно опытного крючка. И тогда прекрасно. Разумеется, если б только не очень большая плата. Но ведь дело бесспорное, так что можно бы и дешево. Если бы этот поверенный поставил бы его в такое положение, чтоб или платить сейчас, или подвергнуться процессу и уж непременно неустойке, - то, мне кажется, он тотчас заплатил бы. Следств<енно> - всё в умении повернуть дело, так сказать, по-полицейски, то есть чтоб он увидел сразу, что взыскивает опытный крючок. Без сомнения, Вам невозможно взять на себя, (1) а стало быть, и хорошо бы послать поверенного. Но об чем прошу особенно - не оставляйте сами начальничества в деле. Пусть крючок действует Вашим именем, (2) и, кроме того, пусть Вы же и получите деньги собственноручно, не доверяя никому. Вот об чем прошу убедительно.
А поверите ли, любезный друг, что мне ужасно совестно, что втянул Вас в это дело! Смешно извиняться, уж когда втянул, а все-таки совестно.
Что такое "Стук-стук" Тургенева? Я запоздал в "Русский вестник" на февральский номер и работаю день и ночь. Анна Григорьевна захворала, я тоже не совсем здоров. У нас морозы. Печки подлые, немецкие. Мне поминутно мешают работать, (3) завелись некоторые знакомства и лезут, когда мне надо быть одному. Одна дама уже другой раз приходит с тем, чтоб поговорить о русской литературе (русская путешественница). Я не принимаю, она обижается. Есть и другие такие же. До литературы ли мне теперь! Я на нужнейшие письма другой месяц не отвечаю.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Впрочем, что бы ни взял поверенный, я заплачу и жалеть не буду - но только чтоб поскорее получить. Крайняя нужда, особенно теперь!
Неужели в "Заре" до того еще легкомысленны, что не хотят понять факта, режущего глаза и состоящего в том, что выходить в 1-е число месяца аккуратно (и непременно в 1-е) - значит, иметь 1000 подписчиков лишних? Это факт неоспоримый - доказательство "Вестник Европы", старая "Библиотека для чтения" и дом Краевского. Краевский выиграл не Белинским - Белинского после узнали, - а 1-м числом! Неужели этого еще не понимают! После этого не могут они быть издателями и пусть раньше отказываются от дела, чтоб не обанкрутиться совершенно.
На конверте:
Russie, St.-Pйtersbourg. Его превосходительству Аполлону Николаевичу Майкову
В С.-Петербург. По Большой Садовой, напротив Юсупова сада, дом Шеффера.
(1) далее было: ибо Вы
(2) вместо: Вашим именем - было начато: от Вашего имени
(3) далее было: ибо
407. А. У. ПОРЕЦКОМУ
8 (20) января 1871. Дрезден
Дрезден 8/20 января 1871 г.
Милостивый государь многоуважаемый Александр Устинович,
Я сейчас написал добрейшему Порфирию Ивановичу Ламанскому о том, что, вероятно, все добрые люди и все те, которые имели ко мне когда-то расположение, - меня позабыли. Так давно я за границей, да и так мало заслужил, чтобы меня помнили! Перед Вами же особенно мало - еще со времени журнала. Но за журнал я до сих пор наказан, и остатки долгов, лежавших на нем, до сих пор меня давят.
Между тем Вы столько помогли моему пасынку П<авлу> Алек<сандровичу> Исаеву, что, думаю, Вы так же добры и ко мне, как были прежде. Но Вы и всегда ко всем так добры и благодушны! Я к Вам с величайшей просьбой, многоуважаемый Александр Устинович! Не откажите еще раз, и бог вознаградит Вас за это дело.
Я прошу у Вас покровительства Вашего моему пасынку, того самого покровительства, через которое, может быть, он был спасен, укрепившись на твердой дороге прилежания и труда и не уклонившись в худую сторону, в эти четыре года. Моим отсутствием и худым поворотом моих обстоятельств он вдруг остался в Петербурге почти на одних своих силах; но не потерялся и, кажется, научился трудиться. Я знаю, что Вы во многом ему помогли, и бог вознаградит Вас за это.
Он просит меня теперь попросить Вас в свою очередь за него: "нельзя ли оставить его при Департаменте на тех же основаниях, как и теперь, впредь до востребования Государственным банком запроса о нем и его бумаг для перевода его; всё это может состояться в 1871 году в первое полугодие". Я выписал слово в слово из его письма его просьбу; сам же я мало понимаю в ней за незнакомством с делом. Но, подавая Вам это письмо, он объяснит Вам всё лично. Выслушайте его, благороднейший Александр Устинович, и - если возможно только - сделайте для него что-нибудь. Он так одинок на свете и так нуждается в поддержке, особенно теперь, что помощь Ваша ему сама собою обращается в большое доброе дело. Я же Вам буду благодарен бесконечно!
Писал он мне тоже, что хлопочет о месте контролера, в отъезд, в Витебскую губернию. Не понимаю хорошо, что это за место и имеет ли он основание надеяться получить его. Он пишет, что просил об этом Порфирия Ивановича и что Порфирий Иванович не сказал ему ничего о невозможности, и даже напротив. Впрочем, повторяю, пасынок мой Вам сам объяснит, в чем дело. Выслушайте его, многоуважаемый Александр Устинович, и опять прошу - если возможно, помогите.
Примите уверение глубоких и самых искренних чувств моей благодарности и всегдашнего уважения. Слуга Ваш от всего сердца
Федор Достоевский.
408. А. Н. МАЙКОВУ
18 (30) января 1871. Дрезден
Дрезден 18/30 января/71.
Любезнейший Аполлон Николаевич, посылаю и я Вам несколько строк, в ответ на Ваши от 12-го января. Не понимаю, почему Паша не нашел известия в Министерство Иностр<анных> дел в Департаменте внутренних сношений. Сейчас сделал справку в канцелярии посольства: еще от 3-го числа было послано. Посылаю Вам номер, по которому легко найти в один миг, на случай если и до сих пор Паша не отыскивает.
Благодарю Вас чрезвычайно за Ваше уведомление и за господина с густыми бровями на о, взявшегося хлопотать по делу.
Чтой-то не выходят журналы? Это ужас как опоздали. Даже "Русский вестник" еще в Дрездене не получен; прежде всегда январский № выпускал рано. Если случится, что прочтете мой роман, - то пришлите мне, ради бога, Вашу критику хотя бы в 2-х строках. В "Русском вестнике", я слышал, довольны, но я моей первой частью ух как недоволен!
Читаете ли Вы роман Лескова в "Русском вестнике"? Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, - но зато отдельные типы! Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов - то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попиков! Каков отец Евангел! Это другого попика я уже у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически да и посерьезнее.
До свидания, благодарю Вас душевно, а деньги - деньги ужасно нужны, до невероятности. Жена всё прихварывает, а ребенок здоровеет. Что за прелесть Ваша крестница и какой у ней аппетит и какое некапризное, вечно веселое расположение духа. Я еще не видал такого ребенка!
Ваш Федор Достоевский.
409. А. Н. МАЙКОВУ
26 января (7 февраля) 1871. Дрезден
Дрезден 26/5 (1) январ<я>/фев<раля> 71.
Вчера получил Ваше письмо, дорогой друг, и спешу заявить Вам мое воззрение. Во-первых, я ничего не понял в Вашем возражении против 8-го пункта. Вы спрашиваете про срок уплаты, "не обозначенный" будто бы в 8-м пункте, и предвидите крючки у последствия? Но какой же тут срок, когда всё обозначено в чрезвычайной точности и ясности? Вот текст 8-го пункта, вникните: "Если в течение срока сего условия Стелл<овский> пожелает включить в полное издание моих сочинений, предпринимае<мое> им, Стелл<овским>, по сему условию могущие быть мною, Достоевск<им>, написанными и напечатанными в 66 и в 67 годах новые мои сочинения, то Стелл<овский> имеет право издавать их не иначе как с платою по расчету с листа, сколько я, Достоевский, получил с Стелловского за каждый лист при продаже в настоящее время по сему условию полного собрания моих сочинений Стелл<овским>, но с тем, однако... и т. д." (NB. Далее не касается теперешнего дела.)
Итак, что же Вас теперь смущает? Какой еще срок? Сказано: "Стелл<овский> имеет право издавать их не иначе как с платою по расчету с листа..." и т. д. А так как Стелловский теперь уже издал совершенно, то есть напечатал и продает, то, стало быть, и должен заплатить по расчету, обозначенному в 8-м пункте! Вы спрашиваете: с которого же времени считать его обязанным уплатою? Да, разумеется, со дня ОПУБЛИКОВАНИЯ В ПРОДАЖУ! Публикация была сделана в "Голосе" (вероятно, и в других газетах) в конце ноября или в самом начале декабря. Итак, день публикации и есть срок по самому точному, ясному и естественному смыслу 8-го пункта. Или Вас смущает слово издавать? Вы делаете какое-то различие между словами печатать и пускать в продажу. Но если б он только напечатал, а не пускал в продажу, то я бы мог и не знать этого вовсе. И кто же печатает и не пускает в продажу? Издавать значит печатать и продавать. А так как он исполнил оба факта, то есть напечатал и продает, то тотчас же, со дня опубликования, и стал повинен по 8-му пункту, ибо там прямо сказано: "имеет право издавать их! НЕ ИНАЧЕ! как с платою по расчету с листа и т. д.". Вот Вам и срок. Если же я не пришел к нему на другой день публикования требовать следуемой мне уплаты - то в этом (если б я был и в Петербурге) была моя полная воля. Я и по векселю могу согласиться ждать уплаты несколько лет, и все-таки он сохраняет полную силу. Чем же Вы смущаетесь?
Пишете Вы тоже, что надо получить вексель, ибо в векселе обозначится какой-нибудь срок, чем и восполнится пробел (будто бы) 8-го пункта. Напротив, по-моему: настоящий срок есть день публикации в продажу; если же допустите какой-нибудь другой срок, то, значит, сами Вы откажетесь от (2) права на прежний срок (то есть день печати), слишком ясно обозначенный в контракте, значит, добровольно (хотя и обоюдно) согласитесь нарушить 8-й пункт контракта.
И наконец: если Вы уже раз согласитесь взять вексель (в котором обозначится срок), - то зачем Вам понадобится тогда срок и 13-й пункт контракта? Если он дал часть денег, а на остальную часть выдал вексель и Вы согласились принять и приняли, - то тогда, по-моему, он заплатил совершенно, расквитался со мной, разделался совершенно, контракт исполнен и 8-й и 13-й пункты сданы в архив. По векселю ведь он не может не заплатить, ибо он купец и будет в тот же день объявлен банкрутом. Если же не заплатит по векселю, то тогда мой иск на нем будет только по векселю, а дело с контрактом будет все-таки кончено, одним словом, будет уже совершенно другое дело.
И поверьте, что если б был какой-нибудь недосмотр в 8-м пункте, то Стелловский наверно бы им воспользовался и не назначил (3) сам сроком уплаты свое возвращение из Москвы.
Вы советуете согласиться на его условия, то есть на часть денег и на краткосрочный вексель. Да вижу, что нельзя не согласиться. Но, друг мой, не рассердитесь на мое замечание, мне кажется, г-н Цветугин слишком мягко и робко принялся за дело! Ну как же можно три раза ходить и допустить его не сказываться дома? И потом чтоб он осмелился сам предлагать условия, то есть по возвращении из Москвы выдать 1/2 денег, а там вексель и т. д. - то есть точно он имеет право предлагать условия. По-моему, пугнуть бы тотчас же его требованием по закону, чтоб он сейчас догадался, что мы сознаем вполне свое (4) право. Да и не пугнуть только, а прямо по закону потребовать. Это уже вовсе не будет дело или процесс; тут контракт, смысл которого ясен и точен. Ход дела, разумеется, возьмет некоторое время, но уплата будет полная. И сверх того он ни за что не согласится сам спорить и затевать процесс, во-1-х, потому, что не имеет никаких оснований и крючков, чтобы отпереться, всё слишком ясно; а во-2-х, когда его закон принудит заплатить, то, значит, он нарушил 8-й пункт контракта, ибо принужден законом уплатить, а сам не соглашался. Тогда, будьте уверены, он побоится 13-го пункта, и если только увидит, что г-н Цветугин серьезно решается обратиться к закону, то, поверьте, тотчас же окажется дома и тотчас же согласится уплатить всё.
Тем не менее я с Вашим мнением согласен, хотя мне и тяжело это. Пусть он выдаст часть денег и вексель. Но вот мои просьбы покорнейшие и нижайшие, дорогой мой Аполлон Николаевич:
1) Нельзя ли всё устроить как можно скорее! Клянусь Вам, это не пустое нетерпение. Совершенно всё прожил и не имею копейки, а шутка ли сколько ждать! Положим, по первому моему спросу выслали бы из "Р<усского> вестника", но ведь тогда мне не так ловко будет (да и невозможно) спросить у "Р<усского> вестника" тысячи две разом для возвращения, и вот - я опять не возвращусь! На Стелловского же деньги я думал пробиться до весны.
Он сказал Вам: возвращусь в конце января. Но по его манере он устроит так, что хоть и воротится, а все-таки будет не сказываться дома г-ну Цветугину и ему будут отвечать, что еще не воротился, и бог знает, сколько это продолжится. Вот чего я боюсь. Итак, нельзя ли будет избегнуть этого хоть как-нибудь! - вот в чем первая просьба.
2-я) Нельзя ли, чтоб он выдал деньгами (5) по крайней мере половину? Всякий вексель, хотя бы и краткосрочный, для меня всё равно, что нет ничего. Если же невозможно половину, то по крайней мере более трети. Ради Христа!
NB. Всё это, впрочем, оставляю на совершенное усмотрение и решение Ваше, и, ради бога, дорогой друг, не спрашивайте меня особыми письмами о каких-нибудь подробностях, даже и не мелких, ибо всё это берет время. Претендовать и роптать на Вас не буду ни в чем, да и невозможно это. Ведь я знаю, что Вы желаете мне всего лучшего и, кроме того, были так добры, что взяли на себя столько хлопот.
3) Наконец, 3-я просьба (самая важная). Как только получите деньги, то тут же получите и обещанный вексель, в одной даже пачке, вместе, и расписку ему дайте такую: получил в уплату столько-то деньгами, а на остальную сумму векселем. Но только непременно вместе. Тогда дело будет всё кончено; ибо, повторяю, он всё уже заплатит.
4) Паша писал мне прошлого года, что векселя Стелловского можно учесть с потерей от 8 до 10% в Международном коммерческом банке (но не в Государственном банке). Просьба моя: позовите Пашу и узнайте от него об этом точнее, и если только можно учесть, то тотчас же и учтите вексель, а мне пришлите деньгами, ибо я бог знает сколько решусь потерять, только чтоб деньги получить - до такого зарезу они нужны!
Наконец, насчет расчета по листам совершенно на Вас полагаюсь. Разумеется, чем больше содрать, тем лучше. (NB. Но только сколько же вышло листов: 27 с дробью или 28 с дробью?)
Вот, кажется, всё об этом проклятом деле. Не пишу Вам ничего. Если б Вы знали, как я расстроен в эту минуту усиленной работой! Про общество наше прочел с грустию в Вашем письме, а об германских делах - сами знаете теперь, что думать. Более лжи и коварства нельзя себе и представить. Мечом хотят восстановить Наполеона, ожидая в нем себе раба вековечного и в потомстве, а ему гарантируя за это династию, - то есть всё, чего ему надо, дело ясное. Увидите, что если и будет Национ<альное> собрание, то безмерностию своих требований (умышленною) они нарочно заставят Собрание не согласиться и тогда - объявят Наполеона.
Но помните текст Евангелия: "Взявший меч и погибнет от меча". Нет, непрочно мечом составленное! (6) И после этого кричат: "Юная Германия!" Напротив - изживший свои силы народ, ибо после такого духа, после такой науки ввериться идее меча, крови, насилья и даже не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою грубостию! Нет, это мертвый народ и без будущности. А если он жив, то, после первого опьянения, сам, поверьте, найдет в себе протест к лучшему и меч упадет сам собою.
Да и то опять: матерьяльное истощение Германии до того теперь сильно, что вряд ли они вытерпят еще месяца четыре сопротивления.
О, возвратясь из Франции, они будут нам льстить в первые года два! Впрочем, может случиться, что как-нибудь с грубостию проговорятся и раньше.
Дай бог жить царю и России, но будущее действительно хлопотливо относительно Европы.
До свидания, дорогой друг, не рассердитесь за мои возражения.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
Р. S. Если б Стелловский прежде уплаты стал бы вдруг предлагать новые условия, то есть покупку моих позднейших сочинений и проч., то не слушайте, ради бога, а требуйте денег, одним словом, не давайте ему затягивать дела.
(1) так в подлиннике
(2) далее было: прежнего
(3) далее было: Вам
(4) было: своего
(5) было: деньги
(6) далее было: Каков
410. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
1 (13) февраля 1871. Дрезден
Аня, милый мой голубчик, не переписывай то, что вчера стенографировали; я решился совсем это уничтожить. Но взамен, если не очень отяготит, перепиши самый последний листок (возьми в "Русском вестнике"). Если же, например, будешь чувствовать себя нездоровой, то и не переписывай: я просто вычеркну. Заметь, что это надо только к 5 часам, а потому не надрывай себя и не спеши очень. Неугомонную Любку целую, равно как и господина N.
N., находящегося покамест в тесном уединении и неизвестности и покамест еще молчаливого, но который задаст себя знать, как и Любка.
Тв<ой> Ф. Достоевск<ий>.
1-е февраля. 4 3/4 часа.
Разбуди меня в 2 часа, но загляни ко мне раньше.
411. H. H. СТРАХОВУ
10 (22) февраля 1871. Дрезден
Дрезден 10/22 февраля 1871.
Обращаюсь к Вашему доброму, тонкому и всегда почти верному пониманию людей и вещей, любезнейший и многоуважаемый Николай Николаевич, и попрошу Вас быть настолько ко мне добрым, чтобы не оставить меня в некотором неприятном недоумении.
В октябрьском или ноябрьском (а может, и в декабрьском - виноват, не имею под рукою) номере "Зари" за прошлый год были помещены 2 статьи одного г-на Константинова. В одной из этих статей он, для подкрепления одного мнения, выставляет на вид, что журнал "Время" и некоторые другие журналы известного направления имели малый успех. "Время" имело в первый год более 2500 подписчиков, а на третий год (год запрещения) до 4500 подписчиков. Книги редакции целы до сих пор; целы и свидетели. Даже Базунов может засвидетельствовать. К чему же наездничать, как г-н Константинов, и извращать факты? Он не церемонится с фактами: ему так надо, и он утверждает как о верном о том, чего не знает. Признаюсь Вам, многоуважаемый Николай Николаевич, что мне было тяжело с этим встретиться в "Заре". Тут не самолюбие говорит. Когда третьего (1) года Писемский в своем романе, в "Заре", поместил оба мне несколько брезгливых отзывов как о литераторе, я только посмеялся натуре и нетерпению (2) Писемского и нисколько не претендовал на журнал, который, пожелав напечатать у себя мою повесть (о чем и заявил мне и публике) и прежде чем поместить обо мне хоть какой-нибудь отзыв, - дал у себя место плевку на меня другого писателя. Но теперь мне обидно; журнал "Время" был столько же моим делом, сколько и брата. Редакторами мы были оба. Успех журнала был неслыханный. Только два журнала имели такой успех сразу: первоначальная "Библиотека для чтения" и первоначальный "Современник". Я не считаю малодушием и тщеславием, что (3) гордился этим. Извращенный факт вредит и истории литературы: (4) теперь уже есть, стало быть, (5) свидетельство "Зари" (в которой много прежних сотрудников "Времени") о том, что "Время" не имело успеха. Пусть этот факт и ничтожен для истории русской журналистики, согласен; но ведь и он может понадобиться; ведь понадобился же этот факт г-ну Константинову в подкрепление какого-то мнения? Собственно для меня же, признаюсь Вам, этот факт имеет и некоторое личное значение: на меня до сих пор есть обвинение некоторых людей, что я будто бы разорил брата, отвлекши его от прежних торговых занятий и уговорив его, вместо того, (6) издавать журнал. Обвинение это произносится с горечью, и те, которые произносят его, с книгами редакции "Времени" справляться не будут. Строчка же в журнале (строчки так мало, так легко прочесть ее) сильно подкрепит обвинение на меня (7) в их же совести. Между тем брат получил за три года с журнала по крайней мере 65 тысяч чистого барыша, и если умер без копейки и в долгах, то ведь это уж совсем не касается до журнала.
У этого же г-на Константинова написано в той же статье, что статья "Роковой вопрос" умно написана, но бестактно напечатана. Эти жалкие бестактные редакторы заставили, однако же, читать свой журнал всю Россию (4500 подписчиков - это вся Россия, по крайней мере тогда). К тому же Вам, многоуважаемый Николай Николаевич, лучше всех известны обстоятельства напечатания этой статьи. Мое мнение до сих пор не изменилось: не статья была напечатана (8) бестактно, а донесено было о ней бестактно, теми людьми, которые и не прочли ее всю, а дочитали уже после. Г-ну Константинову, видимо, известно, что Вы знаете все обстоятельства этого дела и что Вы из главных сотрудников в "Заре": (9) статью он находит умною, но в пострадавших и беззащитных людей (ибо как же мне защищаться гласно, то есть печатно, и доказать, что такая статья напечатана не бестактно?) - кинул ругательством. Он совершенно знал, что (10) нельзя ему будет ответить. Ловкий человек.
Итак, кто же этот наездник, нашедший в "Заре" такое гостеприимство? Гостеприимство же действительно чрезвычайное: у него под Ватерлоо разбивает Наполеона Блюхер (которого там и не было), и "Заря" всё это поместила у себя без оговорки и (11) без возражения.
Простите меня за мою хандру, Николай Николаевич; всё это слишком лично - я сознаюсь. Мне надо было бы пропустить без внимания; потому что пустяки. Но как-то горечь укоренилась в сердце и не лезет вон. Не знаю, тщеславие ли это, малодушие ли, - но мне очень больно почему-то было прочесть, что бывшая деятельность моя (как журналиста), в которую я втянул и брата, бестактные, неудавшиеся пустяки и ничего больше.
Я давно хотел написать Вам об этом, тогда же, как прочел; но сильно был занят. Теперь опять сажусь за работу. Почти некогда читать, но очень жалею, что не удалось прочесть Вашей статьи о русской литературе в "Заре". (12) Редакция исключила меня из числа своих подписчиков на этот год и не прислала номера (Вам, конечно, неизвестно, что я не даровой номер получал, а в кредит, до общего расчета с редакцией моими сочинениями, стало быть, я все-таки был подписчиком "Зари"). Никак не могу понять, за что меня исключили? Нахожу только два возможные объяснения: или недоверие к моей состоятельности в уплате, так как я и без того много должен в редакцию, или некоторое враждебное ко мне чувство редакции за то, что не мог сдержать обещания насчет статьи. Признаюсь, что вторую причину я искренно отвергаю - это было бы слишком, то есть не неприязненное чувство редакции отвергаю, а этот способ дать (13) мне его почувствовать. Редакция "Русского вестника" в конце 69-го года и в начале 70-го питала ко мне чувства неприязненные за то, что я на 70-й год, несмотря на обещание, ничего не прислал им, а отдал в "Зарю", но, несмотря на это и на то, что я оставался должным "Р<усскому> вестнику" до 2000 руб., они все-таки не лишили меня журнала, а продолжали присылать постоянно.
Неужели же до такой степени на меня сердятся? Между тем в газетных объявлениях я выставлен в числе сотрудников. Это значит: "Задолжал, так не отвертишься; все-таки дашь повесть, как бы тебя ни третировали". Неужели так это? Но чем же иначе объяснить?
Пишу это Вам одному, Николай Николаевич. Ведь настолько-то, может быть, уважаете же Вы меня, чтоб не подумать обо мне, что я, просто-запросто, хочу теперь (14) через Ваше посредство выканючить себе книжку "Зари", не имея чистых денег на подписку? К самой же "Заре" мне совестно обратиться в таких обстоятельствах, а стало быть, до лета просижу без "Зари". Мне всё обходится дороже, чем другим. Боже, что другие-то литераторы делают с редакторами, да еще нарочно, а не потому, что нужда колотит в загорбок молотом, и им всё сходит (Тургенев, например, с Катковым, когда печатались "Отцы и дети", и не из нужды, а из жадности). (15)
Еще раз простите меня за это письмо. Жалобы, дрязги - какая гадость! И эту-то гадость я Вам посылаю вместо письма! Не сердитесь. Или лучше так: сперва выбраньте меня, а потом скажите: "Ведь и он капельку справедлив".
Здоровы ли Вы? Черкните мне хоть что-нибудь когда-нибудь. Неужто и Вы на меня так сердитесь?
Весь Ваш искренно Ф. Достоевский.
(1) было: прошлого
(2) и нетерпению вписано
(3) было: того что
(4) вместо: истории литературы - было: литер<атуре>
(5) стало быть вписано
(6) вместо: вместо того - было: вместо них
(7) на меня вписано
(8) вместо: не статья...... напечатана - было: не напечатана...... статья
(9) и что Вы...... в "Заре" вписано
(10) далее было: ему
(11) вместо: без оговорки и было: а. без малейшего б. без очевидного
(12) далее было: Вы знаете
(13) вместо: этот способ дать - было: способ этим дать
(14) теперь вписано
(15) далее было: Но что <?>
412. А. Н. МАЙКОВУ
25 февраля (9 марта) 1871. Дрезден
Дрезден 25 фев<раля>/9 марта 1871.
Многоуважаемый Аполлон Николаевич, не удержался и беспокою Вас опять, слишком тяжело оставаться в неизвестности, да и вредно мне: всё ожидая - не знаю, что предпринять. Уведомьте, прошу Вас очень: ожидать ли мне чего-нибудь? Мне приходит на мысль, что, может быть, еще Стелловского нет в Петербурге. Не получая от Вас решительного слова о том, что дело лопнуло, полагаю, что Вы еще питаете надежду. Но надежда иногда ужасно тяжела п прямо вредит интересам; нечего делать, решусь написать в Москву. Но так как это может вконец разорить мой план возвращения весной в Петербург (потому что, забрав теперь, в неурочное время, деньги из "Р<усского> вестника", лишу себя возможности спросить к весне известную сумму) - то подожду еще Вашего ответа на это письмо и тогда только рискну написать в "Р<усский> вестник". И потому, ради бога, ответьте, добрейший Аполлон Николаевич.
Да не сердитесь ли Вы уже на меня? Это может быть: слишком уже надоедаю я Вам. Я просил Вас в последнем письме не стеснять себя моим мнением и действовать в высшей степени по единому Вашему усмотрению. Повторяю теперь то же самое: как бы Вы ни решили это дело - я всем останусь доволен - лишь бы этот негодяй хоть что-нибудь отдал. Слишком сам понимаю, каково с ним иметь дело.
Я не совсем здоров и почти не могу писать. Пересмотрел первые книжки журналов (здесь почти все они есть): не бог знает что. В наших журналах всё еще лучше. А в тех только старая песня - ассоциации, да рабочие, да Лассаль, или искажение русской действительности в разных обзорах. А что хваленый суд? Читаю теперь дело Дмитриевой - оправдали! Кулики! Задолбили по писанному. Нет, видно, всего труднее на свете самим собою стать.
А ведь чуть ли теперь, по заключении мира, не станет еще любопытнее в Европе. Года с три нам будут ужасно льстить и улещать нас. Во Франции же, кажется, начнется междоусобная война городов с поселянами. Бисмарк пронюхал дело и сам пожелал там республики - для порядку. Провалится Франция. Разве спасет себя - выберет короля построже. Что же касается до перемены политического воззрения в французских головах (на что так наивно надеется Данилевский в своей статье), то никогда этого не будет, или очень долго не будет. Не такие головы, чтобы отказаться (1) могли от ненавистного взгляда на Россию. И сами себя погубят. Таких даже и не жалко.
Услышьте же мольбу мою и ответьте мне что-нибудь, чтоб хоть знать. Главное - поспешите ответить. Положения моего не описываю; не стоит.
Ваш искренний Федор Достоевский.
Р. S. Что такое "Беседа"? Получил приглашение сотрудничать. Разумеется, отвечал, что с чрезвычайным удовольствием. Уведомляют, что выслали книжку журнала; но еще не получил. Любопытно очень. Но Ваше мнение?
Кстати, ради бога, не забывайте написать poste restante. Иначе я совсем не получу письма. Январская книжка "Зари" 5 дней путешествовала по городу и попала к другому лицу, потому что забыли написать poste restante.
(1) далее было начато: мысли<ть>
413. А. Н. МАЙКОВУ
2 (14) марта 1871. Дрезден
Дрезден 2/14 марта/1871.
Любезнейший и многоуважаемый друг Аполлон Николаевич, прежде всего о нашем нескончаемом деле.
Я решился его окончить, то есть начать иск судом. И труднее иски выигрывались, а мое право по контракту несомненное. Одним словом, вот чего я желаю и на чем порешил безвозвратно: так как иск дело такое, которым я Вас утруждать не смею, да к тому же Вы и не адвокат, то прошу Вас изо всех сил: передоверьте (так как Вы имеете право на то по доверенности от меня) дело какому-нибудь известному адвокату (Спасовичу, Архангельскому или тому подобное) - чего бы ни стоило, и пусть тот тотчас же начнет против Стелловского формальный законный иск в получении денег (причем сумму надо обозначать по расчету листов; если будет ошибка, то суд решит). Впрочем, адвокат знает, как сделать. Главное, сообщите адвокату копию с контракта и попросите его особенно изучить пункты 8-й и 13-й. 13-й - главное, ибо я хочу требовать неустойки. Вот это-то и прошу Вас сообщить адвокату.
Главное, надо констатировать, что Стелловский не хотел уплатить, иначе нельзя будет и искать по 13-му пункту. Но адвокат, вероятно, начнет с того, что потребует с Стелловского формально всей уплаты чистыми деньгами (без векселя). (Это делается, кажется, с помощию полиции - впрочем, не знаю. Адвокат знает.) И если Стелловский откажется, например, в трехдневный срок уплатить, то и начать иск по 13-му пункту, то есть требовать сверх уплаты и неустойку. Если же заплатит, то черт с ним и с 13-м пунктом. Тогда дело кончено.
Итак, вся моя просьба к Вам: 1) (1) немедленно передать и передоверить всё дело адвокату, но только хорошему и чего бы это ни стоило.
2) Сделать это без малейшего промедления и не опасаясь нисколько за мои интересы. (NB. Ведь по закону адвокат получает плату по окончании дела - так, кажется? Так что Вас ничто не остановит.) Но, ради бога, сделайте без малейшего промедления, сейчас по получении этого письма. Не сомневайтесь ни в чем: ведь это мое собственное желание, и если я сгублю мои деньги, то ведь я сам того хочу. И потому, ради бога, передайте адвокату. Если у Вас сохранены еще мои письма к Вам при начале дела, то при передаче адвокату дела - прочтите ему или дайте прочесть некоторые места из этих писем, чтоб он видел мой взгляд.
Наконец, 3) можно еще раз попробовать до адвоката собственными силами. И для того по получении этого письма вот бы как сделать: напишите, дорогой друг, сейчас же самую лаконическую записку Стелловскому (без мнительности и ничего не опасаясь за мои интересы), что я желаю начать иск по закону и потому Вы в последний раз обращаетесь к нему, Стелловскому, приглашая уплатить. При этом в записке назначьте ему (пожалуйста, посуше и неумолимее, формальнее) день, н<а>прим<ер> послезавтра, и чае, в который он может Вас застать дома и принести все деньги. Тут же прибавьте, что дальше этого дня и часу Вы ждать не будете и не хотите и что так я требую.
Будут два случая: или Стелловский не придет к Вам, тогда тотчас же к адвокату и начинать иск. Или Стелловский придет и заплатит. Тогда взять с него деньги или все, или не менее половины; вексель же (если предложит, в случае половины, вексель) не длиннее как на 3 месяца ни за что.
Или Стелловский придет без денег и начнет требовать, тянуть, делать предложения. В таком случае ничего не слушайте. А если попросит отсрочки (н<а>прим<ер>, скажет, что через 2 недели получит и заплатит) - то ничего не слушайте. Самую большую отсрочку дайте ему до завтра, то есть еще на день. И ни часу долее. Ради бога (это главное для иска), не входите с ним при этом в какие бы то либо разговоры и рассуждения по делу.
Наконец, если уж и начнется иск, а Стелловский во время иска, но до суда явится с деньгами, что несомненно; ибо, поверьте, не захочет иска, то тогда сам адвокат будет знать, как решить.
Главное же, не тяните; сделайте буквально так, как я Вас прошу. Ведь деньги мои, ведь я сам желаю так сделать, и если я потеряю их моим способом действий - то ведь Вам всё равно: я сам хотел. Сделайте же буквально так, как я прошу (и без всяких мнительностей, без предварительных разузнаваний, посещений Стелловского, подсылок к нему, справок и проч.). Ради бога, буквально так, как я прошу. И не теряйте ни одного дня.
Иначе Стелловского Вы до того избалуете разными послаблениями, что дурак он будет, если отдаст. (2)
Ради бога тоже, не справляйтесь у меня и не требуйте от меня разрешений, чтоб не тянуть дела. Сделайте буквально, как я прошу теперь вот и всё.
NB. Сроку не давайте ему в Вашей записке более 2-х дней, ни за что, ни за что! И сейчас к адвокату.
Адвоката же, опять повторяю, возьмите хорошего (отнюдь не господина с густыми бровями, а настоящего адвоката. Знатный адвокат, хоть и пустое мое дело, - но, может быть, возьмется, потому что дело литературное, даст огласку, и потому не откажется.)
Главное, буквально, как я прошу, без смущений, без вопросов и не опасаясь за мои интересы. Ради бога так.
Лестный Ваш отзыв о начале моего романа привел меня в восторг. Боже, как я боялся и боюсь. Когда прочтете это - вероятно, уже прочтете и вторую половину 1-й части в февральской книжке "Р<усского> вестника". Что-то скажете? Боюсь, боюсь. А за дальнейшее - просто в отчаянии, справлюсь ли. Кстати, ведь всего будет 4 части - сорок листов. Ст<епан> Т<рофимови>ч лицо второстепенное, роман будет совсем не о нем; но его. история тесно связывается с другими происшествиями (главными) романа, и потому я и взял его как бы за краеугольный камень всего. Но все-таки бенефис Степана Трофимовича будет в 4-й части: тут будет преоригинальное окончание его судьбы. За всё другое - не отвечаю, но за это место отвечаю заранее. Но опять повторяю: боюсь, как испуганная мышь, Идея соблазнила меня, и полюбил я ее ужасно, но слажу ли, не из<->няю ли весь роман, - вот беда!
Вообразите, что я уже получил несколько писем из разных концов с поздравлениями (3) за первую часть. Это ужасно, ужасно ободрило меня. Но без лести к Вам прямо говорю: Ваш отзыв для меня больше всего стоит. Во-1-х, Вы уже не польстите мне, а во-вторых, у Вас, в отзыве Вашем, проскочило одно гениальное выражение: "Это тургеневские герои в старости". Это гениально! Пиша, я сам грезил о чем-то в этом роде; но Вы тремя словами обозначили всё, как формулой. Ну, благодарю Вас за эти слова: Вы мне всё дело осветили.
Ужасно туго работается, чувствую себя нездоровым, и наступает для меня очень скоро частый период припадков. Боюсь не поспеть в срок, опоздать. Не хотелось бы портить поспешностию. Правда, план хорошо составлен и изучен, но поспешностию можно всё испортить.
Непременно решился воротиться весною. То-то наговоримся. "Беседу" получил: что-то далее будет. Эстетического отдела нет вовсе, это правда Ваша. Чем "Заря" хуже какого бы то ни было журнала? По-моему, лучше. Но беспорядок и неумелость редакторской части (вот увидите) похоронят ее. С мнением Вашим о Страхове не согласен: это единственный критик в наше время. Строгая критика - ведь это специальность "Зари". Выждав время и улучшив редакторскую часть - взяли бы свое. Пусть "Беседа" существует, по-моему, она вовсе не могла бы повредить "Заре" конкуренцией. Но она повредит. До свидания. Благодарю Вас за Ваши добрые ко мне чувства. У нас распускаются почки, совершенное начало весны. Но до свидания и скорого.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Ради бога, не забывайте, черкните иногда мне строчки две.
(1) далее было начато: след<ует>
(2) далее было: Вы
(3) далее было начато: об
414. H. H. СТРАХОВУ
18 (30) марта 1871. Дрезден
Дрезден 18/30 марта 1871 г.
Во-первых, многоуважаемый Николай Николаевич, простите меня, что так долго не отвечал на письмо Ваше. Всё произошло от обстоятельств. Некоторое время хворал, а главное, тосковал после припадка падучей. Когда припадки долго не бывают и вдруг разразится, то наступает тоска необычайная, нравственная. До отчаяния дохожу. Прежде эта хандра продолжалась дня три после припадка, а теперь дней по семи, по восьми, хотя сами (1) припадки в Дрездене гораздо реже приходят, чем где-нибудь. Во-вторых, тоска по работе: мочи нет, как туго пишется. Надо в Россию, хотя и совершенно отвык от петербургского климата. Но все-таки, во что бы то ни стало, а надобно воротиться.
Но нечего пересчитывать; все эти тоски, одним словом, всё отвлекало меня, и только теперь сажусь поговорить с Вами, хотя, после письма Вашего, чрезвычайно много о Вас думал.
Вы не можете представить себе, какие грустные и тяжелые соображения пришли ко мне по прочтении письма Вашего. Что же это такое? Всё, чем была оригинальна "Заря", что давало ей свой особый индивидуальный вид между другими журналами, - всё это найдено у них (2) препятствием к успеху. И это единственный русский журнал, в котором оставалась чистая литературная критика! Да именно потому, что все бросили ее, она и нужна теперь. Она давала "Заре" свою физиономию. Они испугались говору и насмешек. Напротив, чаще, в каждом номере, нужно было настаивать на своей идее, и будущность была бы за ними. Не знаю, как другие, а я по получении "Зари" каждый раз разрезывал прежде всего Ваши статьи и упивался ими. Разумеется, иногда не во всем соглашался (например, в приемах, в тоне, то есть в излишней мягкости Вашей, и, кроме того, в преувеличении некоторых явлений литературы и жизни*) - но интерес был всегда чрезвычайный. Ваша статья о Карамзине (3) так глубока и так мужественно-откровенна, что я порадовался здесь, что еще раздается у нас такой голос. Вы мне что-то вскользь писали тогда, но я и сам кое-что читал потом, и, сколько могу судить, ее, кажется, осудили как ретроградную. Уж не редакция ли Ваша вместе с другими?
Во всяком случае Ваш голос замолчать не может и не должен. Без сомнения, то, что Вы мне сообщили о Ваших новых отношениях к "Заре", - есть полуотставка. Что же, Николай Николаевич, как же Вы решаетесь? Месяца через три-четыре мы, может быть, увидимся и тогда наговоримся вдоволь, но покамест, без сомнения, продолжать покамест в "Заре", напечатать там еще несколько превосходных статей, а к осени серьезно подумать о своем положении. Ведь если Вы не утвердитесь в "Заре" на прочных и совершенно приличествующих Вам основаниях, то годится ли Вам оставаться? (Я вовсе не амбицию имею в виду; я хлопочу о критике, о существовании у нас литературного органа с здравой критикой.) Что же, если "Заря" сама ее находит не так нужною?
Я надеюсь, Николай Николаевич, что я пишу Вам теперь конфиденциально и что письмо это останется между наших четырех глаз. Кстати: Вы написали в письме Вашем, чрезвычайно вскользь, что хотите сесть за литературные воспоминания. Что это будет? И будет ли что-нибудь? Вы упомянули о времени издания нашего бывшего журнала, об Ап. Григорьеве, о нас. Я слишком понимаю, что эта полоса жизни могла резко, а может быть, и приятно (как воспоминание Вашей молодости) отпечататься (4) в Вашей памяти. Но об этом не рано ли слишком писать, да и интересно ли в данный момент? Думаю, что и рано, да и неинтересно будет для других. H однако, мне прошло вот что в голову:
Действительно, какое-нибудь значительное, серьезное сочинение, вне Ваших обыкновенных критических статей (то есть главное не в этой форме), а что-нибудь новое, хотя бы и действительно в историко-литературном роде, было бы прекрасным теперь для Вас предприятием. (NB. Я с чрезвычайным наслаждением, например, прочел Ваши горячие, превосходные страницы в статье о Карамзине, где Вы вспоминаете о Ваших годах учения.) Если "Заря" оставляет Вам теперь столько свободного времени, то к осени Вы бы могли что-нибудь приготовить. Что Вы думаете о "Беседе", например? Там совершенно нет литературной критики, но мне кажется, они ни за что не отказались бы напечатать приготовленное Вами летом сочинение, а это бы могло послужить дальнейшим шагом. Я не хочу изворотов и виляний в изложении Вам моей мысли и потому скажу прямо: это не может быть изменой "Заре". Я не подговариваю Вас оставить прежнее знамя и бежать под другое. Но согласитесь же сами, что тут всё, всё заключается в разрешении вопроса: хочет Вашего сотрудничества сама "Заря" или не хочет? Уважает ли его или нет? А ведь это непременно должно в скором времени совершенно выясниться.
Что касается до "Беседы", то я решительно не знаю, что это будет такое, хотя первый номер и прочел. Они мне прислали журнал и просили сотрудничества. Разумеется, с величайшею готовностию буду сотрудничать, если будет время. Я-то уж нигде и ничем не связан, кроме долгов. Но деньги вещь не столь деликатная и совершенно восполняются деньгами же. (Это не значит вовсе, что я не думаю о моей повести в "Зарю"; думаю, очень думаю и во что бы то ни было доставлю.)
Опять повторю: жду с чрезвычайным желанием и даже волнением момента встречи с прежними близкими людьми в Петербурге. Но еще одна просьба, кстати: не говорите, если случится, утвердительно кому-нибудь о скором моем приезде. Я бы желал, чтоб хоть одну первую-то неделю после прибытия мои кредиторы оставили меня в покое; жду, что так и накинутся, и боюсь, потому что денег не имею, а всё только надежды.
Черкните мне что-нибудь, Николай Николаевич, я человек Вам преданный и Вас уважающий и говорю Вам это вполне искренно. Адресс мой здесь покамест всё один и тот же (poste restante непременно).
Не пишется, Николай Николаевич, или пишется с ужасным мучением. Что это значит - я понять не могу. Думаю только, что это - потребность России во что бы то ни стало. Надо воротиться. Чрезвычайно благодарю Вас, что не забыли написать мне о моем романе. Ужасно Вы ободрили меня. С замечанием Вашим о тоне в высшей степени согласен; я мучился долго этой невыдержкой тона. С возвращением в Россию придется перервать даже работу. Во всяком случае в нынешнем году роман кончу.
Благодарен Вам тоже за некоторое разъяснение моих недоумении. Если б пришлось повторить, я бы не написал Вам того письма. Я был тогда в ужасном, болезненном нервном раздражении.
Где Вы будете жить летом: в городе или на даче? Хорошо бы, если бы я заране знал. Мне кажется, я явлюсь в самую середину лета. А какие хлопоты с переездом, дорогой Николай Николаевич! Уехали мы сам-друг с молодой женой, а теперь хотя возвращаюсь с такой же молодой женой, но и с детъми! (Секрет: одной 1 1/2 года, а другой еще X, Y, Z.) Каковы же хлопоты переезда!
Вам преданнейший и весь Ваш
Федор Достоевский.
* Я не про Льва Толстого говорю.
(1) сами вписано
(2) было: у нас
(3) далее было: 1 слово нрзб.
(4) было начато: отр<азиться>
415. А. Н. МАЙКОВУ
19 (31) марта 1871. Дрезден
Дрезден 19 марта/1 апреля (1) 1871.
Любезнейший и многоуважаемый друг Аполлон Николаевич,
Сделайте, ради Христа, так, как я Вас просил, и передайте дело адвокату. Послав Вам последнее письмо, я думал, что наконец-то дело двинется, а между тем вот опять переписка и опять движение дела затянулось на месяц.
Не только дисконт, но и многое другое было бы очень хорошо. Но ведь Вы сами знаете, что всё невозможно. Ни Вы, ни я не понимаем ничего в дисконте. Вы начнете мне писать, прося моего мнения, и дело опять затянется. Да и, наконец, почем знать, что Стелловский не надует с дисконтом?
И потому одно прежнее решение: передайте адвокату, которого сами выберете. (2)
Простите меня, голубчик, что не могу отвечать Вам на Ваше превосходное, оживившее меня письмо. Меня Ваши письма оживляют здесь, знаете ли Вы это? Но в настоящую минуту решительно раздавлен работой. Просрочил - не по лени, а потому, что ничего не пишется. Только раздражение нервов и мука. Надо в Россию, а здесь раздавила тоска. Думал отослать в "Русский вестник" листов 6, а и трех не будет. Мартовская книжка явится без моего романа. Осталось несколько дней до отсылки. Хотелось Вам отвечать много и подробно на кое-что; не могу.
До свидания, обнимаю Вас и говорю: "Христос воскрес". Жена Вам кланяется, а крестница здорова в высшей степени и нас ужасно радует. (3) Прилагаю требуемое Вами письмецо поофициальнее.
Ваш весь Федор Достоевский.
Адвоката какого сами выберете; на Вашу волю. Я ведь никого не знаю.
(1) так в подлиннике
(2) далее было: Для чего Вы не сделали, как я просил Вас?
(3) далее было: Напишу Вам
416. А. Н. МАЙКОВУ
19 (31) марта 1871. Дрезден
Дрезден 19 марта/1 апреля (1) 1871.
Многоуважаемый Аполлон Николаевич,
После трехмесячной нашей возни с Стелловским я наконец совсем убедился, что он добром не расплатится и что лучше действовать, прибегнув к закону. Я уже просил Вас передать дело адвокату - разумеется, не на крайне невыгодных для меня условиях. Пусть подробно прочтет контракт и особенно 8-й пункт контракта. Дело плёвое, совершенно законное, ясное. Мне кажется, адвокату следовало бы начать (2) простой просьбой к Стелловскому уплатить, пригласить уплатить, - но сделать это как можно официальнее, то есть в том смысле, чтоб было чем уличить потом Стелловского, что его приглашали уплатить, но он не заплатил.
(NB. Ваше мнение, что у Стелловского нет денег, по-моему, совершенно ошибочно. Этот человек во всяком случае может достать их. По смыслу контракта он должен был приготовить уплату за напечатанный мой роман на другой же день, как публиковал в газетах о выпуске его в продажу, то есть 4 месяца назад. Он не имеет права отговариваться, а денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых.)
Вы спрашиваете моего окончательного мнения насчет пункта о неустойке. Но если Стелловский, на приглашение адвоката заплатить, в условленный короткий срок (или там как адвокат найдет удобнее; совершенно на его соображение) не заплатит и по суду его можно будет уличить, что он не заплатил, то, разумеется, можно начать особый иск и о неустойке в 3000. Но я бы рад был и тому, если б адвокат поскорее взыскал с него просто уплату (по 8-му пункту) по расчету, ясно обозначенному в контракте, тогда бог с ней, с неустойкой!
Что же касается до огромности неустойки, то, право, Стелловский стоил бы этой кары. Не я выдумал эту неустойку, а он ее включил в контракт и уж наверно спросил бы с меня всё до копейки, все три тысячи, если б я не исполнил какой-нибудь пункт контракта. Вы знаете ли, при каких обстоятельствах был написан этот контракт? Он пустил на меня Демиса и Гаврилова с векселями, которые я переписал на себя (3) по долгам покойного брата, а с другой стороны предложил мне 3000 за мои сочинения, за которые Базунов дал бы осенью шесть, но летом денег не имел. Я продал сочинения, да еще написал для них новую повесть в 1000 руб. (я беру 150 руб. с листа). И потому, если б теперь я взял с Стелловского неустойку, то воротил бы только свое, да и то с большим убытком.
Вообще же пусть адвокат действует, как только сам найдет лучше и выгоднее. Самое лучшее - поскорее взять уплату за "Преступление и наказание". Если же нельзя, то пугнуть Стелловского неустойкой и, разумеется, пугнуть на деле, а не словами.
Вот всё, что, мне кажется, надо было сказать Вам. Сделайте же так, добрый друг мой, как я прошу, передоверьте мою доверенность адвокату. В выборе адвоката совершенно полагаюсь на Вас. Я никого из них не знаю.
Ваш весь Федор Достоевский.
Р. S. Не худо, если б адвокат, начав с приглашения Стелловскому уплатить, напомнил ему, что он, по смыслу такого-то пункта, отказавшись от уплаты или затягивая ее, должен заплатить неустойку. Впрочем, как знает сам. Что мы знаем в этих делах?
(1) так в подлиннике
(2) далее было: с того
(3) далее было начато: а. вме<сто> б. после
417. С. А. ИВАНОВОЙ
29 марта (10 апреля) 1871. Дрезден
Дрезден 29 марта/10 апреля 1871.
Милый, добрый друг мой Сонечка. Во-первых, "Христос воскресе" и целую Вас от всей души. Во-вторых, получили ли Вы большое письмо мое месяца три тому назад? Так как Вы мне не ответили, то мне думается, что не получили? Я там многое Вам настрочил в оправдание моего молчания. Неужели Вы так на меня рассердились, что не хотели и ответить? Не верю этому, а верю в золотое сердце Ваше, которое когда-то меня любило. Должно быть, Вы не получили ничего. Что же в таком случае Вы обо мне подумаете?
Но мы теперь скоро увидимся, и тогда, видя, как я Вас люблю, Вы поверите мне опять вполне. Я приеду в июне. Напишите мне непременно и теперь же, где Вы будете летом? (Хоть два слова да напишите.) Верите ли, что, мечтая о возвращении, я первым делом мечтаю о встрече с Вами. Хотите верьте, хотите нет - а это так.
В хлопотах теперь я страшных. Работаю день и ночь, а пишется мало и в "Р<усский> вестник" опаздываю. А между тем на них только и надежда. Они выслали мне уже 1700 руб. и обещают к июню еще тысячу. Вот на эту-то тысячу я и ворочусь. Каково же я должен работать? А между тем, повторяю - без родины не пишется, верите ли Вы этому?
О возвращении, то есть о переезде, думаю с содроганием. Мы едем вдвоем и ребенок на руках, а Ане в начале августа родить. Каков же будет переезд? И вдобавок у меня падучая. Но авось вынесет.
Как только ответите мне, сейчас же напишу Вам много подробностей о себе, и потому буду ждать. А теперь, друг мой, я заговорю об одном чрезвычайно щекотливом деле, касающемся другого лица, по его просьбе. Пишу под большим секретом. К Вам просьба моя чрезвычайная содействовать, если можете, одному (1) делу. Если можете не отказать, - то не откажите. Если любите меня, то сделайте что-нибудь.
Вот в чем дело. Весь прошедший год проживал здесь в Дрездене Иван Григорьевич Сниткин, мой шурин. Вы об этом знаете, он был у Вас по возвращении. Он здесь влюбился. Здесь бездна скитающихся русских и между прочими одно богатое семейство, из бывших купцов. В этом-то богатом и многочисленном семействе есть одна девушка - редкое существо, по уму, по сердцу, по характеру. (Я не знаком по домам, так как сам избегаю знакомств, но мы радушно встречаемся.) Иван же Григорьевич в доме был близок. Кончилось пламенною любовью, девушка влюбилась в него, а он в нее. Оба поклялись друг другу навеки и теперь секретно и поминутно переписываются. Родители ничего не знают. Вся беда в том, что невеста - чрезвычайная богачка, а жених, сравнительно с нею, совершенно беден. Хоть его и любили в семействе родители девушки и принимали радушно, но если б он только заикнулся о предложении, то ему наверно бы (и безвозвратно) отказали. Напротив, ее хотят выдать за одного знакомого им в России купца. Ей еще только 18 лет, но через год или раньше это сбудется над нею, и она погибла. Она так любит Ивана Григорьевича, что готова на всё, то есть обвенчаться тайно. Об этом-то теперь и хлопочет Ив<ан> Григорьевич. (Еще раз предупреждаю, что пишу Вам в чрезвычайном секрете: не погубите его.) Вся беда в деньгах. Он хоть и мог бы рассчитывать на помощь от матери (которая живет теперь вместе с нами), но у ней петербургский дом ее в процессе. Процесс наверно кончится в ее пользу, но покамест она ничего не может дать ему, хотя спит и видит, как бы помочь ему. Время же не терпит.
Две недели назад Ив<ан> Григорьевич писал сюда жене, что он говорил с Еленой Павловной и, не объясняя ей причины, разом попросил у нее взаймы две тысячи. Она ничего ему не сказала утешительного. А так как он сильно рассчитывал занять у ней, то и просит теперь меня написать Вам и попросить Вас (от меня) поддержать его просьбу у Елены Павловны. Я потребовал, чтобы он позволил мне рассказать Вам всю причину и изложить всю истину. Третьего дня он ответил согласием, прибавив при этом рассуждение, что "таким, которые женятся на богатых, не помогают, а могут заинтересоваться только бедными".
Вследствие его позволения я и пишу теперь к Вам, Сонечка. Всё, чего он трепещет теперь, это то, что узнают, что он женится на богатой. Ему стыдно, например, если Вы узнаете. Тут чистота сердца и невинность первоначальные. Когда (2) они полюбили друг друга, он еще и не знал, что она так богата. Когда же узнал, что за нею 150000 приданого, то это его сразило. Всё, об чем они взаимно плачут, - это то, что у ней столько денег. Всё это буквально так; я ничего не преувеличиваю, и - уж конечно, не смеюсь над этим.
Одно скажу: она дельнее его. Мало того - она решительно высоких качеств девушка и необыкновенного характера. Я в деле не участвую и с нею не в сношениях, но я многое слышал. Между прочим, она очень страдает. Отчим гонит ее, и именно за то, что она всё отказывается выйти замуж за его знакомого купца. Отчим с ее матерью делает всё что угодно и в семействе всевластен (в семействе только дочери; их, кажется, пять. Невеста Ив<ана> Григорьевича из самых старших).
Теперь Вы видите, в чем дело, Сонечка. Скажу Вам мое мнение искренно и нимало не виляя душой: с Ив<аном> Григорьевичем мы прожили здесь весь прошлый год; я видел его каждый день. Как он ни молод, но в нем уж и теперь ясно виден будущий честный, твердый, дельный человек. Он, конечно, слишком наивного, увлекающегося благородства, но на вещи он уже и теперь смотрит ясно и рассудительно и безрассудства не сделает. Ее он ставит сам выше себя. А она не по летам с характером и к тому же остроумна. Любит его ужасно. Итак, мое мнение - брак этот принесет только им взаимное счастье. Если расстроится, то девушка, по крайней мере, будет крайне несчастна. Не подумайте (да Вы и не подумаете), что я хлопочу тут лишь для того, чтоб доставить Ив<ану> Григорьевичу богатство.
Мне просто их жалко; но признаюсь Вам совершенно откровенно, что и богатством я вовсе не пренебрегаю в моем взгляде на это дело. Из Ив<ана> Григорьевича непременно выйдет весьма дельный человек, а с такими средствами в самом начале он только расширит себе круг полезной деятельности. (Он искренно готовит себя на всю жизнь к сельскому хозяйству.)
Скажу Вам, что возможность обвенчаться увозом (надо же выговорить слово) совсем почти не мечта и может действительно осуществиться. Но для этого ему надо деньги, а он не может их занять теперь ниоткуда, кроме как у Елены Павловны. А между тем драгоценное время уходит. Он, кажется, очень неловко спросил у Елены Павловны 2000 р. (по-моему, и не надо столько денег, можно бы и меньше). Заметьте, что та ему не совсем отказала. Заметьте еще, что возврат денег Елене Павловне, по-моему, совершенно верен. Невесту не может никто лишить ее имения (состоящего в чистых деньгах). Оно им оставлено от покойника отца; над ними опека; а мать замужем в другой раз.
Кроме того, у матери Ив<ана> Гр<игорьеви>ча дом, и если бы даже и проигрался ее процесс (а он будет выигран), то все-таки дом может быть продан за такую сумму, что не только долги (о которых идет процесс) будут заплачены, но и выручится несколько тысяч сверх того, стало быть, будет чем заплатить даже и в случае неудач со всех сторон.
Раз уже я, попросив Александра Павловича, Вашего покойного отца, доверить деньги покойному брату Мише, ввел его моим советом в убыток. Поверьте, что не захотел бы повторить дело в другой раз, и если б не был совершенно уверен, что не пропадут деньги Елены Павловны, то не стал бы хлопотать в этом деле.
Итак, если Ваше ходатайство и совет могут (3) что-нибудь значить для Елены Павловны, то не откажите помочь. Если надо будет, изложите ей дело под секретом. Впрочем, кроме изложения данных по этому делу, более ведь ничего и не нужно. Конечно, лучше бы было не говорить Елене Павловне о подробностях. Напомните Елене Павловне обо мне и поклонитесь ей от меня.
Письмо мое вручит Вам сам Ив<ан> Григорьевич. Я не верю Вашему адрессу, потому и не пишу Вам прямо. Поцелуйте от меня и поздравьте с праздником мамашу. Марью Александровну поцеловал бы, да не смею, а люблю ее чрезвычайно. Всех вас люблю. До свидания, милая Сонечка, до близкого.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
(1) было: одну
(2) далее было: еще
(3) было: могли
418. А. Н. МАЙКОВУ
1 (13) апреля 1871. Дрезден
Dresden 1/13 апреля/1871.
Многоуважаемый Аполлон Николаевич, сейчас получил Вашу телеграмму. Не понимаю ровнешенько ничего. Для чего ехать в Петербург? Если я спрошу у Литер<атурного> фонда, то в самом лучшем обороте дела пройдет три недели или месяц, пока получу, а между тем Вы шлете телеграмму. Что же такое случилось?
Если только один прежний процесс о прежних деньгах, то не стоят они того, чтобы решиться мне на такой ужас, то есть сейчас же ехать. Физическая невозможность, если б и деньги были. Сообразите: если я приеду сейчас в Петербург, то меня кредиторы не выпустят обратно в Дрезден. Между тем я буду в Петербурге, а жена останется в Дрездене, ибо не только на 100, но и на 400 нам подняться нельзя с ребенком теперь вместе (долги и проч.). Итак, она в Дрездене, а между тем ей в августе родить. Деньги из "Р<усского> вестника" я получу только в начале июня (верно). Но и с деньгами она не могла бы воротиться одна, без меня, на последних порах и с ребенком в руках. Служанки же нанять нельзя: в Россию не едут. Итак, без меня она ехать не может, (1) следовательно, останется в Дрездене, родит, а так как новорожденного глубокою осенью нельзя везти, то, стало быть, она год или полтора опять остается здесь, и я без них, да еще во время родин.
Да и весь-то Стелловск<ий> и все мои дела не стоят того!
Напишите мне, ради Христа, сейчас же письмо.
Какой процесс затевает Стелловский? Прежнее мое дело ясное и чистое, тут спору нет.
Ради Христа, посоветуйтесь с ловким (2) адвокатом, с настоящим адвокатом.
Во всяком случае понимаю и чувствую, как дружески Вы обо мне заботитесь. Ценю и не забуду.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Ради Христа, скорее письмо!
Ночью был сильнейший припадок, и я весь разбит и раздражен, весь в расстройстве.
Р. S. Да еще даст ли мне Литературный-то фонд 100 руб.? В 64 году я выпросил себе вспоможение за границу по болезни. (Иначе что бы я стал делать с тогдашнею моею падучею, да еще в петербургском климате.) Из-за этого Лавров и с ними 100 человек подняли такой гам, что я должен был выйти из членов Комитета. Будь пострадавший - больной, искалеченный физически и нравственно - вечный труженик, они плюнут, а не помогут. А будь нигилист, сейчас вспоможение дадут. Вы вспомните, из кого там состоит Комитет! С позором откажут.
(1) далее было: с двумя детьми
(2) вместо: посоветуйтесь с ловким было: посоветуйте ловкому
419. А. Н. МАЙКОВУ
5 (17) апреля 1871. Дрезден
Дрезден 5/17 апреля 1871.
Любезнейший друг Аполлон Николаевич, так как ни вчера, ни третьего дня я от Вас письма не получил (объясняющего телеграмму), то, по всей вероятности, могу, кажется, заключить теперь, что всё это было проделкой каких-нибудь негодяев. 1 апреля я вдруг получаю от Вас телеграмму, из Петербурга, в которой Вы приглашаете меня немедленно бросить всё и ехать в Петербург по делу Стелловского (процесс!), а денег на проезд взять в Литературном фонде.
Одно вижу, что этому мерзавцу известны подробно мои обстоятельства и домашние и с Стелловским. Еще заключаю по некоторым данным, что это не насмешка, а скорее какой-нибудь расчет, чтоб я в Петербург явился. А впрочем, наплевать. Но во всяком случае дело до того правдоподобное, что я мог ведь и поддаться и поехать, тем более что и денег на поездку не надо мне просить ни у какого фонда, а они есть у меня в настоящую минуту и без того.
Во всяком случае вижу и предчувствую, чего могу ожидать по возвращении в Петербург. И откуда я набрал себе столько ненавидящих меня мелких врагов? Кажется, никому особого зла не делал.
Но покамест они останутся с носом. Извините, друг мой, что Вас только привел в недоумение прошлым письмом. Не худобы, если б Вы мне хоть что-нибудь написали, хоть по этому бы только поводу.
До свидания покамест. Хорошо, если бы обделать все свои дела успешно. Напишите мне подробно Ваш летний адресс.
Мои Вам кланяются, а я весь Ваш
Ф. Достоевский.
420. С. А. ИВАНОВОЙ
12 (24) апреля 1871. Дрезден
Дрезден 12/24 апр<еля> 1871.
Милый друг мой Сонечка, я Вам послал письмо месяца три назад, очень большое, но ответа от Вас не получил. По некоторым причинам думаю, что Вы просто не получили того письма.
Я теперь только начал так предполагать и моим предположением встревожен. Сделайте милость, пришлите мне Ваш адресс и напишите его четче и точнее. Я Вашим адрессам вообще не доверяю: раз Вам пришло письмо вскрытое, а теперь вот и не дошло.
Потому рискнул написать Вам через редакцию "Р<усского> вестника". Что-то будет?
Надеюсь Вас летом увидеть. Об житье моем рассказывать нечего: слишком уж давно мы не переписывались.
Нынешнее лето будет для меня трудное и хлопотливое. Мне возвращаться в Россию с скудными средствами тяжело. К тому же жена будет на последних днях беременности, да ребенок на руках без няньки, да я с моею болезнию - всё это тяжело. "Р<усский> вестник" мне уже помог деньгами и обещается помочь, и очень много, но и эта большая помощь по огромности нужд моих - едва ли будет достаточна.
Напишите мне поболее о себе и о своих.
В том письме было подробное и точное изложение причин (самых непреодолимых), почему я не мог посвятить роман Машеньке.
Вас обнимаю и всех Ваших тоже.
Ваш весь Федор Достоевский.
Все мы здоровы, а жить здесь скучно очень. Вы не можете себе это представить. Даже писать роман не могу.
Пишите о себе больше.
421. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
16 (28) апреля 1871. Висбаден
Висбаден. Пятница 28/71 г.
Аня, ради Христа, ради Любы, ради всего нашего будущего не беспокойся, не волнуйся и дочти письмо до конца, со вниманием. В конце увидишь, что в сущности беда не стоит такого отчаяния, а, напротив, есть нечто, что приобретется в будет гораздо дороже стоить, чем за него заплачено! Итак, успокойся, ангел, и выслушай, дочитай. Ради Христа, не погуби себя.
Бесценная моя, друг мой вечный, ангел мой небесный, ты понимаешь, конечно, - я всё проиграл, все 30 талеров, которые ты прислала мне. Вспомни, что ты одна у меня спасительница и никого в целом мире нет, кто бы любил меня. Вспомни тоже, Аня, что есть несчастия, которые сами в себе носят и наказание. Пишу и думаю: что с тобой будет? Как на тебя подействует, не случилось бы чего! А если ты меня пожалеешь в эту минуту, то не жалей, мало мне этого!
Телеграмму я тебе послать не посмел и не посмею, после давешнего письма твоего, где ты пишешь, что будешь беспокоиться. Вообразить только, как пришла бы телеграмма завтра: "Schreiben Sie mir...". Ну что бы с тобой было!
Ах, Аня, зачем я поехал!
Вот как было дело сегодня: сначала получил твое письмо, в первом часу пополудни, но денег еще не получил. Затем сходил домой и написал тебе ответ (подлое письмо и жестокое; я же в нем почти упрекаю тебя). Вероятно, ты получишь его завтра, в субботу, если сходишь на почту не раньше (1) 4-х часов. Письмо отнес, а он мне опять сказал, что нет денег, было уже половина третьего. Когда же я пришел в третий раз в половину пятого, то он мне деньги выдал и на мой вопрос: "Когда они пришли?" - отвечал преспокойно, что около 2-х часов. Зачем же он не выдал мне, когда я был в третьем? Тогда я, видя, что надо дожидаться половины седьмого, чтоб отсюда ехать, отправился в воксал.
Теперь, Аня, верь мне иль не верь, но я клянусь тебе, что я не имел намерения играть! Чтоб ты поверила мне, я тебе признаюсь во всем: когда я просил у тебя телеграммой 30 талеров, а не 25, то я хотел на 5 талеров еще рискнуть, но и то не наверно. Я рассчитывал, что если останутся деньги, то я всё равно привезу их с собой. Но когда я получил сегодня 30 талеров, то я не хотел играть по двум причинам: 1) письмо твое слишком меня поразило: вообразить только, что с тобой будет! (и воображаю это теперь) и
2-е) я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (А теперь как припомню и мой сон три дня тому, что ты поседела, то замирает сердце! Господи, что с тобою будет, когда ты получишь это письмо!)
Но, прийдя в воксал, я стал у стола и начал мысленно ставить: угадаю иль нет? Что же, Аня? Раз десять сряду угадал, даже zero (2) угадал. Я был так поражен, что я стал играть и в 5 минут выиграл 18 талеров. Тут, Аня, я себя не вспомнил: думаю про себя - выеду с последним поездом, выжду ночь в Франкфурте, но ведь хоть что-нибудь домой привезу! За эти 30 талеров, которыми я ограбил тебя, мне так стыдно было! Веришь ли, ангел мой, что я весь год мечтал, что куплю тебе сережки, которые я до сих пор не возвратил тебе. Ты для меня всё свое заложила в эти 4 года и скиталась за мною в тоске по родине! Аня, Аня, вспомни тоже, что я не подлец, а только страстный игрок.
(Но вот что вспомни еще, Аня, что теперь эта фантазия кончена навсегда. Я и прежде писал тебе, что кончена навсегда, но я никогда не ощущал в себе того чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался с этим сном и благословил бы бога, что так это устроилось, хотя и с такой бедой, если бы не страх за тебя в эту минуту. Аня, если ты зла на меня, то вспомни, что я выстрадал теперь и выстрадаю еще три-четыре дня! Если когда в жизни потом ты найдешь меня неблагодарным и несправедливым к себе - то покажи мне только это письмо!)
Я проиграл всё к половине десятого и вышел как очумелый; я до того страдал, что тотчас побежал к священнику (не беспокойся, не был, не был и не пойду!). Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди. Но я заблудился в городе, и когда дошел до церкви, которую принял за русскую, то мне сказали в лавочке, что это не русская, а жидовская. Меня как холодной водой облило. Прибежал домой; теперь полночь, сижу и пишу тебе. (К священнику же не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду!)
У меня осталось полтора талера мелочью, стало быть, на телеграмму есть (15 грошей), но я боюсь. Что с тобой будет! И потому решил написать письмо и завтра в 8 часов утра отправить тебе, а чтобы ты получила без задержки в воскресение, то пишу по адрессу, а не на poste restante. (A ну как ты бы, ожидая меня, не пошла совсем на почту!) Но я завтра, может быть, еще пошлю тебе письмо на poste restante, отнесу только поздно, а послезавтра, в воскресение, наверно еще напишу.
Аня, спаси меня в последний раз, пришли мне 30 (тридцать) талеров. Я так сделаю, что хватит, буду экономить. Если успеешь отправить в воскресение, хоть и поздно, то я могу приехать и во вторник и во всяком случае в среду.
Аня, я лежу у ног твоих, и целую их, и знаю, что ты имеешь полное право презирать меня, а стало быть, и подумать: "Он опять играть будет". Чем же поклянусь тебе, что не буду; я уже тебя обманул. Но, ангел мой, пойми: ведь я знаю, что ты умрешь, если б я опять проиграл! Не сумасшедший же я вовсе! Ведь я знаю, что сам тогда я пропал. Не буду, не буду, не буду и тотчас приеду! Верь. Верь в последний раз и не раскаешься. Теперь буду работать для тебя и для Любочки, здоровья не щадя, увидишь. увидишь, увидишь, всю жизнь, И ДОСТИГНУ ЦЕЛИ! Обеспечу вас.
Если же не успеешь выслать в воскресение, то вышли в понедельник пораньше. Тогда в среду, к полудню, я буду у вас. Не тревожься, если в воскресение нельзя будет выслать, а обо мне не очень думай, мало еще мне этого, не того я достоин!
Но что мне сделается! Я вынослив до грубости. Мало того: я как будто переродился весь нравственно (говорю это и тебе, и богу), и если б только не мучения в эти три дня за тебя, если б не дума поминутно: что с тобою будет? - то я даже был бы счастлив. Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой! Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами) я всё мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же всё кончено! Это был ВПОЛНЕ последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что (2) у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, (3) я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть, дело лучше и спорее пойдет, и бог благословит! Аня, сохрани мне свое сердце, не возненавидь меня и не разлюби. Теперь, когда я так обновлен, - пойдем вместе, и я сделаю, что будешь счастлива!
А Люба, Люба, о, как я был подл! Но я об тебе только думаю: воображу только, что с тобой будет, когда ты это прочтешь! Да и до этого письма сколько измучаешься, видя, что я не еду, надумаешься! Принесут ли письмо тебе это вовремя? А что, коль затеряется! Но как же затеряться, если телеграмма дошла по этому же адрессу? Напишу на всякий случай еще poste restante несколько строк. Завтра и отдам в продолжение дня.
Думаю: получу иль не получу от тебя завтра письмо? Верно, нет! Ты ждешь меня завтра самого и писать не будешь.
Если в воскресение тебе не удастся выслать мне деньги, то напиши мне письмо. Я так буду счастлив, хотя бы ты и прокляла меня, хоть несколько строк твоею рукой. Если же не успеешь в воскресение написать, то пошли письмо в понедельник пораньше вместе с деньгами (если и деньги не поспеешь в воскресение). Письмо во всяком случае прежде денег придет. А я (4) так был бы счастлив твоим письмом!
Аня, как подумаю, что с тобой будет, когда получишь это, то точно обмираю весь. Только эта и будет мука. А прочее всё (скуку, тоску, неизвестность) - всё это я вынесу. Мало мне! Постараюсь заняться чем-нибудь: сяду писать в эти три дня два нужные письма - Каткову и Майкову! Аня, верь, что настало наше воскресение, и верь, что я отныне достигну цели - дам тебе счастье!
Целую вас обеих, обнимаю, прости, Аня!
Твой весь отныне Федор Достоевский.
P. S. К священнику не пойду, ни за что, ни в каком случае. Он один из свидетелей старого, прошедшего, прежнего, исчезнувшего! Мне больно будет и встретиться с ним!
Р. Р. S. Аня, радость моя вечная, одно впредь мое счастье, - не беспокойся, не мучайся, сохрани себя для меня!
Не беспокойся и об этих проклятых, ничтожных 180 талерах, правда, теперь опять мы без денег, - но ведь не долго, не долго (а может, и Стелловский выручит). Правда, наступает время проклятых закладов, которые так тебе ненавистны! Но ведь уж это в последний раз, вполне в последний! А там я добуду денег, знаю, что добуду! Только бы в Россию поскорее! Напишу к Каткову и буду умолять его ускорить, и я уверен, он примет в соображение. Так напишу, что примет.
Ради бога, только не беспокойся обо мне (ведь ты ангел, ведь ты меня и проклянешь, а пожалеешь, а стало быть, будешь беспокоиться). Но не тревожься: я перерожусь в эти три дня, я жизнь новую начинаю. О, кабы поскорее к вам, поскорее вместе! Только одно и страшно: что с тобой будет, как получишь письмо это? Одному только верь - моей бесконечной любви к тебе. И теперь уже не буду мучить тебя никогда, ничем.
Р. Р. Р. S. Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя, ангела моего, благословлять. Нет, уж теперь твой, твой нераздельно, весь твой. А до сих пор наполовину этой проклятой фантазии принадлежал.
(1) было: позже
(2) далее было: я
(3) текст: я был связан игрой вписан
(4) далее было: тут
422. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
17 (29) апреля 1871. Висбаден
Висбаден 29 апреля 71. Суббота.
Милый друг Анечка, я уже послал тебе сегодня (в 9 часов утра) мор вчерашнее, ночное, письмо по адрессу Moritz-Strasse и т. д., это же посылаю теперь в предположении что то не дойдет или как-нибудь замедлится, я адрессую на poste restante по-всегдашнему и, таким образом, буду уверен, что во всяком случае завтра, в воскресение, ты получишь от меня известия.
Я тебе описал всё в том письме: я проиграл твои последние тридцать рублей и прошу тебя еще раз спасти меня, в последний раз, - выслать мне еще тридцать рублей.
Друг мой, я проснулся сегодня в 8 часов, а заснул в 4 часа ночи, спал всего четыре часа. Надо было сбегать на почту отнести мое ночное письмо. Днем еще пуще страх за тебя: господи, что с тобой будет и что я наделал.
(Телеграмму не посмел послать, чтоб тебя не испугать, и рассудил, что лучше письмо на Moritz-Strasse и т. д., чтоб вернее и, может быть, скорее дошло к тебе. Всё это я тебе разъяснил в вчерашнем ночном письме.)
Предстоит суток трое мучении нестерпимых, нравственных, конечно. Телом я здоров, кажется. Но ты-то, ты-то здорова ли? Вот что сокрушает меня!
К священнику не пойду. Забыл тебе приписать в том письме кое-что, может быть, важное: если получишь письмо мое дома, то есть по адрессу Moritz-Strasse и т. д., и так как ты вместо письма ждала меня, то ты бы могла сказать мамаше, которая знает, разумеется, что ты меня ждала, что со мной случился припадок и что я, в припадочном состоянии, не мог уже рискнуть выехать, чтоб пробыть в вагоне 17 часов в натянутом положении и ночь без сна, и потому дня два или три остался еще отдохнуть, чтоб не повторился припадок. Вот чем объяснить мое замедление в ее глазах. Если же она узнала или догадалась, что ты понесла закладывать вещи, чтоб выслать мне, то и тут можно кое-что сказать, например, что по обыкновению, в припадке, я испортил тюфяк и что там потребовали с меня за это талеров 15, и так как я, стыдясь заводить дело, их тотчас же заплатил, чтоб не кричали, что у меня и денег не осталось воротиться в Дрезден, и так как денег надо ждать трое суток от тебя, то эти трое суток лишняя трата и потребовалось уже не 15 талеров выслать, а более.
Аня, всё об тебе думаю и мучаюсь. Думаю и об нашем возвращении в Россию, всё рассчитал, на Каткова и на Майкова деньги мы обернуться можем, и Катков пришлет скорее июня (я буду писать ему и просить), но Майкову я буду писать настоятельно. Я рассчитал, что всё можно обделать, даже запастись платьем и бельем и доехать - всё на эти средства. Ну, а в Петербурге я достану денег, В этом я убежден. И, кроме того, убежден, что не откажет мне И<ван> Гр<игорьевич> в 4 тысячах взаймы, и это всё в первый месяц решится. Он будет жить всё лето в Царском Селе. Ты представить не можешь, Аня, как я надеюсь, что мы воскреснем и отлично поправимся, к зиме же. Бог поможет, и я верую в это.
Я пришел к убеждению, что в нашем положении, с нашими экстренными тратами, какие бы ни получались деньги - всё нам будет мало, всё мы будем иметь вид разоренных, а чтоб вылечить это - нужна разом сумма значительная, кроме наших средств, то есть 4 или 5 тысяч. Тогда, став на ноги, можно будет идти. Так я и сделаю. И сколько ни размышляю - невозможно, чтоб Ив<ан> Гр<игорьевич> мне отказал. Невозможно ни под каким видом.
Но главный первый шаг теперь переезд в Россию! Вот бы что осуществить прежде всего. Сегодня же сяду писать к Каткову.
Аня, не тоскуй по деньгам. Понимаю, как тяжелы тебе заклады, но скоро, скоро всё кончится навсегда, и мы обновимся. Верь.
Ах, береги себя, для будущего ребенка, для Любы, для меня. Не тоскуй и не сердись, что я так пишу: я сам понимаю, каково мне говорить тебе: береги себя, когда сам тебя не берегу.
Аня, я так страдаю теперь, что, поверь, слишком уж наказан. Надолго помнить буду! Но только бы теперь тебя бог сохранил, ах, что с тобой будет! Замирает сердце, как подумаю.
Сегодня дождь, сырость, мокрять. Так всё уныло и грустно, - но о будущем думаю с бодростию. Мысль о будущем даже обновляет меня. Если только чуть-чуть будет у меня спокойного времени и роман мой выйдет превосходен, а стало быть, второе издание, в журналах кредит вперед; (1) и мы на ногах.
Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и с фантазиями! О, с какою ненавистью буду вспоминать об этом времени.
Прости только ты меня и не разлюби.
До свидания, друг мой, обнимаю тебя и Любу, завтра опять напишу.
Твой весь Ф. Достоевский.
Р. S. Я слишком понимаю, что в воскресение тебе никак почти нельзя будет достать и выслать денег. Буду ждать до вторника, но и в понедельник на авось наведаюсь на почте. На почте я по крайней мере два раза в день бываю. В среду, может, и увижусь с вами, то есть наверно, если бог поможет и получу не позже, чем во вторник в три часа.
Я потребовал себе счет в отеле. 18 флоринов, но зато цены варварские. Значит, ко вторнику будет флоринов тридцать или немного больше, на остальные доеду в третьем классе.
До свидания, ангел мой, до свидания, целую тебя.
Ф. Д.
(1) далее было: и примем опять поклон <?>
423. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
19 апреля (1 мая) 1871. Висбаден
Висбаден 1 мая/71-го. Понедельник.
Милый друг мой Аня, пишу тебе только несколько строк в ожидании твоего письма. Иду сейчас на почту, и если не получу от тебя хоть какого-нибудь письма, хоть нескольких строк - буду очень несчастен. Денег получить от тебя я сегодня, разумеется, не надеюсь.
Только и думаю о том, как бы поскорее воротиться. Живу как в лихорадке, но очень тошно. Вчера был очень тяжелый день для меня и к тому же дождь. Вечером только прояснилось, и я ходил гулять. Но вечером мне всегда грустнее. Беспрерывно думаю о тебе: как на тебя подействовало, представляю себе это. Сплю дурно, с дурными снами.
Что Люба? Расцелуй и скажи ей, что папа целует. Напоминай ей обо мне изредка, чтоб она не забыла.
Страшно боюсь, что при расчете не хватит на всё денег. Но я как-нибудь обделаю. (Будь уверена - не пойду туда. Впрочем, об этом и писать лишнее.)
Вот уже неделя, как мы не видались.
Ну до свидания, милая, я как в лихорадке, что-то почта скажет сейчас! Проклятый почтмейстер, он, пожалуй, не выдаст письма или затеряет. Если б ты знала, какая здесь небрежность и высокомерность в почтамте.
Если надо будет тебе еще что-нибудь приписать, то ворочусь домой, распечатаю и припишу.
До свидания, бесценный друг мой.
Обнимаю всех троих.
Твой Ф. Достоевский.
1/2 второго.
Сейчас (ровно в час) получил твое бесценное письмецо и приписываю несколько слов.
Всего больше (совсем не шучу) огорчило меня то, что Люба принимает хозяина за меня. Неужели успела забыть? Но ведь она и всех мужчин называет папа. Легкомысленное создание! И легкосердечное: но таковы все женщины.
Кроме тебя одной: спасибо, Аня, заслужу тебе, выручила.
Теперь о самом необходимом.
Я получил только письмо, а денег еще нет. Я объяснил всё почтмейстеру, и он мне положительнейшим образом объявил (толково обо всем расспросив), что раньше 7 (семи) часов вечера я сегодня денег не получу. Я все-таки зайду на почту в три часа.
Ну что теперь делать, Аня! Если не выеду отсюда в 4 часа. то не выеду сегодня и из Франкфурта! Нет поезда.
Ночевать, стало быть, в Франкфурте (здесь дорого и хлопотливо, а счет ужасный, вряд ли хватит денег). Если ночевать, то где? В гостинице? Но разбудят ли утром? Просидеть ночь на станции? Но ведь станция все-таки на ночь запирается.
Как-нибудь решу. Вернее всего, жди меня завтра до 12 часов ночи. Поезд приходит к одиннадцати. Ради бога, не сделай глупость, не выйди на станцию в этот час. Ради бога, слышишь, прошу тебя.
Важнейшее замечание:
Если я не приеду завтра (то есть во вторник) к полуночи, то, ради Христа, умоляю тебя, не отчаивайся и не подумай, что я опять проиграл. Не будет этого и не может быть. А если случится, что опоздаю, то каким-нибудь образом был задержан в дороге. Мало ли случаев, мало ли задержек?
Последнее: вероятно, я приеду (1) голодный, потому что, кажется, не хватит денег для обедов в дороге. И потому прошу приготовить кусочек чего-нибудь (ну хоть чего-нибудь) к моему приезду. И если ты вполне христианка, голубчик Аня, то не забудь приготовить к моему приезду пакет папиросок, потому что у меня наверно ничего не будет курить.
Я и теперь весь измок, и дождь всё льет, а зонтика нет. Плохо, если не обсохну к отъезду.
До свидания, до скорого.
Обнимаю тебя.
Твой Ф. Достоевский.
На конверте: Saxe, Dresden. А m-me Dostoiewsky, poste restante.
(1) было: буду
424. A. H. МАЙКОВУ
21 апреля (3 мая) 1871. Дрезден
Дрезден 21 апреля/3 мая /71.
Простите, дорогой друг, что не ответил Вам на Ваше объяснительное письмо от 4-го апреля тотчас же, а отложил на капельку времени, а капелька разрослась в такой срок. Я перед Вами еще (1) должен извиниться в том, что в самом последнем письме моем обругал негодяем того предполагаемого анонимного насмешника, который прислал телеграмму. Вы поймете, разумеется, дорогой друг, что если б и в самом деле такую штуку сделал кто-нибудь посторонний, из смеху (а мне случалось получать анонимные ругательные письма), то было бы досадно и можно бы его обругать. Вся нелепица произошла, во-первых, 100 roubles в телеграмме, а во-вторых, что я во всяком случае ничем предварительно был Вами не предуведомлен, так что я, только что раскрыл телеграмму, и усумнился в ней. Но что главнейше подтвердило мое подозрение - это что Ваше объяснительное письмо запоздало и не пришло с первой почтой для разъяснения телеграммы. Тогда я совершенно убедился и - соврал. Теперь мне все понятно, а Ваше дружеское участие ко мне меня слишком радует.
Но видите ли, однако, как Фонд высокомерно отнесся к моей, (то есть к Вашей обо мне) просьбе на счет займа, каких потребовалось гарантий и проч. и какой высокомерный тон ответа. Если б нигилист просил, не ответили бы так.
Насчет же моего возвращения разъясню Вам одно, чтоб Вы знали наверно: денег, чтоб воротиться и приехать хоть бы (2) с пустыми руками, нам нужно несравненно больше, чем Вы предполагаете. Прижившись к месту, не так легко отрываться. В 4 года всякий кафтан продырявится, и чинка потребует средств. Без аллегорий говоря, без тысячи руб<лей> невозможно, и это самым беднейшим образом. Вы поймете, что тут вовсе не один переезд. На весь переезд с Аней и с Любой мы положили только 120 руб. Тут на другое нужно, без чего нельзя отсюда тронуться. Мне из "Р<усского> вестника" выслали к празднику денег, но просимую собственно на переезд тысячу попросили меня подождать до конца июня. А между тем именно ждать-то почти невозможно. В начале августа жена должна родить, и потому такой длинный переезд несравненно лучше сделать за два месяца до родов, чем только за месяц, ибо в последнем случае оно даже и невозможно. Припомните, что мы должны ехать без прислуги и имея Любу на руках. Остаться (3) же до после родов тоже нельзя: невозможно возвращаться в октябре с новорожденным ребенком. Наконец, остаться в Дрездене еще на год - всего уже невозможнее. Это значит совсем убить Анну Григорьевну отчаянием, в котором она не властна, ибо тут настоящая болезнь тоски по родине. Невозможно и мне год не переезжать: я, во-первых, по известным мне причинам, оставшись здесь, не в состоянии буду кончить роман и ужасно могу потерять в денежных делах; всё (4) это объясню при свиданье.
Итак, возвратиться первое дело. Пишу Каткову особую и большую просьбу ускорить присылку и объясняю почему. Но если не ускорят, а это наверно почти так будет, тогда что? Тогда именно надежда на эти деньги с Стелловского, а недостающее до тысячи (необходимой на переезд) уж я чем-нибудь восполню.
Итак, опять моя прежняя, всегдашняя, ноющая просьба к Вам поспешить с Стелловским. Поспешить же только одним можно, а стало быть, и я только одного прошу: это передоверить (5) поскорее адвокату (Губину, кажется) и попросить его немедленно и энергически начать дело законным порядком, то есть судом. И именно так, как Вы писали в последнем письме, то есть сначала потребовать уплаты немедленной и полной, и если не уплатит, (6) - то в суд с требованием неустойки (NB. что совершенно законно). Стелловский поймет, что неустойка тут весьма законна с моей стороны, и все-таки думаю до сих пор, что не рискнет на процесс, а уплатит. Того-то и надобно. Если же долго не будет уплачивать, а по ходу процесса будет между тем видно, что получение неустойки очень возможно, то - зачем же свое терять? В этой неустойке он ничего не приплатит лишнего, по совести говоря, потому что при самой покупке сочинений моих он надул меня тогда по крайней мере на 3 тысячи, заставив продать ему (7) за три тем, что скупил тогда мои векселя и выпустил на меня кредиторов, самым бессовестным образом потребовавших вдруг уплаты (ибо Демис, например, божился мне, после смерти брата, что не потребует уплаты скоро, только бы я перевел братнины векселя на мое имя).
Но во всяком случае не задерживайте дело, голубчик. Торопите Губина. Вспомните, что от этого зависит теперь мой переезд в Россию, а стало быть, вся моя будущность, и что если не перееду, то почти погибну.
У Стелловского деньги есть и должны быть всегда. В то самое время, когда он уверял Вас, что у него денег нет, он приобретал Серова у вдовы, а та, должно быть, взяла немало.
Обо многом хотелось бы мне поговорить с Вами. До возвращения; тогда славно поговорим. Где Вы летом? Для меня теперешняя перемена жизни чрезвычайное и о сю пору волнующее меня событие, так что заниматься почти не могу. А какой ущерб моему роману доставит этот переезд, и особенно если он задержится. Ужас. Весь Ваш. Черкните мне что-нибудь.
Ваш Ф. Достоевский.
(1) далее было: в долгу за то
(2) вместо: хоть бы - было: по крайней мере
(3) было начато: Пром<едлить?>
(4) было: про всё
(5) было: передать
(6) вместо: не уплатит - было: нет
(7) далее было начато: по кр<айней мере?>
425. H. H. СТРАХОВУ
23 апреля (5 мая) 1871. Дрезден
Дрезден 5 мая/23 апреля 71.
Письмо Ваше, как и всегда, меня чрезвычайно заинтересовало, многоуважаемый Николай Николаевич. Но какие же странные известия: я не мог представить, что Вы так уж совсем покончили с "Зарей". Из письма Вашего вывожу это, да еще пишите, что рады отдохнуть и набрали переводов. Нет, так нельзя, Николай Николаевич. Вы не можете бросать так Ваше большое дело. У нас нет критика ни одного. Вы были, буквально, единственный. Я два года радовался, что есть журнал, главная специальность которого, сравнительно со всеми журналами, - критика. И что же они сами уничтожили то, что у них было самостоятельного, оригинального, своего. Я упивался Вашими статьями, я Ваш страстный поклонник и твердо уверен, что у Вас есть и кроме меня достаточно поклонников и что во всяком случае надо продолжать. Оставлять - малодушие. Простите меня за такое слово; но я, давно уже зная Ваш характер лично, уверен, что Вы слишком не в меру обескураживаетесь после первой неудачи. Но неудача всегда бывает, во всяком деле. И притом Вы ведь сами не выдержите: погуляете, как Вы пишете, но на переводах одних не останетесь и станете издавать брошюры отдельно. Так зачем же вместо того не обеспечить себя, не пристроиться к новому журналу "Беседе"? А мне так кажется, что в "Беседе" именно люди, которые Вас могут получше понять и поглубже оценить, чем в "Заре".
При этом вот какое я вывел заключение, Николай Николаевич, и которое, вероятно, Вы тоже знаете, но не прониклись еще им вполне, так, как был и я до самого последнего времени. Вот в чем дело: вследствие громадных переворотов, начиная с гражданских и доходя до тесно-литературного цикла, у нас разбилось, рассеялось на некоторое время и понизилось общественное образование и понимание. Люди вообразили, что им уже некогда заниматься литературой (точно игрушкой, каково образование!), и уровень критического чутья и всех литературных потребностей страшно понизился. Так что всякий критик, кто бы у нас ни появился, не произвел бы теперь надлежащего впечатления. Добролюбовы и Писаревы имели успех именно потому, что, в сущности, отвергали литературу - целую область человеческого духа. Но потакать этому невозможно и продолжать критическую деятельность все-таки должно. Простите же и меня за совет, но вот как бы я поступил на Вашем месте теперь.
У Вас была, в одной из Ваших брошюр, одна великолепная мысль, и главное, первый раз в литературе высказанная, - это что всякий чуть-чуть значительный и действительный талант - всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству, становился народным, славянофильским. Так свистун Пушкин вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того, - высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь и невозможность из-за скверных свойств личности. Но этого мало: этот закон поворота к национальности можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях, но и во всех других деятельностях. Так что, наконец, можно бы вывесть даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу, если же действительного таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, но еще экспатри<и>руется, перейдет в католичество и проч. и проч. Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии; вот увидите). Но дело в том, что эта мысль Ваша до того сильна, что непременно должна быть развита особо, специально. Напишите статью на эту именно тему, развейте ее специально и поместите в "Беседе". Наверно, они ей обрадуются. Это будет та же критика, только в иной форме. Две-три таких статьи в год, и я Вам предрекаю успех, и, кроме того, в публике Вас не забудут, а именно скажут, что Вы перешли в круг, (1) в котором Вас более понимают. "Беседа" не "Заря". Главное, зачем бросать литературу?
Но простите; если б мы говорили лично, то лучше поняли бы друг друга. Увы, если Вы едете в Киев, то я Вас ни за что не застану в Петербурге. Я ворочусь только в июне, так расположились денежные средства мои. Итак, до осени. Хорошо бы, если б Вы, (2) выезжая из Петербурга, написали мне еще письмецо. Письма Ваши я получаю с радостию. Но вот что скажу о Вашем последнем суждении о моем романе: во-1-х, Вы слишком высоко меня поставили за то, что нашли хорошим в романе, и 2) Вы ужасно метко указали главный недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам. (NB. Так, сила поэтического порыва (3) всегда, например, у V. Hugo сильнее средств исполнения. Даже у Пушкина замечаются следы этой двойственности.) И тем я гублю себя. Прибавлю, что переезд и множество хлопот этим летом страшно повредят роману. Но благодарю Вас за сочувствие.
Как жаль, что долго еще не увидимся. А покамест я
Ваш весь, сполна преданный Вам
Федор Достоевский.
(1) вместо: перешли в круг - было начато: нашли круг
(2) вместо: Хорошо бы...... Вы - было: Хорошо бы только, если б Вы выез<жая>
(3) вместо: поэтического порыва - было начато: поэтической ид<еи>
426. С. А. ИВАНОВОЙ
Конец апреля - начало мая 1871. Дрезден
<...> если (1) я наврал в моем предположении, то собственно из участия к Вам.
Ах, Сонечка, такое предстоит мне хлопотливое время, что и не понимаю, как одолеть его.
Писал в "Р<усский> вестник", хорошо, если вышлют деньги пораньше, тогда бы мы к 1-му июня выехали в Петербург. Вообразите: Ане в начале августа или в конце июля приходится родить, а она уже и теперь ужасно тяжело носит. Каково же мы поедем, конечно, без прислуги и имея Любу.
Какой я видел сон недели за три до кончины тетки: я вхожу будто к ним в залу; все сидят, и тут будто моя мать-покойница. Много гостей и большой пир. Я говорю с теткой и вдруг вижу, что в больших стенных часах маятник вдруг остановился. Я и говорю: это, верно, зацепилось за что-нибудь, не может быть, чтоб так вдруг встал, подошел к часам и толкнул опять маятник пальцем; он чикнул раз-два-три и вдруг опять остановился. Тут я проснулся и записал сон.
Вечером у одной знакомой (Висковатовой) рассказываю. Она мне и говорит: напишите справьтесь, не случилось ли чего-нибудь? И вот и вправду тетка умерла, маятник остановился.
До свидания! Дорогой мой друг.
Ваш Ф. Достоевский.
Р. S. Покойница тетка имела огромное значение в нашей жизни, с детства до 16 лет, многому она способствовала в нашем развитии. Вы знали ее очень поздно.
(1) начало письма не сохранилось
427. В. И. ГУБИНУ
8 (20) мая 1871. Дрезден
Дрезден 8/20 мая 1871 г.
Милостивый государь Василий Иванович,
Благодарю Вас за подробное уведомление о ходе дела и очень рад с Вами познакомиться. Поздненько, впрочем, мы начали, и теперь так сошлось, что если б еще позже, то было бы лучше. Я потому говорю, что в июне сам намереваюсь быть в Петербурге (конечно, в конце июня). Лично я бы мог Вам кое-что передать. Теперь посылаю Вам письмо страховое: документ хоть и невеликий, а худо, если б затерялся. Письмо мое, конечно, Вас в Петерб<урге> не застанет.
На все счеты и расходы, о которых Вы в письме упоминает, я с удовольствием согласен, но только теперь (хоть Вы сами и не требуете с меня) ничем не могу помочь в затратах по делу. Что же касается до моих личных, здешних денежных обстоятельств, то, во-первых, благодарю Вас за участие и за хлопоты (Вы пишете, что пытались достать под процесс); во-вторых, скажу Вам, что я хоть и рассчитывал на уплату Стелловского, чтоб на эти деньги воротиться в Петербург, но всё еще имею надежду, что выручит и "Русский вестник", который всегда со мной поступал превосходно. Они обещали прислать 1000 руб., но в июне (то есть в конце июня), а я боюсь, что это будет поздно по состоянию здоровья моей жены, и послал к Каткову вторичную просьбу, с изложением всех причин, чтобы прислали 1000 руб. не в конце июня, а к самому началу. Если пришлют, то, может быть, еще будет время воротиться благополучно; если же не смогут прислать в начале июня, то я почти пропал, ибо ехать будет поздно и почти невозможно. Так говорят доктора, и две недели составляют большую разницу. Вот почему я так и зарился на деньги со Стелловского, чтобы с помощию их как можно раньше отсюда тронуться. Но не беспокойтесь обо мне более. На "Р<усский> вестник" я всё еще крепко надеюсь; во всяком же случае, хоть и поздно, а получу и без денег, стало быть, не буду сидеть.
Теперь два слова о нашем деле. Многое бы можно рассказать, чтобы Вы самую сущность его узнали; но за невозможностью личного объяснения скажу только несколько самых необходимых слов.
Стелловский купил у меня сочинения летом 65 года (1) следующим образом: я был в обстоятельствах ужасных. По смерти брата в 64 году (2) я взял многие из его долгов на себя и 10000 р<уб.> собственных денег (доставшихся мне от тетки) употребил на продолжение издания "Эпохи", братнего журнала, в пользу его семейства, не имея в этом журнале ни малейшей доли и даже не имея права поставить на обертке мое имя как редактора. Но журнал лопнул, пришлось оставить. Затем я продолжал платить долги брата и журнальные, чем мог. Много я надавал векселей, между прочим (сейчас после смерти брата), одному Демису; этот Демис пришел ко мне (этот Демис доставлял брату бумагу) (3) и умолял переписать векселя брата на мое имя и давал честное слово, что он будет ждать сколько угодно. Я сдуру переписал. Летом 65 года (4) меня начинают преследовать по векселям Демиса и еще каким-то (не помню). С другой стороны, служащий в типографии (тогда у Праца) Гаврилов предъявил тоже свой вексель в 1000 руб., который я ему выдал, нуждаясь в деньгах по продолжению чужого журнала. И вот, хоть и не могу доказать юридически, но знаю наверно, что вся эта проделка внезапного требования денег (особенно по векселям Демиса) возбуждена была Стелловским: он и Гаврилова тоже натравил тогда. И вот в то же самое время он вдруг присылает с предложением: не продам ли я ему сочинения за три тысячи, с написанием особого романа и проч. и проч. - то есть на самых унизительных и невозможных условиях. (5) Подождать бы, так я бы взял с книгопродавцев за право издания по крайней мере вдвое, а если б подождать год, то, конечно, втрое, ибо через год одно "Преступление и наказание" продано было вторым изданием за 7000 долгу (всё по журналу, Базунову, Працу и одному бумажному поставщику).
NB. Таким образом, я на братнин журнал и на его долги истратил 22 или 24 тысячи, то есть уплатил своими силами, и теперь еще на мне долгу тысяч до пяти.
Стелловский дал мне тогда 10 или 12 дней сроку думать. Это же был срок описи и ареста по долгам. Заметьте, что Демисовы векселя предъявил некто надворный советник Бочаров. Когда-то сам пописывал, переводил Гёте; ныне же, кажется, мировым судьей на Васильевском острове. Между нами, человек весьма нечестный. В эти десять дней я толкался везде, чтоб достать денег для уплаты векселей, чтоб избавиться продавать сочинения Стелловскому на таких ужасных условиях. Был и у Бочарова раз 8 и никогда не заставал его дома. Наконец узнал (от квартального, с которым сблизился и которого фамилью теперь забыл), что Бочаров - друг Стелловского давнишний, ходит по его делам и проч. и проч. Тогда я согласился, и мы написали этот контракт, которого копия у Вас в руках. Я расплатился с Демисом, с Гавриловым и с другими и с оставшимися 35 полуимпериалами поехал за границу.
Я воротился в октябре с начатым за границей романом "Преступление и наказание" и войдя в сношение с "Р<усским> вестником", от которого и получил несколько денег вперед. Теперь заметьте хорошенько: по написании летом контракта с Стелловским, я прямо сказал Стелловскому, что я не поспею написать ему роман к 1-му ноября 65 года. (6) Он отвечал мне, что он и не претендует, что он и издавать не думает раньше как через год, но просил меня, чтобы я к 1-му ноября 66-го года был аккуратнее. Всё это было на словах и между четырех глаз, но страшные неустойки, если я манкирую к 1-му ноябрю 66 года, остались в контракте. Я знал, что он этими неустойками воспользуется, если я манкирую. Но заметьте себе: если б я и манкировал в оба срока, то есть к 1-му ноября 65 и 66, (7) то во всяком случае по смыслу контракта я не подвергался и не могу подвергнуться за это главной неустойке (в 3000) в силу последнего пункта контракта. Там именно обозначено, что если я не поспею доставить рукопись к 1-му ноября 65, (8) то плачу столько-то или продавать сочинения мои Стелловский может год или два лишних (9) (забыл, как именно обозначено в контракте). Но так как я против этой пени в два года лишних (или как там) не восстаю и согласен, то я, стало быть, исполняю в точности пункт условия, стало быть, не подлежу никак главной неустойке в три тысячи.
Всё это замечаю на случай. Стелловский ужасный крючок, и наверно руководствовать его будет в нашем деле Бочаров. Прибавлю Вам, что Стелловский обещал мне тогда вполне, что отнюдь не намерен пользоваться штрафом с меня, обозначенным в контракте, если я не поспею к 1-му ноября 65 года, (10) но сказано это было на словах и между четырех глаз. Теперь он наверно подымет претензию, то есть что я к 1-му ноября 65 года (11) не доставил. Ну и пусть его пользуется двумя годами лишних продажи, но ведь и только.
(NB. Он еще имел право по этому варварскому контракту перепечатывать повести отдельно и пускать в продажу, но с известными условиями, обозначенными в контракте. Меня наверно уверяли, что он нарушал условия нагло (наприм<ер>, в числе экземпляров) и уже за это одно подлежит неустойке в три тысячи. Но как сосчитать его, как изобличить? Средств нет.) Зато я употребил все усилия, чтоб поспеть к 1-му ноября 66 года, и поспел. Кажется, 31 октября, в 11 часов вечера, я, не зная, как поступить с рукописью написанной для Стелловского повести, заехал к мировому судье Фрейману (какого участка, не помню, и есть ли теперь Фрейман мировой судья - не знаю). Я потому не посовестился заехать к незнакомому человеку так поздно, что был убежден, что этот Фрейман мой школьный товарищ по Инженерному училищу. Но оказалось, что это был его брат (наверно, этот мир<овой> судья Фрейман помнит мое посещение). Я сказал ему, что приехал спросить его совета, как мне поступить с рукописью, и изъяснил ему дело. Он посоветовал мне сдать прямо в Часть и взять в Части расписку, а уж они завтра, 1-го числа, снесут к Стелловскому и возьмут с него расписку в получении рукописи. Я так и сделал. Но вот что забыл: в какой Части? В той ли, где жил сам я (в Столярном переулке в доме Алонкина), или в той, где жил Стелловский. (NB. NB. Мне думается, не одна ли и та же эта Часть, ибо Стелловский жил от меня близко.) Расписку эту Вам теперь посылаю. Вся она писана моей рукой, кроме подписи пристава. Но тут даже не обозначено, какой Части пристав, и разобрать нельзя его фамилии. Но все-таки ведь документ. Я думаю, что я был именно в своей Части. Я знаю, что расписку в получении романа в рукописи они в тот же день получили. Но где теперь эта расписка не знаю. У меня ли и я затерял ее? Не думаю. Вероятно, осталась в Части.
Знаю еще, что не сам Стелловский расписался в получении, а его артельщик или что-то вроде его приказчика в магазине Стелловского. С этим артельщиком я потом говорил; помнится, я сам пошел через день или два к Стелловскому и не застал его дома и потому говорил с артельщиком, спросил его: он ли получил рукопись? Он сказал мне, что Стелловский в тот день (1-го ноября), уходя из дому на целый день, велел ему сидеть и ждать: "Принесут-де, может, рукопись от Достоевского". (Уж он бы съел меня тогда, если б я в срок не доставил.)
Недели через две или три (если не ошибаюсь) явился ко мне Бочаров от Стелловского. Безграмотный Стелловский отдал рассмотреть достоинство рукописи Бочарову. Бочаров, засыпав меня сладчайшими комплиментами, возвестил, что он послан от Стелловского с величайшей просьбою переменить название романа вместо "Рулетенбург" в какое-нибудь другое, более русское, "для публики", как выражался Бочаров. Я согласился назвать роман вместо "Рулетенбурга" названием "Игрок". Так и явился он потом в издании Стелловского под именем "Игрока".
И потому если б, на случай, Стелловский придрался к названию и заспорил на суде, что в расписках стоит "Рулетенбург", а у него напечатан "Игрок", и что это не то же самое, и что "Игрока" я не доставил в срок и проч., то уже по смыслу "Игрока" видно, что это тот же "Рулетенбург", да и слово Рулетенбург в "Игроке" (12) стоит несколько раз, да и свидетели есть, н<а>прим<ер> Ап<оллон> Ник<олаевич> Майков (если только Бочаров откажется). Впрочем, мне кажется невозможным, чтоб они из этого что-нибудь вывели, хотя и подозреваю, что они, может, и будут доказывать, что я в срок не доставил, и выставлять свои претензии. Но это вздор, я доставил, и вот Вам документ, расписка пристава. Может быть, Вы в Части и нападете на расписку артельщика Стелловского.
Я совершенно согласен с Вашим мнением, что нет возможности нам проиграть на суде. С нашей стороны всё точно и ясно. Вашими советами (13) буду руководствоваться вполне (на случай пересылки через банкира, н<а>пример). Без Вас ничего не предприму. Крепко надеюсь, что мы свидимся в июне к самому процессу. Если Вы воротитесь в Петербург в конце мая, то я еще буду в Дрездене. Что надо, пишите: адресс мой: Allemagne, Saxe, Dresden, а M-r Thйodore Dostoiewsky, poste restante. Не забывайте poste restante.
Примите уверение в самом полном уважении
Вашего покорного слуги
Федора Достоевского.
NB. Повесть "Рулетенбург" ("Игрок") имеет ровно столько листов, сколько обозначено в контракте. Сосчитайте, тут придирки не может быть.
(1) в подлиннике ошибка: 55 года
(2) в подлиннике ошибка: в 54 году
(3) (этот...... бумагу) вписано
(4) в подлиннике ошибка: 55 года
(5) далее было: Право
(6) в подлиннике ошибка: 55 года
(7) в подлиннике ошибка: 55 и 56
(8) в подлиннике ошибка: 55
(9) далее было начато: а я обя<зуюсь?>
(10) в подлиннике ошибка: 55 года
(11) в подлиннике ошибка: 55 года
(12) вместо: в "Игроке" - было: там
(13) далее было: вполне
428. H. H. СТРАХОВУ
18 (30) мая 1871. Дрезден
Дрезден 18/30 мая.
Многоуважаемый Николай Николаевич, Вы прямо так-таки и начали Ваше письмо с Белинского. Я это предчувствовал. Но взгляните на Париж, на коммуну. Неужели и Вы один из тех, которые говорят, что опять не удалось за недостатком людей, обстоятельств и проч.? Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до дела (48 год, 49 - теперь) - выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. В сущности всё тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). Ведь уж, кажется, достаточно фактов, что их бессилие сказать новое слово - явление не случайное. Они рубят головы почему? Единственно потому, что это всего легче. Сказать что-нибудь несравненно труднее. Желание чего-нибудь не есть достижение. Они желают счастья человека и (1) остаются при определениях слова "счастье" Руссо, то есть на фантазии, не оправданной даже опытом. Пожар Парижа есть чудовищность: "Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции". Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, красотою. Итак, эстетическая идея в новом человечестве помутилась. Нравственное основание общества (взятое из позитивизма) (2) не только не дает результатов, но и не может само определить себя, путается в желаниях и в идеалах. Неужели, наконец, мало теперь фактов для доказательства, что не так создается общество, не те пути ведут к счастью и не оттуда происходит оно, как до сих пор думали. Откуда же? Напишут много книг, а главное упустят: на Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и - как это ясно! А падение папской власти рядом с падением главы римско-германского мира (Франция и друг). Какое совпадение!
Всё это требует больших и долгих речей, но вот что я собственно хочу сказать: если б Белинский, Грановский и вся эта шушера поглядели теперь, то сказали бы: "Нет, мы не о том мечтали, нет, это уклонение; подождем еще, и явится свет, и воцарится прогресс, и человечество перестроится на здравых началах и будет счастливо!" Они никак бы не согласились, что, раз ступив на эту дорогу, никуда больше не придешь, как к Коммуне и к Феликсу Пиа. Они до того были тупы, что и теперь бы, уже после события, не согласились бы и продолжали мечтать. Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо: это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение - в неизбежности этого явления. И уверяю Вас, что Белинский помирился бы теперь на такой мысли: "А ведь это оттого не удалось Коммуне, что она все-таки прежде всего была французская, то есть сохраняла в себе заразу национальности. А потому надо приискать такой народ, в котором нет ни капли национальности и который способен бить, как я, по щекам свою мать (Россию)". И с пеной у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои, позоря Россию, отрицая великие явления ее (Пушкина), - чтоб окончательно сделать Россию вакантною нациею, способною стать (3) во главе общечеловеческого дела. Иезуитизм и ложь наших передовых двигателей он принял бы со счастьем. Но вот что еще: Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне Христа по-матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него, неужели себя, тогда как мы так гадки. Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость. Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и боже - как наврал о нем в своей поэтической статье Григорьев. Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (н<а>прим<ер>, о "Мертв<ых> душах"). Он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь обличил. Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики: он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую (4) ноту и явился с "Повестями Белкина" и с "Арапом". Он с удивлением провозгласил ничтожество "Повестей Белкина". Он в повести Гоголя "Коляска" не находил художественного цельного создания и повести, а только шуточный рассказ. Он отрекся от окончания "Евгения Онегина". Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пушкина. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между тем это сказано по прочтении чрезвычайно значительного рассказа Тургенева "Три портрета". Я бы мог Вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чутья и "восприимчивого трепета", о котором врал Григорьев (потому что сам был поэт). О Белинском и о многих явлениях нашей жизни судим мы до сих пор еще сквозь множество чрезвычайных предрассудков.
Неужели я Вам не писал про Вашу статью о Тургеневе? Читал я ее, как все Ваши статьи, - с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой. Если Вы признаете, что Тургенев потерял точку и виляет и не знает, что сказать о некоторых явлениях русской жизни (на всякий случай относясь к ним насмешливо), то должны бы были и признать, что великая художественная способность его ослабела (и должна была ослабеть) в последних его произведениях. Так оно и есть в самом деле: он очень ослабел как художник. "Голос" говорит, что это потому, что он живет за границей; но причина глубже. Вы же признаете и за последними произведениями его прежнюю художественность. Так ли это? Впрочем, я, может быть, ошибаюсь (не в суждении о Тургеневе, а в Вашей статье). Может быть, Вы не так только выразились... А знаете - ведь это всё помещичья литература. Она сказала всё, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художническом слове, (5) уже не помещичьего, - хотя и выражают в безобразном виде.)
Как желал бы я Вас еще застать в Петербурге. Понятия не имею, когда ворочусь. (Между нами - мечтаю через месяц.) Но если не придут деньги и упущу срок, то придется остаться опять. Но это ужасно и бессмысленно.
Роман я или испорчу до грязи, до позора (я уже начал портить), или осилю, и хоть что-нибудь да из него выйдет хорошее. Пишу наудачу. Вот теперешний мой девиз. (Всё это между нами, ради бога.)
А я так мечтал встретить Вас в Петербурге первого. Без сомнения, проехаться Вам в высшей степени необходимо. Но - не останьтесь как-нибудь в Киеве совсем. Ваши письма стали страшно пугать меня за Вас. Вы один из людей, наисильнейше отразившихся в моей жизни, и я Вас искренно люблю и Вам сочувствую. Вы просто в унынии (об смерти начали говорить!). Ах, хорошо бы было нам повидаться!
А "Заря"-то, кажется, и совсем не выйдет. Неужели так? Как грустно. Я апрельского номера вот уже 2 месяца не получаю и в объявлениях не вижу. У меня есть мысль, что "Заря" могла бы спастись от падения, целый план. Но долго описывать, да и специальностей о "Заре" я не знаю. Я только вообще думаю, что не худо бы журналам (хоть одному начать) специализироваться. Например, "Заре" в одну эстетико-критическую сторону и более ничем не заниматься, никаких других отделов. А ведь, право, могло бы удаться. Жаль, что не могу развить перед Вами мою мысль сейчас.
Об Тургеневе читал у Вас (в письме) с наслаждением. Эта шельма художественно верна самому себе. Я его знаю своими боками. Много бы мог разъяснить, но оставляю до свидания.
Ваш весь искренно Вам преданный
Ф. Достоевский.
Если можете черкнуть - напишите. Адресс тот же. Жена Вам кланяется. (6)
(1) далее было: в счасть<е>
(2) вместо: (взятое из позитивизма) было: (основанное на позитивизме)
(3) далее было начато: в общ<ечеловеческом>
(4) было: фам<ильярную?>
(5) далее было: на
(6) далее было: 1 слово нрзб.
429. А. Н. СНИТКИНОЙ
16 июля 1871. Петербург
Петербург, 16 июля 1871 года.
Многоуважаемая и любезнейшая Анна Николаевна,
Сегодня, в шестом часу утра, бог даровал нам сына, Федора. Аня Вас целует. Она в очень хорошем состоянии здоровья, но муки были ужасные, хотя и не долгие. Всего мучилась семь часов. Но слава богу, всё было правильно. Бабкой была Павла Васильевна Никифорова. Сегодня приезжал доктор и нашел всё превосходно. Аня уже спала и кушала.
Ребенок, Ваш внук, необыкновенно велик ростом и здоров. Мы все Вам кланяемся и Вас целуем, а я особенно целую Вам руки за Любу. Любочка немного нездорова поносом, но весела и не слабеет. Она очень об Вас тосковала в дороге. Вас спрашивала и звала. Ребенок родился почти нечаянно; вчера за обедом мы еще и не думали, что пришло время. За квартиру платим дорого, комнаты просторные и недурно меблированные, но нам не совсем удобно. Хозяйская жена повивальная бабка и, кажется, обиделась, что мы ее не взяли; а ее взять было нельзя, потому что у ней и вывески нет и мы не знаем про нее, какая она.
Сегодня Аня получила письмо от Ивана Григорьевича. Пишет, что деньги получил и через два дня будет в Петербурге у нас, проездом в Дрезден. Обо всем переговорим. Итак, ждите Ивана Григорьевича. Конечно, он уже Вам написал. До свидания, многоуважаемая Анна Николаевна. Мы Вас все любим очень. Вспоминайте и Вы о нас хорошо. До свидания и дай бог Вам и всем всякого успеха. Бог не без милости, и я верю, что всем будет успех. Павла Васильевна Никифорова прекрасная женщина и славная бабка, хотя и очень молода.
Все последние дни Аня хлопотала, искала квартиры, возилась с гостями. Гости от нас почти не выходят, но Марья Григорьевна не была еще, хотя Аня и заезжала к ее мужу на квартиру.
Целую Вашу руку и пребываю Вам искренно преданный
Федор Достоевский.
430. С. А. ИВАНОВОЙ
18 июля 1871. Петербург
Петербург 18 июля/1871.
Милая, дорогая Сонечка, не сердитесь, что давно не писал Вам. Всё ждал, что увижу Вас лично, был в ужаснейшем положении в Дрездене, ожидая денег, не мог работать и на свет не глядел.
7-го июля мы выехали из Дрездена, а 9-го были уже в Петербурге. Ехали в курьерском поезде, - жена на последних днях, а Люба без няни, у меня на руках, - не спали и не останавливались двое суток. В Петербурге бросились искать квартиры, нашли сквернейшие chambres-garnies. Очень дорого, хлопотливо, с скверными жидами хозяевами. Потом толпой посетили нас родные и знакомые - выспаться было некогда, и вдруг с 15-го на 16 июля Анна Григорьевна почувствовала муки. 16-го в пятницу в 6 часов утра бог даровал мне сына Федора (которого в эту минуту пеленают; а он орет здоровым сильным криком). Таким образом, работать не мог, в Москву сейчас ехать не мог (а ужасно нужно лично объясниться с Катковым). Сажусь теперь за работу, тогда как в голове туман, и несомненно жду припадка. Измучился. Думаю, что между 25-м июля и 1-м августа буду в Москве, если не задержат здесь неумолимые обстоятельства. Ну вот Вам несколько строк. Больше ничего и писать не могу. У нас хаос, прислуга скверная, я на побегушках. Можете представить, в каком расположении. Адрессую Вам в редакцию "Русского вестника". Доставят ли вовремя? Целуем и обнимаем Вас все. Вчера ввечеру приехал Иван Григорьевич. Поклон мой всем, кого увидите. Елене Павловне особенно.
Аня Вам кланяется, Люба и Федька тоже. Все мы Ваши друзья и Вас любим.
Федор Достоевский.
Ради бога, голубчик Сонечка, отвечайте мне тотчас же, и при этом напишите, в Москве ли Катков. Если он не в Москве, то почти нельзя рисковать ехать в Москву.
Адресс мой:
у Юсупова сада, на углу Большой Садовой и Екатерингофского проспекта, по Екатерингофскому проспекту, дом № 3, квартира № 7. Федору Михайловичу Достоевскому.
431. Е. П. и С. А. ИВАНОВЫМ
9 августа 1871. Петербург
Петербург 9 август<а>/71.
Дорогие Сонечка и Елена Павловна,
Неужто Комаровский прислан в Петербург только с платками? Приехал он в субботу вечером, а во вторник с ранним поездом отправляется. Он очень красив собой. Желаю ему всякого благополучия тем более, что, очевидно, превосходный человек.
На станции у Петровского я заметил Вас, но Вы-то заметили ли меня? Письма от Анны Григорьевны получил из Москвы.
Приехав в Петербург, тотчас же простудился и заболел довольно серьезно. Теперь только остатки болезни.
Видел Александра Александровича, он еще собирается в Москву и в Даровое и вовсе не отложил намерения ехать. Напротив, в высшей степени было бы ему полезно. Едете ли Вы, Сонечка, в Даровое?
Елене Павловне имел бы кое-что сказать, да писать некогда. Скажу только, что я никогда не забуду ее доброты к Ивану Григорьевичу.
Марье Сергеевне мой глубокий поклон. Она со вкусом. Комаровский, однако, заждался: он сидит, а я пишу. И потому до свидания.
Весь Ваш Федор Достоевский.
Напишу еще. А Вы мне.
432. П. А. ИСАЕВУ
18 августа 1871. Петербург
18 ав<густа>.
Люб<езный> Паша, я у Петра Петровича сегодня был. Он обещал быть тебе всячески полезным. До свидания.
Твой Ф. Достоевский.
433. А. Н. МАЙКОВУ
Конец августа (не позднее 30) 1871. Петербург
Дорогой Аполлон Николаевич!
Будьте так добры и сделайте великую честь мне и Анне Григорьевне, не откажитесь быть крестным отцом Феде.
Мы крестим в среду, совершенно никого почти не зовем. И если зайдете обедать, то тут же всё и будет совершено.
Итак, можно ли ожидать? Простите, что не попросил гораздо ранее. Но тревоги-то наши были каковы?
Адресс мой: близ Загородного проспекта (и Технологического института), по Серпуховской улице, дом № 15 (г-жи Архангельской), во 2-м этаже.
Ваш весь, душевно преданный
Федор Достоевский.
434. С. А. ЮРЬЕВУ
27 октября 1871. Петербург
Петербург, 27 октября 1871 г.
Милостивый государь Сергей А-ч.
Извините, во-первых, что, не зная Вашего отчества, ограничиваюсь буквою. Справиться в настоящую минуту не у кого, а замедлить ответом не хочу. Вчера, зайдя случайно в магазин Базунова, получил письмо Ваше от 14 октября. Если б не зашел, то пролежало бы у Базунова сколько угодно, хотя им и известен мой адресс.
Спешу ответить Вам по порядку. Письма Вашего ко мне в Дрезден я не получал совсем и вчера только в первый раз узнал от Вас, что Вы ко мне уже писали. Быть сотрудником Вашего журнала считаю за большое удовольствие, а обращение Ваше ко мне с приглашением сотрудничества - весьма для себя лестным. Но в настоящую минуту я весь занят работою в "Русском вестнике" и до окончания этой работы должен отказать себе в удовольствии прислать повесть в прекрасный журнал Ваш, который доставил мне много приятных часов. Если и не соглашаешься иной раз с иными приводимыми мыслями (впрочем, очень редко), то все-таки всякую статью читаешь с любопытством, а иные статьи обратили на себя внимание всеобщее и запомнятся.
Пишу для того, что Вы сами в письме Вашем как бы поощряете меня высказать мое мнение. Оно искренно, и каждую книгу "Беседы", перед появлением ее, я (да и все) ожидаю с большим любопытством.
К рождеству я, может быть, буду в Москве и в таком случае надеюсь лично засвидетельствовать Вам мое уважение.
С совершенным почтением имею честь быть, м<илостивый> г<осударь>, Вашим покорнейшим слугою.
Федор Достоевский.
Адресс мой: С.-П<етер>бург, Серпуховская улица, дом № 15.
435. П. А. ИСАЕВУ
5 ноября 1871. Петербург
5 ноября/71.
Люб<езный> Паша, мне вчера Аполлон Николаевич случайно в разговоре упомянул, что Леонид Николаевич спрашивал о тебе и желал бы тебя видеть. Ничего не знаю сам для чего, но не для работы ли какой? Сходил бы ты к нему не отлагая, если хочешь.
Тебя очень любящий
Федор Достоевский.
1872
436. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
2 января 1872. Москва
Москва 2 января/72 года.
Милая, бесценная моя Аня, вчера был обрадован твоим письмом и от Любочки. Ангельчик мой! Воображаю, как она писала. Расцелуй ее и будь подобрее к ней, если она капризится. Федька истинно обрадовал меня тем, что выздоровел, здоровы ли вы только теперь? Расцелуй мальчишку моего; бьюсь об заклад, что он узнает меня по приезде и улыбнется мне. - Слушай, Аня, меня ваши 13 градусов беспокоят (здесь в этом роде, но сегодня не более 8). У тебя пальто не для 13 градусов; не простудись, ради бога, береги себя и, если что - извести по телеграфу. Беспокоюсь я за вас очень и, главное, хочется увидеть. А между тем здесь (по поводу праздничного времени) я ужас как много трачу времени даром, что и скучно и убыточно. Вчера оставил только визитные карточки Каткову и его супруге; сегодня же, несмотря на то, что Катков ужасно занят и, главное, что и без меня бездна людей поминутно мешают ему своими посещениями, - отправился в час к Каткову, говорить о деле. Едва добился: в приемной комнате уже трое кроме меня ждали аудиенции. Наконец я вошел и прямо изложил просьбу о деньгах и о сведении старых (1) счетов. Он обещал дать мне окончательный ответ послезавтра (4-го числа). Итак, только 4-го получу ответ, а там насчет выдачи и прочего опять потребуется свое время. Хорошо, если я выеду 5-го, а ну как если 6-го или 7-го? Главное, проживусь. Обедать звал меня Аверкиев завтра; у Верочки же я провожу только вечера, а обедать совещусь, потому что у них, кажется, очень тонко, и это видно, так что обедаю на свой счет. Итак, послезавтра я тебе напишу о результате окончательно. Если же (2) что случится, напишу и завтра. Кажется, Катков даст что-нибудь - и это верно. Я сужу по его тону, и не захотел бы он сам меня задерживать напрасно. От Каткова поехал к Аксакову, который прекрасно и радушно принял меня и у которого просидел часа три. Звал в четверг к себе вечером, но только случай какой-нибудь может задержать меня в четверг в Москве.
Я всё думаю, голубчик мой, не испугал бы тебя как-нибудь Поляков. Но, ради бога, не тревожься, он никаких мер дурных не успеет принять до моего возвращения, если б и хотел повредить. Вот с Гинтерлах так надо бы было объясниться: эта меня более беспокоит.
Где встречала Новый год? Я, разумеется, у Верочки. Был Саша Карепин, и было довольно забавно. Но все-таки грустно очень. Плещеева здесь нету. Думаю заехать к Чаеву. В "Беседе", кажется, не буду. У Елены Павловны быть еще не успел, а главное - дети у ней в скарлатине. Береги наших, ради бога, береги. Глаз немного стал болеть больше (но не такие припадки, как в Петербурге). До свидания, ангел мой. Я думаю, после 4-го числа тебе уже и нечего писать ко мне, потому что мы с письмом разъедемся. Но 4-го напиши, и если что-нибудь случится, то пиши или телеграфируй. Но дай бог, чтоб не было никаких этих крайностей.
Обнимаю тебя от всего сердца, люблю тебя очень. Целую и благословляю детей, очень благодарю Любу за пифо, поцелуй ей за то ручку, купи нададу (3) и скажи, что от папи. Разиняротого Федюрку целую прямо в ротик.
Твой весь Ф. Достоевский,
(1) было: прежних
(2) после: Если же - зачеркнуто: удастся выехать 5-го, то уж
(3) пифо - вероятно, на детском языке - письмо, нададу шоколаду.
437. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
4 января 1872. Москва
Москва 4 января/1872 года.
Добрый, бесценный голубчик мой Аня, был сегодня у Каткова и - опять затруднение: извинялся и просил повременить, когда сведут счеты, которые еще свести не успели. Дело, думаю, решится завтра, но если и благоприятно, то вряд ли (с здешнею медлительностию и неаккуратностию) решится в один день. Думаю, однако, что никак не позже 6-го или maximum 7-го (1) не засижусь, тем более что проживаюсь ужасно и не хватит, пожалуй, денег, хуже всего, если решение будет неблагоприятно, а я боюсь, что так, пожалуй, и будет, хотя Катков чрезвычайно желает сделать мне всё, что возможно. От Каткова я прошел (в том же доме) к Воскобойникову (прежнему знакомому, а теперь работает у Каткова в редакции "Москов<ских> ведомост<ей>"). От него я узнал, что счеты мои у них в большом беспорядке, но что он сам, по просьбе Аверкиева, проверял их третьего дня и в результате должно быть 1300 руб. моего долга. (Заметь, что два последние забракованные ими листа романа в счет не вошли.)
Потом он мне сказал, что с прошлого года все выдачи денег производятся не иначе, как с согласия Леонтьева, которому сам Катков уступил в этом добровольно деспотическую власть. Таким образом, всё зависит от согласия Леонтьева, а в расположении этого человека ко мне я не могу быть уверенным. Воскобойников даже полагает, что Катков не отвечал мне сегодня единственно потому, что не успел еще переговорить с Леонтьевым, который очень занят в Лицее.
Так что я опять совсем не уверен, и, главное, если мне откажут, принужден буду с ними просто порвать, что уже очень худо. Как я жалею, что написал тебе, чтобы ты мне с 4-го числа уже не писала. Можно бы было и 5-го написать без опасения, что мы с письмом разъедемся.
Твои письма, ангел мой, меня очень радуют. Но всё ли у вас теперь хорошо? Рад за тебя и за Любу, что вы обе повеселились на елке. Поцелуй ее. Боюсь, что забудет обо мне. Что Федя? Здоров ли, тепло ли у вас? Топи, голубчик, если у вас чуть-чуть холодно. Сегодня здесь 20 градусов. Вчера Аверкиев принес утром мне билет в театр, и я видел его драму, после того у него обедал, а вечером был у Верочки. У них какое-то уныние и совсем нет денег. Я предлагал на перехватку по-братски у меня - она не взяла. Но сегодня Соня должна была получить из "Р<усского> вестника" 140 руб.
Вообще мне здесь скучно, а главное - совершенная неизвестность. Завтра во всяком случае напишу тебе.
До свидания, голубчик, радость моя Аня. Обнимаю тебя от всего сердца. Признаюсь тебе, что я всё еще крепко надеюсь. Вот черта: я рассказал Каткову, глаз на глаз, сюжет моего будущего романа и слышал от Аверкиева, что он уже рассказал сюжет двум лицам.
Если так, то не может же он относиться к моей просьбе пренебрежительно. (Иное дело Леонтьев.)
Обнимаю детишек Любочку, Федюрку. Корми их получше Аня, не скупись на говядинку. Боюсь, что пристают к тебе кредиторы. Полякова боюсь ужасно.
До свидания, ангел мой, целуй Любочку и Федю, обнимаю тебя, твой весь, тебя любящий
Федор Достоевский.
Что делаешь запись имения на брата - это хорошо.
Тебе все кланяются. Мое почтение Ольге Кирилловне и супругу ее.
(1) слова: Думаю...... 7-го - отчеркнуты на полях
438. В. Д. ОБОЛЕНСКОЙ
20 января 1872. Петербург
Петербург 20 января/1872.
Милостивая государыня
княжна Варвара Дмитриевна,
Ваше письмо от 6-го декабря я имел честь получить только на этой неделе. Во-первых, адресс был неверен, и, кроме того, я был целый месяц в Москве, так что письмо Ваше прождало меня всё время у меня на столе в Петербурге. - Благодарю Вас очень за внимание к моему роману: я всегда сумею оценить искренний отзыв, как Ваш, и Ваши похвалы мне весьма лестны. Для таких-то отзывов и живешь и пишешь, тогда как в нашем литературном мирке всё, напротив, так условно, так двусмысленно и со складкой, а стало быть, всё так скучно и официально, особенно похвалы и лестные отзывы. Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне.
Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.
Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет?.. И, однако же, отнюдь прошу не принимать моих слов за отсоветование. Повторяю, я совершенно сочувствую Вашему намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно лестно... Еще раз извините мой поздний ответ, - но виноват без вины.
Адресс мой, на всякий случай: Петербург, Серпуховская улица, дом № 15.
Примите, княжна, уверение в глубочайшем моем уважении. Ваш покорнейший слуга
Федор Достоевский.
439. А. А. РОМАНОВУ (наследнику)
28 января 1872. Петербург
Ваше императорское высочество
милостивейший государь,
Осмеливаюсь еще раз писать к Вашему высочеству, а вместе с тем почти боюсь выразить мои чувства: одолжающему, с сердцем великодушным, почти всегда несколько тяжела слишком прямо высказываемая благодарность им одолженного, хотя бы и самая искренняя. Чувства мои смутны: мне и стыдно за бывшую смелость мою, и в то же время я исполнен теперь восхищения от драгоценного внимания Вашего высочества, оказанного просьбе моей. Оно дороже мне всего, дороже самой помощи, мне оказанной Вами и спасшей меня от большого бедствия.
С чувством беспредельной преданности осмеливаюсь пребыть Вашего императорского высочества покорнейшим слугою.
Федор Достоевский.
28 января 1872 года.
440. С. А. ИВАНОВОЙ
4 февраля 1872. Петербург
4-го февраля/72.
Дорогой друг мой Сонечка, Вы на меня не сердитесь, что я до сих пор молчал. Дела были плохи и даже до того хлопотливы, что поневоле ни о чем, кроме них, не думал. Голова трещала. Теперь вдруг, благодаря одному случаю, дела мои в одном отношении поправились, не знаю только, до какой степени, совсем или нет? Получил денег и удовлетворил самых нетерпеливых кредиторов. Но совсем еще не расплатился, далеко до того, хотя сумму получил не малую. Как я ее получил, о том скажу когда-нибудь после.
Вторая часть моих забот был роман. Правда, возясь с кредиторами, и писать ничего не мог; но по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в редакции, все-таки будет не бог знает как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие-нибудь перемены самые мелкие. И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большею частию сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, то есть, оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтоб удовлетворить целомудрие редакции. И в этом смысле пошлю им ultimatum. Если не согласятся, то уже я и не знаю, как сделать.
Александр Александрович заходил два раза и всё молчал. Он сыскал квартиру, а искал ее долго. Может, зайдет в воскресение. Не знаю, когда Вас увижу. Наша идея - чуть весна и выехать из Петербурга. А потому очень повторяю просьбу мою: если возможно, скорее осведомиться насчет возможности нанять в деревне и уведомить нас, чтобы мы знали заблаговременно. А лето в деревне нам почти необходимо для поправления здоровья Любы. На Петербург же надеяться нечего, тут здоровья не поправишь.
Кажется, в феврале вы хотели оставить вашу квартиру; боюсь, дойдет ли это письмо?
Сам я погружаюсь теперь в работу: хочется заблаговременно к лету кончить, чтобы до выезда запродать второе издание, что возможно. Меня здесь несколько развлекают обязанности выезжать на вечера. Хочу совсем запереться. Много думал об Вас. Мы должны летом прожить как-нибудь друг от друга поближе. Моя жизнь кончается. Ваша начинается; хочется, чтоб Вы помянули меня добрым словом. Да и вообще я во многом рассчитываю на лето.
Мамашу Вашу целую сердечно. Передайте ей, что в Петербург приезжал Веселовский и неизвестно для чего был у меня. Он и оправдывался в медленном течении вашего дела и жаловался на законы. Дело стоит, по его словам, например, оттого, что один из свидетелей, подписавшийся под завещанием (Асафов, кажется, не помню наверно) уехал из Москвы и бог знает где находится. Мне кажется, что это вздор. Не может быть, чтоб закон не предусмотрел такого наивного препятствия и не заключал в себе же исхода, чтоб поправлять такие задержки. Разумеется, не зная дела, я ничего не сказал Веселовскому. Просил его заехать к сестре Саше, но он не был. И всё сплетни: он был у меня с Кашпиревым, дней 10 назад, а Базунов, к которому я зашел вчера в магазин за книгами, торжественно поздравлял меня вслух с получением наследства и что это уже "всем известно". Какая глупость, да распространись этот слух, и кредиторы съедят меня.
Я опять мое прежнее мнение: пусть Верочка и другие наследники соединятся и возьмут наконец адвоката значительного, который не боится Веселовского.
Машеньке скажите, что я обожаю Рубинштейна, серьезно, и раскаиваюсь в клеветах, мною на него взведенных. Юлиньке и всем ее подражательницам мой искренний привет. Наташу целую особенно и Лёлю. Жена всем вам кланяется и обнимает Верочку.
- Сделайте одолжение, не подражайте мне и ответьте мне сейчас же хоть двумя строчками. Если я месяц не писал, то ведь каковы же были и мои хлопоты и вместе с тем и расположение духа.
До свидания, Сонечка, еще раз жму Вам руку.
Искренний Ваш Федор Достоевский.
441. С. Д. ЯНОВСКОМУ
4 февраля 1872. Петербург
Петербург, 4 февраля 1872 г.
Многоуважаемый и незабвенный Степан Димитриевич, как я рад, что наконец знаю, куда Вам написать. Еще в ноябре Александр Устинович говорил мне, что Вы в Швейцарии. Давно ли Вы в Киеве? И почему именно выбрали Киев? (По климату?) Плохо то, что жалуетесь на здоровье. Представьте, и у меня точно такой же кашель, какой Вы описываете, но мне, по крайней мере в этом году, нечего думать о южных климатах. Другое дело летом, может быть, проеду хоть не в Италию, но в Воронеж и Киев и дай бог, чтоб еще привелось Вас застать в Киеве. Я бы очень, очень обрадовался, если б пришлось нам свидеться! Ведь Вы один из "незабвенных", один из тех, которые резко отозвались в моей жизни, и с именем Вашим связаны мои воспоминания. Нам, Степан Димитриевич, нельзя не свидеться перед старостью. Что же, надо признаться, старость подходит, а меж тем и не думаешь, всё еще располагаешь писать новое, что-нибудь создать, чем бы наконец сам остался доволен, ждешь еще чего-то от жизни, а меж тем, может быть, уже всё получил. Я про себя Вам повествую: что ж, я почти счастлив, кажется ужились и у нас двое детей, Люба и Федька, девочка и мальчик.
- Помните, как мы виделись в последний раз в Москве? Боже, какой Вы были еще тогда молодец, а теперь вот жалуетесь на нездоровье! Но уж если ездить за границу, то, по крайней мере, хоть здоровье-то вывезти оттуда. Я же пробыл за границей 4 года, в Швейцарии, Германии и Италии, и наскучило наконец ужасно. С ужасом стал замечать, что и от России отстаю, читаю три газеты, говорю с русскими, а чего-то как бы не понимаю, нужно воротиться и посмотреть своим глазом. Ну что ж, воротился и особенной загадки не нашел; всё в два-три месяца поймешь снова. Но вообще эта поездка за границу была, с моей стороны, большой нерасчет: я думал, отправляясь прожить за границей года два, написать роман, продать, нажить денег, заплатить долги (еще после журнала остались) и воротиться уже человеком свободным, да еще поправив здоровье. И что ж? Долги только увеличились, здоровье (то есть падучая) несколько поутихли (1) против прежнего, но радикально не вылечился, а между тем народились дети, и чем дальше, тем тяжеле было подняться с места, чтобы ехать в Россию. Вошел опять в страшные долги, но наконец кончил тем, что воротился - и вот моя эпопея с одной стороны.
Я всего здесь еще полгода. Дописываю последнюю часть романа, который печатаю в "Русском вестнике", и как допишу, к лету, хочется поехать (имею в виду) в деревню, в губернию (в Тульскую), чтоб поправить здоровье моей Любочки. Всё в порядке, но такая худенькая, а я ее люблю больше всего на свете. Вот Федька (здесь родился шесть дней спустя по приезде (!), теперь шести месяцев) так наверно получил бы приз на лондонской прошлогодней выставке грудных младенцев (только чтоб не сглазить!).
Нет, нам нужно повидаться и поговорить. В уме у меня съездить на Восток (Константинополь, Греческий архипелаг, Афон, Иерусалим) и написать книгу. Готовлюсь, то есть читаю. Поездка потребует менее года, а написать хочется многое, да и книга окупит.
Не покидайте меня, дорогой, незабвенный друг. Ведь Вы (2) мой благодетель. Вы любили меня и возились со мною, с больным душевною болезнию (ведь я теперь сознаю это), до моей поездки в Сибирь, где я вылечился. Желал бы я знать, что у Вас теперь в душе и в сердце, чем заняты, как смотрите кругом, чего желаете? Пишите, пишите, хоть изредка. Письма глупая вещь, я согласен, ничего не выскажешь, но что-нибудь да расскажешь, и таким образом хоть что-нибудь да узнаешь о бывшем друге.
Я Майкова вижу часто и передам ему о Цейдлере при первом свидании (мне кажется, что Цейдлер в Москве или около Москвы.) Вообще моя жизнь теперь трудовая. Пишется трудно и пишу по ночам. Но жить уединенно здесь нельзя, даже и работающему. Вот почему вижу и старых знакомых, знакомлюсь и с новыми.
Жена Вам очень кланяется и очень обрадовалась, что Вы отозвались. Она слишком много знала о Вас через меня еще и прежде и считает Вас (с одного взгляда в Москве) самым лучшим моим доброжелателем.
Радуюсь, что как раз теперь при деньгах, и спешу выслать мой долг сто рублей. Не браните, дорогой друг, что раньше не высылал: почти всё не было, за границей жил ужасно экономно, а когда было - то или не знаю Вашего адресса, или улетят так скоро, что и не опомнишься. Но, возвращая, еще раз благодарю. Эти 100 руб. решительно поддержали нас в свое время в Женеве,
До свидания. Жду непременно от Вас письмеца. А может быть, летом и свидимся. Эх, хорошо бы было!
На всю жизнь Вам искренно преданный и очень любящий Вас
Федор Достоевский.
Жена очень Вам кланяется и просит об ней вспомнить.
Адресс мой: Серпуховская улица, № 15, близ Технологического института.
NB. Не надо в доме Архангельской.
(1) так в подлиннике
(2) далее было: почти
442. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
16 февраля 1872. Петербург
Многоуважаемый Яков Петрович,
Не посетите ли Вы меня завтра (в четверг 17 февраля) вечером по поводу Федора Тирона, чем сделаете мне великую честь и чрезвычайное удовольствие. У меня будут только близкие, все Вам известные.
Вам искренно преданный
Ваш Федор Достоевский.
(Серпуховская улица, № 15, близ Технологического института.)
443. H. H. СТРАХОВУ
16 февраля 1872. Петербург
Многоуважаемейший (слог Владиславлева) Николай Николаевич, не сделаете ли Вы мне чрезвычайного одолжения передать мою всепокорнейшую и убедительнейшую просьбу Николаю Яковлевичу Данилевскому пожаловать завтра ко мне вечерком всё по поводу того же Федора Тирона. Я не знаю, где он живет, и на Ваше содействие вся моя надежда, а я очень бы желал видеть Ник<олая> Яковлевича у себя (то есть завтра, в четверг 17-го февраля, как и говорил я Вам в воскресение). Надеюсь, дорогой Николай Николаевич, что Вы сами не манкируете. Кроме же Вас будут немногие из близких (Владиславлев, Ламанский, Майков, еще кто-нибудь). Итак, надеюсь на Вас в обоих случаях. Будьте добры.
Ваш весь Федор Достоевский.
444. H. A. ЛЮБИМОВУ
Конец марта - начало апреля 1872. Петербург
<...> (1) 72 г.
Милостивый государь
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Я не ответил на письмо Ваше, ожидая выхода мартовской книжки. Вы замечаете мне, что роман сильно затянулся: что делать, я, судя в целом, виноват без вины (но все-таки виноват), а Вы имеете полное право, сознаюсь в том, негодовать. Затем Вы даете мне полные сроки, то есть Вашими словами: "Когда мною написано будет всё или по крайней мере значительная доза", - и тогда уже начать печатать.
Я считаю возможным вот что предложить с моей стороны и сверх того кой об чем попрошу Вас, многоуважаемый Николай Алексеевич. У меня две мысли насчет продолжения печатания: 1) у Вас в руках 2 1/2 листа, у меня через два дня будет отделана (2) еще глава. Таким образом, будет всего на <апрельскую> книжку 4 листа. Угодно ли В<ам> напечатать в апреле, - тогда уведомьте меня одной строчкой, и я немедленно вышлю Вам главу. Затем, говорю это твердо, доставка пойдет без перерывов, до самого окончания 3-й части, то есть романа, правда, не по четыре листа, но я постараюсь, чтоб не менее 2 1/2 до 3-х листов на номер. Повторяю, я говорю это твердо. Я столько раз был неисправен, что в этот раз употреблю все силы исправить прошедшее.
2-я мысль: если Вы уже так непременно желаете начать печатание 3-й части, когда она будет кончена или написана весьма значительная доля, чтоб не было перерывов, то я покорнейше и особенно просил бы Вас: начать печатанье с августовского номера. Тогда можно кончить разом в августовской и сентябрьской книгах, в двух номерах, по 6 или 7 листов (никак не более, судя по величине 3-й части), или в 3-х книгах (август, сентябрь и октябрь) - одним словом, как Вы пожелаете. Для меня это много составит <...> Я имею убеждение, что кончу может <быть>, гораздо скорее, чем сам рассчитываю. <Таким> образом, если начать, например, печатать с июньской книги и кончить до осени, то это значит (для меня) повредить роману. Без глупой похвальбы скажу: публика несколько интересовалась романом. В последнее время при выходе каждого номера об нем писали и говорили, по крайней мере у нас в Петербурге, довольно. До августа срок очень длинный и для меня, конечно, вредный: роман начнут забывать. Но, напомнив разом при напечатании вдруг 3-й части, я надеюсь опять оживить впечатление, и именно в то время, когда опять начинается зимний сезон, в котором роман мой будет первою новостию, хотя и очень ветхою. Сверх того у меня (знающего окончание романа) есть одно убеждение (очень позволительное), что эта 3-я часть по достоинству будет выше первых двух и особенно второй (а вторая-то и производила в эту зиму в Петербурге впечатление). Таким образом, роман обновится - а это мне очень будет полезно для 2-го издания, сейчас по окончании.
Вот почему и попрошу Вас покорнейше <уведо>мить меня теперь же, со<гласны> Вы на это (то есть до августа) в случае, <если> не захотите начать с апреля? Если же с апреля, то главу немедленно вышлю.
Мне кажется, то, что я Вам выслал (глава 1-я "У Тихона", 3 малые главы), теперь уже можно напечатать. Всё очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии. Клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе... Но всё объяснится еще более в 3-й части.
Примите от всей души уверение моего полного, искреннего и совершенного уважения и простите мне чернильное пятно на верху страницы; не сочтите за небрежность, что я не переписал письма.
Ваш всегдашний слуга
Федор Достоевский.
<...> случае прошу Вас, уведомьте меня теперь же о Вашем <...>
(1) края письма обгорели; образовавшиеся пропуски в тексте обозначены <...>
(2) было: готов<а>
445. M. И. ВЛАДИСЛАВЛЕВУ
13 апреля 1872. Петербург
13 апреля/72.
Добрейший и многоуважаемый Михаил Иванович, может быть, Вы уже знаете, что сестру Александру Михайловну постигло ужасное горе: умер Николай Иванович (сегодня в 6 часов пополудни). Это было так внезапно, ударом; болел всего сутки. Можете представить, в каком она горе. Брат Коля хотел сходить к Вам, уведомить Вас и милую Марью Михайловну и от имени сестры просить Вас сделать честь ей и семейству ее пожаловать на вынос тела и отпевание (в их приходе). Но на всякий случай она просила меня уведомить Вас нарочно письмом с тою же просьбою от ее имени. Завтра (то есть в пятницу) панихиды будут в час пополудни и вечером в 8 часов. Вынос же будет в субботу в 10 часов утра. Погребение на Смоленском кладбище.
Я всё время собирался написать Вам о Старой Руссе, многоуважаемый Михаил Иванович. Не получали ли Вы уже какого-нибудь ответа? Мы думаем, если всё удастся, переехать даже в самом начале мая, еще до сезона, который открывается в С<тарой> Руссе 20-го мая. Ужасно надо переменить воздух хоть на три месяца, особенно для детей. Полагаюсь на Ваше обязательное содействие. Но увидимся, вероятно, в субботу и переговорим.
Целую Машу, а Вам от души жму руку.
Вам совершенно преданный
Федор Достоевский.
Р. S. Простите за помарки; совсем разучился писать начисто. Не сочтите за леность или невнимание; ужасно устал сегодня.
446. В. М. ИВАНОВОЙ
20 апреля 1872. Петербург
Петербург. 20 апреля/72.
Любезный друг мой, сестра Вера Михайловна, во-первых, Христос воскрес, а во-вторых, не сердись, что так долго не отвечал на твое письмо от 31 марта (случились причины).
Но прежде всего о сестре Саше: конечно, ты уже знаешь теперь, что она овдовела; наверно, уже написал тебе Александр Александрович. Но так как я его с воскресения не видал и характер его знаю, то на случай, если он еще не известил тебя, пишу сам. Николай Иванович еще три месяца тому назад был несколько болен, был внезапный обморок, - чего с ним никогда не бывало прежде. После того обморока он чувствовал себя не совсем хорошо всю неделю. Затем в среду на страстной встал веселый и здоровый (как никогда не бывал, говорит Саша), шутил с детьми и вдруг после обеда (постного и очень необильного) упал без чувств и уже более не приходил в себя до самой смерти, то есть ровно сутки. Было много докторов, человека четыре, все решили, что апоплексический удар и не проживет суток. Саша прислала известить только нас, меня и Анну Григорьевну, так что Николай Иванович и умер при нас. Жаль его очень, человек добрый, благороднейший, со способностями и с сердцем и с настоящим, тонким остроумием. Хотя он в последние 8 лет ничего не делал, но зато много сделал для семейства, для детей, нравственно; учил, воспитывал их сам, и они обожали его. Хорошая вещь оставить на века в своих детях прекрасную по себе память, так что про него никак нельзя сказать, что он ничего не делал. (1) - Но, однако, каков же ваш жребий всех трех сестер: все вы овдовели, и вовсе ведь не потому, что мужья ваши были гораздо старее вас: Александр Павлович, по летам и силам своим, наверно, мог бы прожить еще 10-15 лет, Николай Иванович мог бы тоже еще десять лет прожить! Сестра устроила похороны, не жалея денег, хотя, впрочем, никакой не было особенной роскоши, да и в деньгах-то у ней довольно-таки скудно. Вообще средства остались небольшие. Жаль ее. Очень плакала, дети тоже. Ты ее детей, кажется, не знаешь: славный народ, нельзя не полюбить их.
Александр Александрович был (2) немедленно извещен Сашей и приехал на похороны, затем я видел его у Саши в светлое воскресение, и после того в понедельник заезжал он к нам с Ставровским. Что ты об нем беспокоишься, во-первых, он никогда не был здоровее и (несмотря на экзамены) не только не похудел, но пополнел даже, так что на него приятно смотреть. Во-вторых, дела идут прекрасно: недели две назад зашел вдруг ко мне веселый и довольный, сбыл два экзамена из двух главнейших предметов и из обоих хватил по пятерке. (Я люблю его за скромность, на мой вопрос когда-то он ответил, что из первых не выйдет, а из средних, и вот оказывается на деле, что выйдет из первых, значит, говорит мало, а дело делает. Нравится мне тоже, что он решительно становится хорошего образа мыслей.) На лето он получает (наверно) место на железной дороге, с подъемными, прогонными и сверх того с ежемесячным, весьма значительным жалованием. Чего же лучше; дай ему бог. А тебе только на него радоваться. Хоть он и не любит много рассказывать собственно о себе, но я знаю, из невольно высказанных им в разное время слов, что он только об вас и думает и, уж конечно, очень вас любит.
Теперь, голубчик, насчет дачи и Костюрина. Я всё ждал хоть какого-нибудь ответа (3) на мое письмо, то есть не то, что дача нанята, а хоть о том, что ты постараешься об этом или, лучше сказать, что тебе можно будет постараться об этом и дело не пошло на ветер. Но ты не ответила, до самого 31 марта. А так как вопрос о даче для нас слишком важен, то мы, по совету Владиславлевых, и поручили им (у Владиславлева там отец) нанять дачу в Старой Руссе. Владиславлевы хвалят место, хвалят воды, дешевизну и комфорт. Правда, место озерное и сыренько, это известно, но что делать. Воды действуют против золотухи и полезны будут Любе. Правда, (4) окончательного ответа мы еще не получили даже доселе, но Владиславлев (человек довольно точный) честью уверяет, что дача будет нанята непременно. А так как я всё ждал этого ответа каждый день три недели, то и не мог тебе ответить; да и теперь отвечаю не дождавшись. Благодарю, ангел мой, за хлопоты, за то, что ездила толковать с Костюриным, но дело в том, что я почти и теперь не могу дать окончательного ответа. Если не удастся в Старой Руссе, то (5) придется нанять у Костюрина. Скажу только, что, кажется, наверно наймем в Старой Руссе, тем более что уж очень много удобств дешевизна, скорость и простота переезда и, наконец, дом с мебелью, с кухонной даже посудой, воксал с газетами и журналами и проч. и проч. Но, повторяю, может, еще и не состоится, и тогда опять к Костюрину, а потому, милый друг мой, не можешь ли ты одолжить меня еще раз: как-нибудь сказать так Костюрину (если будет требовать ответа), (6) что окончательно еще не решено, что ты ответа от меня еще ждешь и т. д. А знаешь, мне очень жаль, что мы будем не в Моногарове. Но я наверно приеду гостить. Анна Григорьевна будет в Москве в августе, чуть ли не две недели, по делу. Тогда увидимся; обнимаю тебя крепко, Анна Григорьевна целует тебя. А насчет Сони что сказать? Хоть бы строчку написала! Ну пусть мы с ней оба решили раз навсегда, что переписка нелепость и что в письме ничего не расскажешь, но ведь это решение, на деле, лишь философский вздор! Мне бы хоть какую-нибудь ее строчку иметь. Ведь знает же она, что я ее люблю, а я хочу знать, что она меня любит.
Перецелуй всех детей. Скажи, ради бога, непременно Машеньке, что я глубоко стал уважать Nicolas. (7) Я сознаюсь искренно, что он много сделал для музыкального русского воспитания, но зачем же из-за него застреливаются русские барыни с полдюжиной его карточек на груди? Вот это, это что такое? Жестокий! Тиран!! Юлии Александровне искреннее мое уважение. Наташу особенно поцелуй.
(1) было: сделал
(2) далее было: тож<е>
(3) было: уведомления
(4) далее было: еще
(5) далее было начато: обращусь оп<ять>
(6) вместо текста (если...... ответа) - было начато: (еще будт<о>
(7) было: их Nicolas
447. H. H. СТРАХОВУ
3 мая 1872. Петербург
3 мая среда 72.
Любезнейший и многоуважаемый Николай Николаевич, как нарочно, Перов выпросил себе завтра в четверг льготный день и писать не будет. Да и портрет несколько затянулся, так что и нечего показать. А в воскресенье, кажется, он будет окончен вполне, да и с Перовым я бы очень хотел Вас познакомить. (Третьяков поручил уже ему сегодня, из Москвы, снимать и Майкова). А потому весьма прошу Вас: не манкируйте в воскресение, но этак капельку пораньше, если можно, в пятом часу, например. А теперь пока
весь ваш Федор Достоевский.
К 15 мая наверно уеду в Старую Руссу.
На конверте: Его высокоблагородию Николаю Николаевичу Страхову.
У Певческого моста, дом № 20 (Калугина), квартира № 28. Здесь.
448. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27 мая 1872. Старая Русса
Старая Русса. Суббота 27 мая/72.
Милый друг мой Аня, сегодня, в час пополудни, увидал Федю. По-моему, он совершенно здоров и весел. Тотчас узнал меня и полез срывать шляпу. Я боюсь, что он помешается на шляпе. Священник уже подарил ему в полное владение свою старую-старую шляпею. Но не в шляпе главное дело, а чтоб сорвать ее с головы. Теперь его закачивают спать (3 часа), а все два часа он лез ко мне и без умолку болтал. Очень тоже любит ползать по полу. Не похудел нимало. Но маленьких пятнушек, с горошинку, и не очень ярких по лицу много. Но мне сказали, что пятнушки были первоначально больше и краснее, а что теперь сильно проходят. Животик у него совершенно хорош и марается очень хорошо и аккуратно. Вид очень веселый. Первые дни, говорят, грустил больше, то есть тянулся из комнаты в комнату и всё искал. А первую ночь, няня говорит, совсем напролет не спал, но с аппетитом, впрочем, ел. Теперь же спит хорошо. Вообще всё, что до него касается, хорошо. Вчера здесь открыли воксал. Я подожду еще день, а если пятнушки не пройдут, обращусь к Рохелю или к Шенку за советом.
Священник встретил меня с радостию, всё расспрашивали, (1) и я всё рассказывал. Няня тоже довольна удачей операции, но, кажется, недовольна, что не едешь ты сама.
В настоящую минуту у меня голова кружится, потому что я ничего не спал. В Новгороде парохода не застали, потому что он, по поводу открытия воксала, сделал экстренный рейс с губернатором, но пришел в 6 часов утра, и все-таки приняли на пароход не иначе как по взятии билета уже в 1/4 8-го. С двух до 6 часов провел я в гостинице Соловьева, где, впрочем, спал часа полтора. Здесь погода ясная, но каждый день вспрыскивают дожди и не так знойно, как в Петербурге. Впрочем, великолепно.
Теперь, главное, о Любе. Я о ней очень беспокоюсь. Ну что, если ты с ней пойдешь на улицу, а с тобой случится обморок? Наконец, ты можешь заболеть. Кроме того, выпрямится ли ручка, когда снимут перевязку через три недели? Довольно зла произошло от нашей небрежности и доверчивости. Надо, чтоб косточки совершенно срослись. Не подействовали бы на нее тоже зной и духота, не заболела бы она? А что, если и ты расхвораешься? Ради бога, проси маму не оставлять тебя. Твое положение с Лилей несравненно хуже и неприятнее, чем положение Ольги Кирилловны, которая будет окружена всеми удобствами и утонченностями науки. Да и сами они, я убежден, маме не дадут даже вымыть своего ребенка. Думаю тоже о том, как ты будешь возвращаться сюда: переезды хлопотливые, с задержками, ломкие.
Тоскую тоже без Лили. Оставил я ее в такое критическое время и хоть пользы не много бы ей принес, но все-таки на глазах, сам бы не тосковал.
Осторожно ходи с нею по улицам. В Петербурге так толкаются, столько пьяных. Ради бога, не ходи смотреть на праздник 30 мая: ей сломают опять ручку в толпе наверно. Всё об этом думаю и об тысячи вещах и всё тоскую.
Сбила тоже меня с толку твоя записка. Во-первых, у нас прачки нет, кому же я, сейчас, отдам всё мыть? Я думал, что у нас давно есть прачка. Марья привела какую-то, и я выдал ей на пробу постирать несколько вещей (записав белье, разумеется). Во-вторых, в твоей записке, которая лежит теперь передо мной, ясно и точно сказано, что всё белье, чистое и черное, и большое я найду в большом сундуке. Совершенно исковерканный и измученный дорогой, едва стоя на ногах, принялся я искать в большом сундуке и что же - ничего не нашел белья. То есть в полном смысле слова хоть бы одну штуку. Есть две или три твоих рубашки, кажется, еще дрезденской стирки, а больше нет ничего, кроме разных лоскутьев. Правда, есть еще какая-то салфетка, в которую тоже завернуты какие-то лоскутки, - и только. А белья нет никакого. Лежит же белье какое-то в шкапике, потом черное мое в большом платяном шкапу, да какие-то штуки на стульях, да в комоде во втором ящике две-три салфетки и черные простыни - одним словом, всё разбросано и разметано в совершенном беспорядке. Прачка придет опять в понедельник, тогда соберу все остальные лоскутья, выдам и запишу. А теперь ноги подламываются. Я часа полтора перебирал сундук. Ничего не помял. Впрочем, там еще буду искать. Вообще, не имея реестра нашего белья, трудно мне будет прийти к порядку.
Здесь, чтоб письмо пошло в тот же день, надо непременно доставить его на почту до девяти часов утра. Итак, это письмо никоим образом не могло бы пойти сегодня, а пойдет, разумеется, завтра.
Обо всех других делах не думаю, слишком устал и клюю носом. Мучусь только, не случилось бы чего с вами, и предчувствую, что все три недели не буду покоен.
Здесь, когда начинают купать детей в соленых ваннах, то через две недели начинает появляться сыпь, а месяца через три проходит (то есть проходит золотуха). Не золотушлив ли и Федя? Может, еще до купанья, а просто от одного здешнего воздуха, у него уже появились пятнышки? Не надо ли, стало быть, его покупать. Впрочем, если пятнушки пройдут сами собой, то нечего ходить к Шенку или Рохелю. Кроме этих пятнушек (которые исчезают), повторяю, он совершенно здоров и весел.
Целую Лилю бессчетно. Говори ей обо мне, напоминай. Спрашивала ли она обо мне хоть разок?
Ну до свидания, прошу тебя очень писать ко мне, хоть по пяти, строк, но чаще и, главное, с полною откровенностию.
Очень целую тебя, твой совершенно усталый
Федор Достоевский.
Пятнушки на лице у Феди гораздо меньше горошинки (я ошибся), а цвету бледно-коричневого, были же вначале у него красные. Очень расчесал себе руки и ноги. Очень кусается. Проснулся, весел совершенно.
Вообрази: священник еще не получил моего второго письма.
(1) так в подлиннике
449. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
28 мая 1872. Старая Русса
Старая Русса. Воскресение 28 мая/72.
Милый друг мой Аня, хочу написать тебе еще раз, а уж там начну писать, как уговаривались, через день. Очень жду от тебя письма, но вот уже семь часов, и, по всей вероятности, сегодня не получу. Что Люба? Ужасно беспокоюсь об вашем предстоящем житье в Петербурге. Федя вчера вечером был в бане, но ночью часто просыпался, впрочем совершенно здоров, какает чудесно, отменно весел, срывает шляпы и смеется. Подозреваю, что хотят вырезаться зубы, потому что он очень уже кусается, но жару нет. Мне кажется, няня слишком уж любит его закачивать спать, по-моему, от этого только кровь густеет, а ему надо бы побольше гулять. Семейство священника, а главное сам он, кажется, очень любят Федю. Пятнушки всё еще продолжаются, мелкие, почти совсем под цвет волос его, крапинками. Сегодня даже три новых красных больших пятнушка. Но я вижу и убедился, что это совсем не болезнь, а просто цветет. Тут произошли три большие перемены: воздуха, воды и пищи. Сейчас священник мне рассказывал, что встретил какого-то доктора и спросил его, что такое, если пятнушки на лице, как у Феди? Тот отвечал, что это всегда у маленьких при таких переменах и что довольно одной из них, например воздуха, чтоб произвести на несколько дней не то что цвет, а даже сыпь. При этом спросил: худенький или полный мальчик? Коли полный, то непременно слегка зацветет, на несколько дней. Узнав же, что весел, кушает и ходит отлично, жару нет, сказал, что совсем не о чем беспокоиться и что так именно и должно происходить. Я, впрочем, если завтра или послезавтра не пройдут еще пятнушки, то, несмотря на его полное здоровье, позову Шенка. Признаюсь тебе, что я до твоего приезда боюсь советоваться с докторами: нападешь на дурака, который тотчас же закричит, что надо лечить от золотухи, тогда как у Феди никакой нет золотухи. Это случается между докторишками сплошь.
Береги Любу и старайся сама больше обращать внимания на физическую сторону своего здоровья. Больше спи, например. Не выходить нельзя, - но ужасно боюсь, не случилось бы с вами чего на улице.
Мне здесь страх скучно. Погода здесь хорошая и не очень жаркая, солнце, но весь день беспрерывно спрыскивали дожди. Мы с Румянцевым ходили сегодня утром к протопопу (Ивану Смелкову) с визитом. Протопопша очень изъявляла желание с тобой познакомиться. Протопоп казался очень довольным моим посещением, но, мне кажется, он в 10 раз хуже нашего Румянцева.
Был в воксале, был в конторе вод и вывел заключение, что ничего нет здесь труднее, как получить какое-нибудь сведение. Всё сам отыскивай. Гуляющей публики в саду не так чтобы очень много. Но есть порядочно приезжих офицеров. Много золотушных детей. Впрочем, продолжают приезжать, ходят по городу и ищут квартир.
Я убежден, что мне всё это время до вас будет очень скучно. Завтра примусь за работу. Главное, что ты мне не можешь помогать стенографией, а то мне бы хотелось поскорее отправить в "Русский вестник". Священник отдал мне сегодня деньги, я взял наконец без отговорок, 21 руб., а 4 издержаны. Всего-навсе у меня в кармане 72 р. Ах, Аня, надо работать и работу кончать, а там деньги будут.
Но об вас беспокоюсь до мучения. Ну что, если ты захвораешь, заснешь невольно, - что будет с Любой? Хоть бы письма ты писала. Что мама? Не родила ли Ольга Кирилловна? (В эту минуту Федя проснулся и ужасно болтает с няней, очень любит говорить, но всё для-для-для-ли-ли-ли или хохочет, а больше ничего не выговаривает.) Шляпу сорвал с меня и с священника сегодня раз десять.
Публика здесь очевидно ужасно церемонная, тонная, всё старающаяся смахивать на гран-монд, с сквернейшим французским языком. Дамы все стараются блистать костюмами, хотя всё, должно быть, дрянь страшная. Сегодня в саду открытие театра, идет комедия Островского, цены высоки, но хотел было пойти для знакомства. Кофейных, кондитерских мало ужасно. Ужасный мизер эти воды, и парк мне решительно не нравится. Да и вся эта Старая Русса ужасная дрянь.
А все-таки воздух оживил бы и тебя и Любу, и вот ждать. Целую тебя, а Любу благословляю и молюсь за нее. Напоминай ей обо мне. Поскорей бы вы здесь все, во всем комплекте, а там помышлять бы и о дальнейшем.
Ради бога, пиши обо всем откровенно. Видишь, я тебе всё откровенно пишу.
Твой Ф. Достоевский.
Поцелуй Любу. Целую тебя. Не худей, пожалуйста.
450. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
30 мая 1872. Старая Русса
Старая Русса 30 мая/72.
Сейчас получил от тебя, друг мой, известие о смерти Марьи Григорьевны. Ужасно изумлен и ужасно мне ее жалко. Экая бедная! Но как же она умерла 1-го мая, когда уже месяца три, как мы слышим о ее болезни? Жалко детей, Павел Григорьевич ровно через год женится. - Намерение твое насчет мамы я в высшей степени порицаю. Это против всех правил опытности и знания сердца человеческого. Если ты привезешь ее в Ст<арую> Руссу и здесь только откроешь, то она тем сильнее здесь будет поражена. То есть будет поражена наисильнейше, и ты выбираешь самый громоносный случай. Слушай: если Павел Григорьевич в отчаянии, а дети плачут, то если теперь открыть маме, половина горя ее уйдет на сострадание к тем и на мысль, что те все-таки не только не меньше, но и больше ее потеряли, особенно дети. Горе ее поневоле смирится перед их горем, и маме легче будет плакать над детьми и с детьми. Тогда как если теперь от нее скрыть, то после первого мгновения горя она бросится в Петербург к детям, чтобы над ними поплакать (но она убеждена будет, что она им будет и полезна), и как она будет досадовать на тебя, припоминая, что она долго не видала детей, или, пожалуй, побранила или подумала дурно о Маше! Одним словом, надо открыть ей сейчас и для облегчения вдвое немедленно свести ее с Павлом Григорьевичем и детьми, особенно с теми, которые плачут. Иначе ты, может быть, будешь виною ее болезни.
Но я знаю, что вам всем, Сниткиным, что ни говори - ничего не поделаешь, и потому убежден, что ты меня не послушаешься.
Привезти же маму в Ст<арую> Руссу уже после открытия (когда сама ты воротишься) я бы тебе советовал непременно. Здесь место уединенное, комнат очень много, и она может жить, как у себя в Саксонии, и отдохнуть. Смотри же, пригласи и настаивай. Но. для этого непременно надо теперь открыть.
О Лиле я забочусь и мучаюсь, воображаю духоту или холод петербургские. Ты ничего не пишешь про погоду. Выпрямится ли ручка? В газетах читаю об оспе в Петербурге. Берегись Васильевской и Петербургской части - там оспа. Пиши, пожалуйста, о Лиле.
Федя здоров и весел. Призывал вчера Шенка. Он осматривал подробно и сказал, что решительно ничего не значит, что так у всех детей. Никаких соленых ванн не нужно, а что не худо бы его мыть по временам в корыте мылом. Так как Федя при нем смеялся, то он не мог не полюбоваться ребенком и сказал, что это славный мальчик для 10 месяцев.
Няня у нас хороша и любит Федю, но какая-то своеобычная, и за ней тоже нужно следить. Никогда не любит говорить, как марается ребенок и т. п. Здесь вечера после 7 часов сыреньки, а она выносит Федю всё в той же рубашечке и даже без шляпы, да и на землю сажает. И я и священник за этим наблюдаем. Не беспокойся.
Где ты теперь? Не переехали ли куда? Вот на Ольгу Кирилловну чтоб не произвела дурного впечатления смерть здоровой, молодой женщины, то есть в мнительности, накануне родов.
Вчера получил твое первое письмецо. Слишком уж коротко пишете-с.
В сундуке отыскал наконец 2 простыни и несколько салфеток, но это и всё. Моего белья там не было, а нашел и всё мое белье по другим местам.
Обнимаю Лилю. Хорошо бы теперь писать хоть капельку почаще.
Целую тебя.
Твой Федор Достоевский.
Р. S. Ужасно жаль Машу! Вот бы только бы жить. Боюсь, что зарядило несчастьями. Поскорее бы съехаться. Я всё вижу дурные сны.
Пятнушки у Феди гораздо меньше, но он ужасно расчесал до рубцов свои ноги, то есть еще прежние пупырышки от волховских комаров и здешних клопов. Всё это видел Шенк и сказал, что никакой нет болезни, что комариные волдыри пройдут сами собою, а пятнушки вздор, и если чешутся, то тем лучше, ибо всякая детская сыпь чем больше чешется, тем и безвреднее. Его слова. А у Феди и сыпи-то нет.
Завтра 7 дней Лилиной люцте. (1) Не поджила ли хоть сколько-нибудь?
(1) люцте - ручке.
451. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
3 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса июня 3/72.
Любезный друг Анна Григорьевна, твое письмо от 30-го я получил только вчера. Почему-то не пришла почта. А сегодня тоже не надеюсь получить, потому что уже семь часов вечера. Ты пишешь, что я напрасно беспокоюсь. Но как не беспокоиться, когда столько самых неожиданных усложнений на каждом шагу. Ты пишешь, что была больна; но ты можешь быть больна еще раз. Еще что-то скажет мама, с своею болезнию и с своим неведением о судьбе покойницы Марьи Григорьевны? Кроме того, хорошо ли сойдет с Ольгой Кирилловной? Тебя всё это должно волновать. Между тем ты теперь единственное провидение Лили. Кто побеспокоится о бедном больном ребенке, если ты заболеешь? Как же не беспокоиться мне здесь? Не пишу уже ничего собственно о Лиле. Каждую минуту она может разбередить свою ручку, пока не срослась; достаточно лишь отвернуться от нее на миг.
Сейчас принесли твое письмецо от 1-го июня, за которое очень тебе благодарен, потому что эти известия несказанно ободряют меня. Но всего хуже то, что ты не спишь. Слушай, Аня: не помогут ли в чем здесь сестры милосердия? Ты бы поспала, а те бы посидели с ней. Иначе тебе одной не справиться. И вообще твое положение неказисто, а как далеко еще до конца! Бедная Лиля, разумеется, ей скучно и тоскует. Феде тоже, видимо, скучно, а ведь ты знаешь, какой он не капризный и простоватый мальчик! Любит меня ужасно, чуть я войду к нему, приходит почти в исступление, кричит, рвется ко мне. Любит быть у меня на руках. Мне кажется, ты найдешь, что он вырос и возмужал. Няня делает всё, что может, чтобы развлекать его, и мне даже ее жалко. Здоровье ее получше, но Федька тоже встает по ночам, и хоть бы плакал, а то встает и начинает прямо хохотать. Жизни детишки требуют, солнца, расти хотят, а тут и солнца-то нет: Лиля в душной скорлупе города, а мы здесь в куче грязи. Вот уже четвертый день отвратительная погода. Вчера же и сегодня такой дождь, такой дождь - что я и в Петербурге никогда не видывал. И не перестает до сих пор. Всё размокло и разбухло, всё раскисло. На дворе грязь, какую и вообразить нельзя, и, наверно, завтра еще будет так продолжаться. Кроме того, холодно: я и вчера и сегодня топлю, и, наконец, частая перемена ветру. Фечка просится тоже гулять, но и подумать нельзя. Тоскует и плачет. Я ему показываю лошадок в окно, когда едут, ужасно интересуется и любит лошадей, кричит тпру. Но теперь и к окошкам подносить нельзя, потому что дует в каждое окно ужасно. Если б не топить, то и жить нельзя б было.
Хотел бы я узнать, как ты решила с лечебницей, где рассчитываешь жить и нельзя ли чего сделать, чтобы вам возвратиться пораньше, только не рискуя делом.
Про маму думаю по-прежнему: сказать надо теперь. Еще, пожалуй, она обвинит в душе Ив<ана> Григорьевича, что он берег ее для ухода за Ольгой Кирилловной и потому и не объявлял ей о смерти Маши, а объявил уже после родин. Тогда как если объявить теперь, то поверь, что у ней удвоится забота об Ольге Кирилловне в решительную минуту, из одной потребности внутреннего возрождения энергии после такого горя, и эта забота излечит и самое горе отвлечением на другой предмет... В одном только я сомневаюсь: в том, что ее ноге не легче. От горя иногда усложняется и усиливается болезнь, даже хоть и наружная.
Как у вас погода? Такая ли хлябь, как у нас? Это ужас. Нет ничего несноснее зелени и деревянных домов во время дождя и при таком ужасном небе.
Если б ты знала, как мне скучно жить. Писать хорошо, когда пишется, а у меня всё идет туго. Да и охоты нет совсем. Читать тоже нечего. Какая Александра Михайловна была у тебя? Сестра моя?
Я не знаю, успею ли подать сегодня это письмо, чтоб оно пошло завтра до 8 часов утра. До почты далеко, и, кроме того, я не могу идти: до того грязно и мокро. Не смейся. Здесь идти почти невозможность в такую погоду.
Народ здешний тоже не совсем хорош. Кроме нашего священника, все остальные ужасно странны, глупы и грубы.
Ради бога, езди, а не ходи. Не глупи по-прежнему, не носи Любу. Езди непременно на извозчиках и непременно сделай так, чтобы выспаться. Недостаток сна тебя убьет. Здесь обо всем этом надо вновь распорядиться. Надо, чтобы хоть два месяца ты могла отдохнуть.
Я тоже, хоть и не позволяю себе ничего лишнего и даже счеты веду, а все-таки у меня деньги выходят. В эту неделю я уже рублей 20 истратил.
До свидания, голубчик Аня, целую тебя и Лилю. Передай ей от меня 1000 поцелуев и мою молитву о ней.
Твой Ф. Достоевский.
452. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса. 5 июня. Понедельник/72.
Милый друг мой Аня, получил сейчас твое письмо от субботы. Все эти известия меня просто убивают. Прежде всего ты, собственно твое положение: разумеется, не выдержишь, так жить нельзя. Не спать и мучиться с Любой сверх физических сил. Надо непременно на что-нибудь решиться. Мое мнение надо ехать тебе сюда, во что бы ни стало немедленно, сейчас. Надо взять от Барча записочку или изустное наставление вообще об Любиной ручке и привезти ее сюда в перевязке. Здесь же, когда минет месяц, пусть снимет перевязку Шенк. Не думаю, чтобы случилось что-нибудь дурное: спроси Барча и Гламу, расспроси, что бы могло случиться очень дурное? (я думаю, ничего) и разъясни им, что тебе никак нельзя оставаться долее. Я за тебя решительно боюсь. Вспомни, что ведь всем нам хуже будет и все дела наши расстроятся, если ты сляжешь. Насчет мамы я так думаю: если ей возможно, пусть едет с тобою сюда, если же нет, то неужели ей захочется вторую дочь потерять? У тебя есть дети и свои обязанности, нельзя же тебе всё время заботиться только о других. (1) Я к тому, что тебя не должны они задерживать в Петербурге. Денег достала бы столько, чтоб хватило на проезд. А там пусть пришлет Ив<ан> Григорьевич. Сообрази еще, что если оставаться в Петербурге, то непременно пока выйдет месяц после операции, ибо через 3 недели нельзя разбинтовать ручку, если б даже они соглашались. Я очень помню, что и Барч и Глама сделали гримасу на первоначальный вопрос мой о 3-х неделях и советовали месяц. Ну а ведь месяца ни за что тебе в Петербурге не выдержать. Так уж не лучше ли теперь воротиться, предоставив всё дело Шенку, тем более что и дела-то, кажется, никакого больше не будет.
Ты вот хочешь завтра (то есть во вторник) перебраться к Ив<ану> Гр<игорьеви>чу. Хорошо тебе там будет, воображаю! Ольга Кирилловна, кажется, целым месяцем ошиблась. Ты живешь в доме, в котором такая суматоха, где все больны, где Ив<ан> Гр<игорьеви>ч наверно потеряет голову, где тебя стеснят, а Люба всем надоест, и, главное, Ольге Кирилловне. Нет, Аня, прежде всего приезжай сюда, в Старую Руссу, но немедленно, сей же час.
Подумай, что ведь нерешимость гораздо невыгоднее для всех. Что может тебя, в самом деле, задерживать? Когда ты будешь читать это письмо, Любиной перевязке будет ровно две недели - это уже срок чрезвычайно обнадеживающий. Ведь она здорова, спокойна, имеет аппетит и только мучается скукой и всех сама мучает. Ну, если здесь, через две недели Шенк найдет что-нибудь при разбинтовке перевязки, тогда в крайнем случае опять хоть поедешь. Но ведь этого же совсем быть не может. И потому приезжай.
Может быть, тебе тяжело оставить маму и (2) семейство Павла Григорьевича? Но подумай, что ты взамен того положительно будешь в тягость в доме Ив<ана> Гр<игорьеви>ча. Что же касается мамы, умоляй ее приехать в Руссу, если теперь нельзя, то когда вылечит ногу.
Уверяю тебя, Аня, что я сам приеду за тобою. Я вижу, что подлее и сквернее твоего положения быть ничего не может, если же ты заболеешь тогда будет поздно. Тогда я ничего уже не напишу во всё лето, и что тогда повеситься?
Я не могу жить в этом беспорядке. Все причины оставаться тебе в Петербурге - фиктивные. Для чего ты там живешь, в самом деле? Всё сомнительное в ручке Лили прошло. Деньги? Но возьми у Ив<ана> Гр<игорьеви>ча несколько денег, очень немного, чтоб добраться только, и дело кончено.
И потому с получением этого письма прошу тебя очень, настаиваю - начни сейчас укладываться, сходи к Барчу или Гламе и отправляйся сюда в тот же день.
Кроме того, так как я до невыразимости страдаю всеми сомнениями отвечай мне в тот же час, как получишь это письмо. (Да и вообще я желаю, чтобы каждый день писались письма - иначе нельзя.)
Уклончивость или ложное известие о том, что ты здорова и что тебе хорошо - будет подлостью передо мною или перед Лилей (не говорю уже, перед бедным Федей). Лиля и без того мучается по даче, только не может сказать по чему, но очень возможно, что она заболеет в петербургской духоте!
И что ж, лучше что ль будет, если я через три, через 4 дня сам приеду за тобой, потеряв время? И без того много денег и времени потеряно без малейшей пользы для нас.
Снимать же повязку Лили ни в каком случае раньше месяца я бы не хотел.
Не может же мама претендовать на тебя, что ты неблагодарная дочь. (3)
Федя здоров, но я бы желал, чтоб ты воротилась. Ему очевидно чего-то недостает, и иногда он очень скучает.
Главное, прошу тебя, уведомь меня сейчас, сию секунду, неотложно и во всяком случае пиши каждый день, хоть по три строчки.
Со вчерашнего вечера погода разгулялась. Здесь во всяком случае здоровее, чем в Петербурге. Еще скажу: при тебе будет меньше выходить денег. У меня теперь всего-навсе (4) 57 руб. Это с священниковыми 21 р., отданными мне. Я берегу, впрочем, очень.
Вчера был у обедни в соборе. Протопоп уже два раза приходил ко мне. Я был у него один раз, пойду еще.
Мне нестерпимо скучно жить. Если б не Федя, то, может быть, я бы помешался.
Пишется ужасно дурно. Когда-то добьемся хоть одного месяца спокойствия, чтоб не заботиться сердцем и быть всецело у работы. Иначе я не в состоянии добывать денег и жить без проклятий. Что за цыганская жизнь, мучительная, самая угрюмая, без малейшей радости, и только мучайся, только мучайся!
Ты не сердись, это к тебе не относится. Но пойми, что лучше бы жить с здравым смыслом, а не наперекор ему. Взвесь же мое предложение и воротись сюда сейчас. Я (5) не пойму никак причин, которые тебя могут задерживать. Одно, что ты больна. О, не дай бог, если наконец и этого добьешься! Тогда всё пропало, и, главное, средств ни гроша, чтобы что предпринять.
Ради бога, отвечай сейчас же. Твой очень тебя любящий
Федор Достоевский.
Я перечитал это письмо. Не сердись, ради Христа, на меня. Я не тебя укорял. Но ведь наконец до того станет тяжело, что не вытерпишь. Я предвижу весьма возможный ужас, что ты не выдержишь и заболеешь, и потому заранее в отчаянии. Но если, на беду, мама очень заболеет и тебе надо будет остаться при ней - останься, но извести меня тотчас же и пиши каждый день. Если сама заболеешь хоть каплю - пиши сейчас, сию минуту, или вели написать, но без лжи.
Успокойся, я подожду твоего ответа, но только немедленно пришли его и пиши каждый день (не надо слога, три строчки).
Бедную мученицу и для других мучительницу Лилю целую 1000 раз. О, как до помешательства тяжело жить!
(1) вместо: о других - было: о них
(2) далее было: тяжело с:
(3) далее следует семь слов, густо зачеркнутых
(4) далее было: около
(5) далее было: тебя
453. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса. Четверг 8 июня/72.
Сейчас получил твое письмо, друг мой Аня, от 6 июня. Письма ко мне приходят, кажется, позже всех в городе. Почта приходит в час, а я получаю в 6 пополудни. Заметил это почтальону - он же на меня и раскричался. Ужасно здесь дерзкий народ. - Пишешь о том, что Барч хочет снять перевязку 12 числа. Я рад, если это возможно, но и боюсь. Ну что, если не поджила еще совсем ручка и начнет кривиться? Может быть, Барч делает это, не видя другого исхода, то есть за невозможностью тебе ждать. Ах, Аня, поторопимся, и что будет потом! Вот моя последняя просьба: решись только в том случае, если Барч вполне и настойчиво удостоверяет тебя, что нет ни малейшей опасности.
И опять-таки: по снятии перевязки надо взять инструкцию, ведь быть не может, чтобы тем совсем и кончилось! Некоторое время всё еще надо беречь ручку и ходить за ней, а может быть, и лечить. Спроси непременно, не забудь, Барча: не заболит ли ручка по снятии перевязки наружно (кожа, н<а>прим<ер>, начнет слезать), потому что слишком долго была герметически закупорена от влияния воздуха. Наконец, не опасно ли, сняв перевязку, оставить ребенка действовать ею как здоровой рукой. Осторожно ли будет? Ну обопрется обо что-нибудь, стукнет ручкой, и суставчик, еще чуть-чуть сросшийся, опять надломится.
Это хорошо, что ты переехала к Сниткину-доктору, а не к Ивану Григорьевичу. Я решительно был в тоске от прежнего твоего намерения. Ну как можно жить в душных комнатах, где столько мебели, где есть родильница и ребенок, с Лилей, которая капризится и плачет. Вот было бы безумие-то. Но и у Сниткина-доктора вряд ли тебе будет хорошо. Эх, Аня, лучше бы было остаться в Максимилиановской до середы, если уж Барч находит возможным снять перевязку! Ну что 35 рубл., а по крайней мере была бы у себя дома. А то еще на Любу будут коситься. Там тоже есть ребенок. Люба будет мешать, надоест.
Итак, буду ждать вас мало-помалу. Мне здесь очень скучно. Работа же труд (да еще скверный), а не развлечение. Если б не Федя, совсем бы умер с тоски. Федя весел, но слишком уж тих. Ужасно мил. У него не проходят на руках и на ножках комариные болячки. Каждую ночь расчесывает, страх смотреть, с не знаю, что предпринять. Здесь же его вновь кусают какие-то мошки, которые теперь развелись. Их укус очень чешется, делается волдырь и не проходит. Может быть, те же комары.
Не забудь купить пакетов; выходят. Не достанешь ли больших пакетов для меня? Не забудь взять "Р<усский> вестник" и "Беседу".
Мне решительно некогда ходить в гости, а надо сходить к протопопу. Некогда даже и гулять. На минутку забегаю лишь читать газеты. Деньги здесь очень выходят.
Обнимаю тебя. Лилю целую бессчетно. Хоть бы взглянуть-то на нее!
Твой весь Ф. Достоевский.
Теперь каждый день буду отсчитывать до вашего возвращения.
Не знаю, по какому адрессу теперь писать к тебе. Пишу на старый.
А маму не привезешь? Пригласи ее, если так, настоятельно. Да обратите вы внимание на ее ногу посерьезнее.
454. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
9 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса 9 июня/72.
Милая Аня, пришло твое письмо от 7-го, в котором ты меня стараешься успокоить. Я и спокоен, только глупо было Барчу с самого начала не говорить, в чем дело. Эти господа воображают, что все мы живем какими-то отвлеченными. существами, у которых ни дел ни забот и всё время свое. Вот выходит теперь, что снятие перевязки действительно важная вещь: зачем же было с самого начала не рассказать, в чем ход дела: не было бы многих недоразумений. То, что снимают повязку 14, а не 12-го, мне кажется, хорошо. Только жаль и тревожит заранее, если найдут, что дело еще не сделано и надо перевязку другую, войлочную. Без сомнения, если тебе велят остаться еще, то остаться необходимо. Но уж как бы желательно, чтоб поскорее вы воротились. Скука здесь, хоть умри. Но если и на скуку приедешь, то все-таки, мне кажется, тебе лучше будет, чем теперь в Петербурге, а Лиле и подавно. Ты пишешь, что письмо тогдашнее отправила в минуту раздражения. Да и ведь то одно, что есть такие минуты раздражения, много показывает. (1) Думаю тоже про Лилю: в Петербурге ей теперь хуже, чем зимой, а здесь воздух чистый, песок, и, может быть, ванны помогут. Об ваннах спроси хоть Михайлу Николаевича. (NB. Здесь, чтоб допустили пользоваться ваннами, надо представить удостоверение от доктора, который, описав в этом удостоверении болезнь, помечает, что такому-то больному надо принять на первый случай столько-то ванн (10, положим), а там он увидит. За эти 10 ванн вносятся деньги сюда в контору, и выдается билет на пропуск в ванны. Взять это свидетельство можно и от петербургского доктора. Не взять ли у Мих<аила> Н<иколаеви>ча, если найдет полезным? А впрочем, ведь это всё равно. Не обойдемся же здесь без Шенка.
Для посещения воксала, музыки, библиотеки надо взять билет единичный или семейный и заплатить особо от 4-х до 6 руб., кажется.)
Если Барч настаивает снимать перевязку собственноручно - то и чудесно. Пусть, по крайней мере, начатое дело окончится и раз навсегда. Но то, что он особенно настаивал, меня несколько тревожит.
Мне ужасть как надо переписывать то, что я успел написать. Ужасно затянется работа. Дорого стоила нам эта люцьта. (2)
Протопоп предложил мне владиславлевскую люльку, которую они, когда жили, здесь у него оставили, и уже прислал мне. Это огромнейшая люлька, в которой можно спать и большому, глубокая и без раскачки. Итак, для детей кроватки есть.
Ты пишешь, что осматриваешь квартиры. Когда ты находишь время? Спрашиваешь моего мнения: да что же я могу сказать, не видав? Одно только скажу окончательно: ни за что не брать квартиры в Шестилавочной. Принцип же мой ты знаешь насчет квартиры: хоть подороже, но только пусть комфортно и спокойно, ибо в такой больше наработаешь. А то сохранишь рублей 200 экономии, а на 1000 руб. не допишешь. Из твоих же описаний мне несравненно больше нравится в Саперном. Но так как с Троицкой разница в цене малая, то, конечно, на твою волю. Да отдавай, между прочим, преимущество высоким потолкам. Чем выше, тем лучше, пусть меньше комнат, но выше потолки.
600 или 700 руб. не бог знает что, если бог нас сохранит. Но в том беда, с которого времени их считать? С сентября или с того дня, как наймешь? Что делать, впрочем? Надо покориться. Только чтоб работать. Вот в чем вся штука и загадка. Хорошо бы нанять теперь и дать задаток.
Федя здоров и весел. Но лучше, если бы ты поскорее воротилась. Побольше развлечения ему полезно. Погода у нас недурная. Обнимаю Лиличку. Помнит ли она меня? Не забыла ли?
Твой Федор Достоевский.
(1) далее четыре слова густо зачеркнуты
(2) т. е. ручка
455. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса 12 июня/72.
Сейчас, уже в 7-м часу, получил твое письмо от 10 июня. Мне решительно всё позже и позже приносят и определили, кажется, из всего города приносить последнему. Таков здесь разряд на чины у почтовых чиновников. Отвечу тебе только несколько строк: на все твои намерения я вполне согласен, как ты и знаешь сама, но ужасно буду скучать, если Барч оставит тебя еще на 4-ю неделю (хотя что же делать, надо слушаться). Ты пишешь, что скучаешь по мне, верно, больше, чем я по тебе. Отвечу: я не знаю, по ком я больше скучаю, но мне так скучно, что, поверишь ли?
- досадую, зачем нет припадка? Хоть бы я разбился как-нибудь в припадке, хоть какое-нибудь да развлечение. Гаже, противнее этого житья быть не может, вместе с Старой Руссой. - Федя здоров, но вчера несколько раз очень плакал и почти всю ночь эту не спал. Теперь ясно, это зубы. Ночью плакал ужасно, неслыханно; приду я - тотчас развеселится у меня на ручках и начинает мне показывать, как мычит коровка, пищат птички. Сегодня днем веселее гораздо. Маленький понос (но слишком маленький). Очень вкусно ел, сейчас спал и встал веселый. Что-то будет эта ночь?
Милая Лиля, как должно быть ей скучно! Так вы живете в Фонарном почти одни, а семейство на даче? - вот это хорошо. Если скоро выедешь, ради бога, обрати внимание на то, что я уже писал тебе про дорогу. Не утоми себя и сбереги Любу.
Вчера, получив твое письмо, я очень встревожился за брата Колю, а написать тебе позабыл. Нельзя ли тебе, голубчик, перед отъездом еще раз узнать об нем подробнее, и не дать ли ему еще хоть капельку денег? Ну что, если умрет. Тяжело мне будет.
До свидания, друг мой, благодарю, что обо мне хоть немножко скучаешь. Я всё работаю, но для меня это мучительно. Вот уже семь часов, а я еще со двора сегодня не выходил. У нас дни так себе, только ветрено.
Целую тебя и твои ручки и Лилю 1000 раз.
Тв<ой> Ф. Достоевский.
А что, если ты отправишься в среду и, стало быть, это письмо не дойдет до тебя? Но в среду наверно не отправишься. Зато не знаю: писать ли тебе теперь еще, завтра или послезавтра? Соображусь с обстоятельствами.
456. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
14 июня 1872. Старая Русса
Старая Русса, среда, 14 июня/72.
Сейчас получил твое письмо от 12-го и вижу, что ты решительно собираешься к нам, милая Аня. Поэтому пишу лишь два слова, единственно в той печальной надежде, что тебе еще не удастся уехать, а стало быть, еще получишь это письмо. Федя здоров и в хорошем расположении. Все мы ждем тебя. У меня в ночь на 13-е число был припадок из сильных, так что до сих пор темно в голове и разбиты члены. Это еще больше остановило мою работу, так что и не знаю, как я буду с "Р<усским> вестником" и что обо мне там думают. Что пароход не доходит, - то это вздор. Сегодня еще пришел к самому берегу. Он будет не доходить в конце июля или в августе, когда река обмелеет. Насчет денег нечего и говорить, плохо. - Ужасно боюсь за вас с Любой, за вашу дорогу. Опасно еще то, что чуть ветер, и пароход нейдет, а выжидает. Тебе бы в Петербурге взять прямо до Руссы и с пароходом. Ну, до свидания. Целую тебя. Приезжай скорее. Сегодня среда, что-то скажет Барч! И когда я об этом узнаю? А насчет того, что ты приедешь завтра, в четверг, то, разумеется, в это трудно поверить. Хоть бы в субботу.
Ну, до свидания. Целую тебя 1000 раз и Лилю. Боюсь я за нее в дороге.
Твой муж Ф. Достоевский.
Всем поклон. У нас сегодня дождь.
457. H. A. ЛЮБИМОВУ
19 июля 1872. Старая Русса
Старая Русса июля 19-го/1872 г.
Милостивый государь,
многоуважаемый Николай Алексеевич.
Извините, что всё Вам надоедаю и Вас беспокою.
Сегодня я выслал в редакцию пятую (большую) главу 3-й части моего романа (21 полулисток). Это не то, что я Вам обещал выслать в последнем письме (дней пять тому назад) к концу июля. Это только половина обещанного. Высылаю же теперь потому, что эта пятая глава, по моим соображениям, могла бы быть напечатана вместе с четвертой, для полноты эпизода. Если печатание началось с июльской книжки (и я думаю, в числе двух глав), то 3-ю, 4-ю и 5-ю главу хорошо бы было пустить вместе с августовской, хотя и будет не менее 4 1/2 листов.
Не сомневайтесь за сентябрьскую книжку, работа идет беспрерывно, и в конце июля я Вам вышлю совсем отделанную 6-ю главу. (NB. Эта 5-я, теперь высылаемая, и 6-я глава, которую вышлю в июле, по недавним еще соображениям моим доставляли всего одну главу. Но я раздробил эту уж очень большую главу на две, для полноты эпизода.)
В весьма большом беспокойстве о том, начнется ли печатание в июльском номере? Иначе не пойму, какие намерения редакции насчет этой третьей части.
Нахожусь тоже в недоумении, доходят ли мои письма в редакцию (и посылки романа)?
Впрочем, насчет помещения пятой главы вполне доверяюсь соображениям редакции и выразил только мое чрезвычайное желание.
Примите уверение в чрезвычайном моем уважении.
Ваш покорный слуга Федор Достоевский.
458. H. H. СТРАХОВУ
20 сентября 1872. Петербург
Многоуважаемый Николай Николаевич, я ждал Вас вчера с обещанными моими сочинениями, а сегодня был у Вас в четвертом часу и теперь в восьмом. Я поставлен наконец в такое положение, что завтра дело может быть в суде отложено. За отсутствием необходимейшего документа для поверки расчета полистной платы. Выйдя от Вас сегодня в четвертом часу, был у Базунова, чтоб купить, и у него не оказалось ни одного экземпляра. Он говорит, что и нигде нет, кроме как у Стелловского. Жена после обеда поехала искать у букинистов. Если она не найдет, то завтра день пропал. Только что получил записку от Губина, и он настоятельно требует запастись книгой. У Вас прождал сегодня без малого до 8 часов, потому что Ваша служанка убедительно уверила меня, что Вы непременно придете. Что делать? Пишу, чтоб объяснить мое часовое у Вас присутствие.
Ваш Достоевский.
20 сент./72.
459. Е. П. ИВАНОВОЙ
22 сентября 1872. Петербург
22 сентября/72.
Многоуважаемая Елена Павловна,
У меня к Вам чрезвычайная просьба, простите, что так прямо Вас беспокою. Ваш адрес я узнал от Ивана Григорьевича, а адреса Сони (то есть, собственно, где она в настоящую минуту) совсем не знаю. Вот почему и беспокою Вас. Вот в чем дело: мне крайне нужно быть в Москве, чтоб решить с Катковым лично дело о моем романе (и иначе, как лично сговорившись, решить нельзя, по совершенно особому обстоятельству). Между тем Любимов (редактор de facto "Русского вестника") известил меня, что Катков 1-го августа выехал за границу, с тем чтобы пробыть там месяца полтора. Надо Вам сказать, что мне во всяком случае придется (1) быть в Москве по поводу моего романа. Но лишнего времени я терять на поездку никак не могу. И потому, если приеду раньше Каткова, то, пожалуй, придется его дожидаться. Рискнуть же ограничиться в объяснениях моих одним Любимовым могу только в самом крайнем случае. Вот почему теперь, когда уже пора ехать в Москву, и приступаю к Вам с просьбою: получив это письмо, сообщить его Сонечке, если она в Москве, и передать ей покорнейшую и крайнюю просьбу мою мне помочь. Именно - сходить в редакцию, к Любимову или куда она знает, и, не сообщая, что я приеду, разузнать от себя: 1) приехал ли Катков? 2) если не приехал, то когда приедет? 3) если там не знают, то хоть приблизительно узнать от них, к которому дню его ждут. 4) как его здоровье и не может ли Сонечка на этот счет сообщить чего-нибудь особенного?
Сообщите ей тоже, что всё это имеет для меня, в моих делах очень, очень большое значение. Если не пишу ей прямо, то именно потому, что не знаю, где она теперь, не в Даровом ли?
В случае же, если она не в Москве и сообщить, стало быть, ей нельзя, то решаюсь на чрезвычайно назойливую просьбу собственно к Вам, добрейшая Елена Павловна. Именно: не можете ли Вы сами наведаться в редакцию ("Русского ли вестника", "Московских ли ведомостей" - всё равно) и там прямо спросить, не объясняя причины (это можно), когда ждут в Москву Михаила Никифоровича? Простите, что так досаждаю, но мне ужасно нужно.
И наконец, последнее и главное: если возможно, не медлить ни минутой и ответить мне сюда как можно скорее. Потому что уж и так совсем запоздал и если довел дело до последнего сроку, то потому лишь, что думал, узнаю и здесь как-нибудь: воротился ли Катков или нет? В случае Вашего ответа, что ждут, например, недели через две, и я, хоть и опоздаю приездом, но приеду в Москву не ранее как через две недели. Если же не приедет долго, то, нечего делать, придется сию минуту отправляться в Москву и объясняться с одним Любимовым (который, впрочем, уже уведомил меня 1-го августа, что без Каткова (2) не может ни на что решиться).
Давно слишком не видались мы и не имел я о Вас (и о Соне) никаких известий. Как я жил, что делал и чем особенно был занят, сообщу Вам при скором личном свидании. А теперь только излагаю просьбу, вполне надеясь на то, что Вы, зная меня, не рассердитесь на мою требовательность и будете бесконечно добры ко мне, как и всегда. Соню целую от всей души и жалею, что приходится жить с ней постоянно врознь. Машеньке, если в Москве, передайте от меня то же самое. Вам много преданный
Ваш Федор Достоевский.
Адресс мой: Петербург, Измайловский полк. вторая рота, дом № 14, Ф. М-чу Достоевскому.
(1) было: надо бы<ть>
(2) далее было: он
460. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
9 октября 1872. Москва
Москва. Понедельник 9 октября/72.
Милый друг Аня, вчера вечером получил твое доброе письмецо, за которое от всего сердца благодарю тебя и крепко целую. Итак, и Люба и Федя думают, что я сплю в моей комнате? Мне жаль их, ангелов, хоть бы забыли меня немножко. Говори им, что я гостинцы здесь покупаю и привезу им. Как ты поживаешь? Я переехал еще в субботу (заплатив в "Европе" за день) к Елене Павловне и стою в особом отделении ее нумеров, через дом. Мне покойно. С Любимовым по виду всё улажено, печатать в ноябре и декабре, но удивились и морщатся, что еще не кончено. Кроме того, сомневается (так как мы без Каткова) насчет цензуры. Катков, впрочем, уже возвращается: он в Крыму и воротится в конце этого месяца. Хотят книжки выпускать ноябрьскую 10 ноября, а декабрьскую 1-го декабря, - то есть я должен чуть не в три недели всё кончить. Ужас как придется в Петербурге работать. Вытребовал у них старые рукописи пересмотреть (да и Любимов ужасно просил)
- страшно много надо поправить, а это работа медленная; а между тем мне очень, очень хочется выехать в среду. И потому сижу дома и работаю. И, однако, вот сейчас надо будет съездить к Веселовскому, которого наверно не застану дома; стало быть, к нему проездить придется раза два или три. Вчера заезжал к Перову, познакомился с его женою (молчаливая и улыбающаяся особа). Живет Перов в казенной квартире, если б оценить на петербургские деньги, тысячи в две или гораздо больше. Он, кажется, богатый человек. Третьяков не в Москве, но я и Перов едем сегодня осматривать его галерею, а потом я обедаю у Перова. Ни у кого еще не был. Разыскивал Аверкиева, но адресса найти не мог. Если узнаю, то заеду к нему. Не знаю, поеду ли в "Беседу". Дела с поправкою рукописи бездна, времени не будет (а по-моему, с "Беседой" время и терпит). Ну вот и все мои пока приключения. Погода здесь летняя, но по вечерам сыренько. Купи себе, ради бога, шляпку.
Все-таки жду от тебя письма. Завтра, во вторник, может быть, еще напишу. От тебя же (1) желал бы получить еще хоть одно письмо. И очень прошу, если хоть какой-нибудь худой случай с детьми, то дай знать даже по телеграфу. Но это в худом случае (не дай его бог), а сама со вторника могла бы уж и не писать мне (если тяжело), потому что в среду наверно хочу выехать. Если задержит что на день, то это возня с поправкой рукописи. Но не думаю. Если запоздаю хоть днем - уведомлю.
До свидания, друг мой милый, целую тебя крепко, ты мне снилась во сне.
Твой Ф. Достоевский.
Любу целую. Скажи ей, что люблю ее больше всего на свете, так же, как и Федю. Господи, как я за них боюсь здесь! По ночам такая приходит грусть.
Все тебе кланяются. Сонечка такая хворая, Машенька же толстая, но с признаками золотухи. Елена П<авлов>на хлопочет с утра до ночи.
(1) далее начато: прошу вс<е-таки>
461. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 октября 1872. Москва
Москва 10 октября/72.
Милый друг мой Аня, сижу за работой, и поправок оказывается столько, что выеду не в среду, а в четверг. Пишу в три часа ночи. Спать хочется ужасно, но работы такая бездна, что нельзя лечь, и вдобавок завтра утром в 9-м часу пойду опять к Веселовскому, которого всё не могу застать (он с утра до ночи в суде по делу Мясниковых), но более как до четверга здесь жить не хочу, скучно здесь ужасно. Пишу тебе лишь для того, чтобы в четверг меня не ждала напрасно.
Сегодня обедал у Перова. Целуй детей. Ради бога, Анечка, сбереги их. Целую и обнимаю тебя.
Твой весь с ног до головы
Федор Достоевский.
11 часов утра. Ночью был один из сильных припадков. Голова болит, работать надо, не знаю, что делать. А к Веселовскому не ходил, проспал. Надо будет бежать сегодня на авось после обеда или в суд. Ч<ерт> возьми, сколько этот Коля задал мне шатанья и муки.
462. M. И. ВЛАДИСЛАВЛЕВУ
6 ноября 1872. Петербург
6 ноября/72.
Многоуважаемый Михаил Иванович,
К величайшему сожалению моему, я никак не предвижу возможности так устроиться, чтобы воспользоваться лестным приглашением Вашим на 8-е ноября. Серьезная, уже недели две продолжающаяся болезнь Анны Григорьевны задерживает меня, покамест, почти постоянно дома, главное, около детей. Своими занятиями, до крайности подошедшими к сроку, я уже не отговариваюсь. Во всяком случае позвольте заочно поздравить Вас от души со днем Вашего ангела и искренно пожелать Вам очень много раз встретить его еще, весело и благополучно, в кругу Вашего семейства. Чрезвычайно сожалею тоже, что лишаю себя таким образом возможности и встретиться у Вас с Вашими добрыми гостями и преимущественно с Ламанским и Григорьевым.
Ваш Ф. Достоевский.
1873
463. Bс. С. СОЛОВЬЕВУ
1 января 1873. Петербург
Любезнейший Всеволод Сергеевич,
Я всё хотел Вам написать, но откладывал, не зная моего времени. С утра до ночи и ночью был занят. Теперь заезжаю и не застаю Вас к величайшему сожалению. (1) Я дома бываю около (2) 8 часов вечера, но не всегда. И так у меня спутано теперь всё, по поводу новой должности моей, что не знаю сам, когда бы мог Вам назначить совершенно безошибочно.
Крепко жму Вам руку.
Ваш Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: Я дума<ю?>
(2) исправлено из: от
464. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
2-7 января 1873. Петербург
Милостивый государь Виктор Феофилович,
К сожалению, не могу напечатать эту прекрасно написанную статью без выпусков. Я настаиваю, впрочем, лишь на двух только выпусках: 1) на обеде в Невской лавре у новопосвященного архиерея и 2) где говорится (весьма ясно) о Каткове, Некрасове и Благосветлове.
1-й пункт так незначителен, что не стоило бы за него и стоять.
А со 2-м пунктом, надеюсь, согласится сам многоуважаемый автор.
Ваш слуга Ф. Достоевский.
465. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
6 или 13 января 1873. Петербург
Г-н Александров, прошу Вас, потрудитесь сейчас же прийти на минутку в типографию. Я и секретарь редакции Вас дожидаемся. Без Вас нельзя решить.
Редактор Ф. Достоевский.
Суббота 3 1/2 ч. пополудни.
466. Л. А. ЛЕОНОВУ
15 января 1873. Петербург
Статья Ваша, к сожалению, напечатана быть не может в "Гражданине", несмотря на многие ее достоинства. Мы разнимся с Вами в основном взгляде на причины падения всякого искусства и образования в наше время. Если Вам угодно поручить кому-либо принять Вашу статью из редакции "Гражданина", то ее выдадут Вам всегда от 2 до 4-х пополудни.
Ф. Достоевский.
467. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
26-28 января 1873. Петербург
Г-ну метранпажу.
Прошу Вас прислать сейчас набор (и оригинал) моей статьи ("Дневник писателя"). Уведомляю тоже, что окончания не будет и что статью надо вынуть. Если это может произвести затруднения, то прошу немедленно прийти в редакцию лично для переговору.
Достоевский.
468. С. А. ИВАНОВОЙ
31 января 1873. Петербург
31 января.
Голубчик мой Сонечка, каждый день кляну себя, что не соберусь к Вам написать, но буквально не имею минуты времени, а главное, такой минуты, чтобы написать Вам (потому что хотелось бы душу излить, а для этого нужно долго писать и отчасти выстрадать писанное). Время же мое теперь так скверно определилось, что я только кляну себя за решимость, с которою внезапно взвалил на себя редакторство журнала.
Податель письма - Всеволод Сергеевич Соловьев (сын историка). Я с ним недавно познакомился и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу. Его прошу я побывать у Вас и уговорить Вас приготовить ко времени его отъезда из Москвы письмо ко мне подлиннее и посердечнее. Люблю Вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более.
Как Ваше здоровье? (Главное.)
В Москве ли еще Верочка? Обнимите ее за меня.
Маше передайте, что я теперь уж серьезно хочу считать ее другом и согласен (1) с ней во всём и ни в чем противуречить не буду.
Напомните обо мне посердечнее Елене Павловне и передайте ей мое крепкое рукопожатие.
К Вам приехал Пав<ел> Александрович с женой. Приласкайте, голубчик, их и, если возможно, повлияйте Вашим духом и суждением (а la longue) на этого всё еще Хлестакова, хотя (и я серьезно говорю это) в нем много прекрасных сердечных качеств.
Я в настоящее время всё болен простудою. Непременно напишу Вам гораздо больше. Хотел писать с Пашей (да и нужно было даже для него, чтоб я написал Вам) и не имел, буквально, времени.
Если б Всев<олод> Соловьев был из обыкновенных моих знакомых, я бы к Вам не прислал его лично. Он довольно теплая душа.
Может быть, до святой или около того побываю в Москве.
Обнимаю Вас, голубчик мой, и целую.
Ваш Ф. Достоевский.
Если можете, передайте Соловьеву Ваши наблюдения о Паше и о том, как он начал в Москве. Если он мне и напишет, то все-таки это не будет истиной, хотя, я уверен, он бы написал правду. А потому все обстоятельства о нем было бы мне приятно знать. (2) Я люблю его, каков он ни есть.
(1) было: теперь согласен уж
(2) было: слышать
469. А. А. РОМАНОВУ (наследнику)
10 февраля 1873. Петербург
Ваше императорское высочество
Милостивейший государь,
Дозвольте мне иметь честь и счастие представить вниманию Вашему труд мой. Это - почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны, а потому и в романе моем нет ни списанных событий, ни списанных лиц. Эти явления - прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы; ибо, раз с гордостию назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития. Мы забыли, в восторге от собственного унижения нашего, непреложнейший закон исторический, состоящий в том, что без подобного высокомерия о собственном мировом значении, как нации, никогда мы не можем быть великою нациею и оставить по себе хоть что-нибудь самобытное для пользы всего человечества. Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так "высокомерны" в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными.
Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем. Далеко не успел, но работал совестливо.
Мне льстит и меня возвышает духом надежда, что Вы, государь, наследник одного из высочайших и тягчайших жребиев в мире, будущий вожатый и властелин земли Русской, может быть, обратите хотя малое внимание на мою попытку, слабую - я знаю это, - но добросовестную, изобразить в художественном образе одну из самых опасных язв нашей настоящей цивилизации, цивилизации странной, неестественной и несамобытной, но до сих пор еще остающейся во главе русской жизни.
Позвольте мне, всемилостивейший государь, пребыть с чувствами беспредельного уважения и благодарности Вашим вернейшим и преданнейшим слугою.
Федор Достоевский.
10 февраля 1873 г.
470. M. П. ПОГОДИНУ
21 февраля 1873. Петербург
21 февраля/73.
Многоуважаемый Михаил Петрович,
Сейчас прочел статью о Белинском. Зачем Вы не хотите подписаться под такою превосходною вещью полным именем? Что за Старый читатель журналов?
Статья тотчас же пошла в набор. Сегодня среда, завтра это получите. Черкните, ради бога, немедленно три строки о позволении подписать: М. Погодин. (Клянусь Вам, подумают, что это я сам сочинил, чтоб подтвердить мои указания о Белинском. Здесь многие меня обвиняли за эту статью.)
Теперь еще: я несколько раз подымался написать Вам на Ваши приветы мне что-нибудь потеплее. Но последние две недели был болен, а пуще всего расстроен нервами и до того, что даже сидел дома и в редакцию не ездил некоторое время. А потому ждал минуты кое-что написать Вам и до сих пор не написал.
О Ваших статьях, находящихся в редакции, напишу Вам особо. А теперь всего больше желал бы, чтобы Вы вполне поверили моему глубокому уважению и самой искренней к Вам преданности.
Ваш весь Ф. Достоевский.
471. M. П. ПОГОДИНУ
26 февраля 1873. Петербург
26 февраля/73.
Многоуважаемый Михаил Петрович,
Вы не правы (повторяю от души), говоря, что "наконец-то откликнулись, по необходимости". Я Вам правду написал, что хотелось ответить погорячее. Мне Ваши отзыв и рукопожатие дороги; а не ответил потому, что положение мое такое.
Секретаря у нас нет, но я настою, что будет, ибо вижу, что он необходим. Но будь и секретарь - я всё равно знаю на опыте, что необходимо говорить мне лично с авторами статей, с приносящими новые; перечитывать эти статьи (а это ужасно); ознакомиться с грудами статей, оставшимися от прежнего редактора. Перечитывать статьи берет огромное время и расстраивает мое здоровье, ибо чувствую, что отнято время от настоящего занятия. Затем, имея статью и решив напечатать, - переправлять ее с начала до конца, что зачастую приходится. Литературные сценки Генслера (в сегодняшнем №) я почти вновь пересочинил. Затем надо читать рухлядь газет. А главная горечь моя бездна тем, о которых хотелось бы самому писать. Думаю и компоную я статью нервно, до болезни; принимаюсь писать и, о ужас, в четверг замечаю, что не смогу кончить. Между тем отрезать ничего не хочу. И вот бросаю начатое и поскорей, чтоб поспеть (ибо дал слово Мещерскому, что будет статья, и на нее непременно рассчитывают), нередко в четверг ночью схватываюсь за новую какую-нибудь статью и пишу, чтоб поспеть в сутки, ибо в пятницу ночью у нас прием статей кончается. Всё это действует на меня, повторяю, болезненно. Где же тут написать письмо, если хочешь что-нибудь написать в письме.
Меня мучит многое, например совершенное отсутствие сотрудников по библиографическому отделу. Воротился на этой неделе из Крыма Страхов, я обрадовался (будет критика), а он вдруг серьезно заболел.
Наконец, многое надо сказать, для чего и к журналу примкнул. Но вижу, как трудно высказаться. Вот цель и мысль моя: социализм сознательно, и в самом нелепо-бессознательном виде, и мундирно, в виде подлости, - проел почти всё поколение. Факты явные и грозные. Самый необразованный простак и тот, читаешь в газетах, вдруг где-нибудь отрезал словцо - глупейшее, но несомненно вышедшее из социалистического лагеря. Надо бороться, ибо всё заражено. Моя идея в том, что социализм и христианство - антитезы. Это бы и хотелось мне провести в целом ряде статей, а между тем и не принимался.
С другой стороны, роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день прибавляю новые черты к записанному плану и тут же вижу, что всё время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше - и прихожу в раскаяние и в отчаяние.
Ну вот для Вас краткая картинка моего бытия. Я бы хотел приехать в Москву. (1) Поговорил бы с Вами от души и о многом. Может, и буду на мгновение весной, но это не наверно. Вы спрашиваете про мое здоровье. Может быть, Вы слышали, что я эпилептик. Средним числом у меня припадок раз в месяц и уже много лет, с Сибири, с тою разницею, что в последние два года мне надо, чтоб войти после припадка в нормальное состояние, - пять дней, а не три, как было все чуть не двадцать лет. И вот странность: пять уже месяцев прошло с тех пор, как у меня был последний припадок! Остановились. Не знаю, чему приписать, и боюсь какого-нибудь кризиса. Но о здоровье мало думаю.
Карточки у меня нет, но я Вам достану и пришлю вместе с новоотпечатанным моим романом "Бесы". Если прочтете, то сообщите, многоуважаемый Михаил Петрович, мнение Ваше.
С Белинским я познакомился в июне 45-го года и тут же с Некрасовым.
Майкову передам всё. Давно уже, целую неделю его не видал.
"Гражданин" пошел недурно, но лишь относительно недурно. Подписчиков 1800, то есть уже более прошлогоднего, а между тем подписка всё еще не прекращается и течет в известном порядке. Но многого на этот год не будет, так мне кажется; разве что дойдем до 2500. Иван Сергеевич Аксаков в прошлом месяце был в Петербурге, говорил, что у него в первые два года было не больше подписчиков. Отдельная же распродажа номеров упятерилась (если не более) против прошлого года.
Вообще, к концу года надо бы войти в систему и в порядок; теперь же чувствую, этого недостает. Новое дело, и отчаиваюсь, что для него не способен.
Корректурные листы "Речи" получены мною давно, и читал, и по обыкновению много мыслей вспыхнуло при чтении, но хочу сообщить Майкову, которого долго не вижу. Недели две назад я был в сильной простуде.
Речь в Славянском комитете мы прочли все, но напечатать не могли (и теперь не прошло бы время, по-моему; почему же прошло?) - единственно потому, что уже "Гражданин" печатал об этом статьи Филиппова, то есть о распре греков и болгар. Читали ли Вы? Если читали, то, наверно, усмотрели, что тут есть один пункт, противуречащий отчасти Вашему взгляду. И так как "Гражданин" заявил свой взгляд ранее у себя, то это значило себе противуречить. В каноническом, или, лучше сказать, в религиозном, отношении я оправдываю греков. Для самых благородных целей и стремлений нельзя тоже и искажать христианство, то есть смотреть на православие, по крайней мере, как на второстепенную вещь, как у болгар в данном случае. Между тем, в общем, нахожу взгляд Филиппова несколько сузившимся (из горячности). Читали ли Вы, многоуважаемый Михаил Петрович, в "Русском вестнике", февраль этого года, статью "Панславизм и греки" Константинова (не Леонтьева ли, печатавшего уже кое-что и давно уже о Востоке)? Эта статья меня даже поразила. Если не читали, то прочтите и напишите мне хоть два слова о ней. Хочу писать статью по ее поводу. Меня поразил особенно последний вывод о том, что собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть (2) с социализмом.) Страннее всего, что "Р<усский> вестник" это у себя напечатал, правда с оговоркою.
О Феодосии и Киеве сделаю всё так, как Вы говорите, и Вам напишу.
Называете меня (3) с Майковым молодыми людьми, многоуважаемый Михаил Петрович, имеете полное право, ибо, наверно, ни я, ни Майков, в Ваших летах, не в состоянии будем затевать, как Вы, (4) работы, подобные Вашим о Петре, писать так быстро, чисто, ясно и победоносно, как Вы в ответах Костомарову и почти что и Иловайскому. (Великолепная у Вас была мысль и настоящая точка приложения сил (как в механике) открыта Вами вызовом Иловайскому в "Русском вестнике". Ибо, в сущности, на Вашей стороне все-таки стоит целое здание, а они, еще не натаскав для своего здания и кирпичей, раскидывают, (5) что накопилось, в драке.) Тем не менее борьба вещь хорошая. Борьба настоящая есть материал для мира будущего. Только Костомарова не могу читать без негодования.
Кажется, ответил на всё. Куда Вы отправляетесь в деревню, многоуважаемый Михаил Петрович?
Я совершенно не знаю, как проведу лето: решительно думается мне иногда, что я сделал большое сумасбродство, взявшись за "Гражданин". Например: без жены и без детей я жить не могу. Летом им надо в деревню для здоровья и от Петербурга по возможности подальше. Между тем я должен остаться при "Гражданине". Значит, расстаться с семейством. Совсем невыносимо.
Крепко жму Вам руку и храни Вас бог.
Ваш весь Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: и с
(2) вместо: то есть - было: и
(3) было: нас
(4) далее начато: так
(5) далее было: а. их б. свой запас
472. M. П. ФЕДОРОВУ
11 мая 1873. Петербург
11 мая/73.
Милостивый государь Михаил Павлович,
Я помню, что несколько месяцев назад охотно дал согласие на переделку моей повести "Дядюшкин сон" в комедию. Но чрезвычайно смутно припоминаю обстоятельства и забыл Ваше имя.
Но согласие я дал - Вашему ли брату или сам написал Вам, не помню. На теперешнее письмо Ваше опять с охотою отвечаю согласием. Если Вам удастся - буду очень рад; если же нет, то достоинства моей повести (если только в ней есть они) от неудачи Вашей на сцене не потеряются. А так как мое согласие, кажется, доставит Вам удовольствие, то и не думаю медлить им.
Впрочем, очень бы желал предварительно прочесть Вашу пьесу. Так как Вы теперь заняты экзаменами, то, мне кажется, дело терпит. Когда же будет Вам возможно, то пришлите мне прочесть. Переправлять я не буду, волочить дело тоже, и если увижу, что чуть-чуть возможно, то так и напишу Вам. Вы извините меня, пожалуйста, за мое откровенное предположение неудачной переделки. Пусть останется лишь предположением; ведь я совершенно не имею удовольствия знать Вас. Но повторяю: если б переделка Ваша была и слаба, но возможна хотя бы только чуть-чуть, то я не воспрепятствую Вашим намерениям.
Я не знаю, поставите ли Вы на афишах, что сюжет заимствован из моей повести, или нет? Мне всё равно; но когда пришлете Вашу рукопись, то уведомьте меня.
Адресуйте как адресовали.
Примите уверение в совершенном моем уважении.
Покорный слуга Ваш
Федор Достоевский.
473. П. А. ИСАЕВУ
17 мая 1873. Петербург
17 мая.
Любезный Паша,
Апол<лон> Николаевич Майков желает тебя видеть по очень важному и неотлагательному делу - интересному как для него, так и для тебя. Но так как дело неотлагательное, то просит тебя прийти как можно скорее, то есть завтра в пятницу часов в 10 утра, если только поспеет к тебе, и во всяком случае как можно скорее. (1)
До свидания. Я завтра еду. Мой поклон твоей супруге.
Весь твой Федор Достоевский.
(1) вместо: как можно скорее - было: поскорее
474. П. А. ИСАЕВУ
19 мая 1873. Петербург
Суббота, 19 мая.
Любезнейший Паша, я вчера опоздал и не поехал, а еду сегодня в 2 часа. Может быть, я показался тебе вчера очень нетерпеливым и расстроенным. Если я тебя чем-нибудь обидел и огорчил, то извини, пожалуйста. Мне показалось, что надо было тебе написать это.
А засим жму тебе руку и остаюсь тебя любящий
Ф. Достоевский.
475. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
20 мая 1873. Москва
Москва 20 мая/73.
Милый друг мой Аня, сегодня в полдень, так как поезд опоздал на час, приехал я в №№ Ел<ены> П<авлов>ны. Никого не застал: Соня с детьми на даче, а Елена Павловна к ней уехала. Узнал, что Ел<ена> П<авлов>на будет вечером, и занял номер. Затем оделся и поехал к Полякову, который у Ел<ены> П<авлов>ны оставил адресс своей гостиницы. Его, к счастию, застал. Он очень был доволен, меня увидев, и выразился, что без меня ничего не мог сделать. Он рассказал, что узнавал везде в суде: никакого дела к слушанию 21 мая нигде не назначено. Но что, по его мнению, Шеры непременно что-то затеяли. (1) Он добыл копию с завещания и всего подлинного дела (18 листов) и заплатил за это 25 рублей. (Не худо кидает деньги!) Говорит, что было необходимо. Рассказал, что был у Варвары Михайловны и что та встретила его недоверчиво и сказала ему между прочим: "Неужели брат Федя хочет меня лишить всего?" Я отправился тотчас же к Варе. Она, между прочим, в большом горе, что зять ее, Смирнов, умер (3-тьего дня схоронили) и оставил вдову (ее дочь) и пятерых маленьких детей. Варя, бедная, плачет, но встретила меня очень приветливо. Она (и, по-моему, искренно) даже рада, что мы начинаем дело. Она убеждена, что Шеры начали и даже что-то уже подали. Она уверяет, что вызов наследников был тому назад несколько месяцев. Просила не забыть ее при дележе в 14-й доле. Но все они здесь убеждены, что Шеры выиграют, основываясь на каком-то решении сената, в декабре, по какому-то подобному же делу в пользу единокровных. Между прочим, (2) Варя потому убеждена, что недели 2 тому приезжал брат Андрей М<ихайлови>ч, остановился у ней и, не найдя Веселовского в Москве, послал ему в другой город телеграмму. Брат Андрей приехал только потому, что узнал о Шерах и тоже (как и мы) был уверен в возможности захватить (3) всё; подбивал на это и Варю. (NB. Все здесь, кажется, уверены, что наши расписки в взятых мною и братом Мишей 10000 и слова тетки насчет нас в завещании лишают нас права искать теперь; но Поляков на это смеется. Брат же Андрей, вероятно, на это рассчитывал, коли не написал мне ничего.) Веселовский по вызову брата Андрея приехал, и на другой день (рассказывает Варя) брат воротился от него убитый и что Веселовский, будто бы, убедил его, что ничего не поделаешь и что Шеры правы. С тем брат Андрей и уехал. (NB. Но откуда же брат Андрей получил известие? - Это неизвестно.) Варя дала мне весьма важные подлинные метрические документы, это мне доказательство, что она за нас, и была очень дружелюбна. Я просидел у ней долго и поехал к Полякову уже вечером. Рассказав ему и вручив документы, я предложил ему ехать завтра к Веселовскому, который бывает в городе 2 раза в неделю от 10 до 12 часов. Затем решить окончательно, что делать. В том, что Шеры что-то начали, - нет сомнения. Но что, где и когда? Неизвестно, и это Поляков хочет разыскать. Он говорит, что пробудет до середы и уедет, оставя знакомого человека (4) следить за делом в суде, и чуть узнает, что Шеры подали, уведомить его в Петербург. Поляков более чем когда-нибудь горячится и надеется. Он говорит, что имение по оценке обозначено в 52000, то есть по оценке опекунской и судейской. Если так по первой казенной оценке, то наверно дороже. Я прямо сказал Полякову, что я начну дело лишь в случае, что начнут Шеры, ибо не хочу обижать сестер. Сказал я это еще до поездки к Варе. Но теперь явно, что они уже начали и, может быть, потаенно. Что сделаем в эти три дня, напишу тебе. У Вареньки был Жеромский, и Варя нашла, что Жеромский дельнее Полякова. Жеромский в 2 дня достал по приходам все метрики, в суде же тоже узнал, что 21-го ничего не будет, но остается действовать и узнавать. Он говорил Варе, что действует за Колю даром по дружбе. Жеромский (как и Поляков) смеются над надеждами Шеров и не верят в декабрьский приговор сената.
Ну вот всё о деле, завтра узнаем более. Боюсь только, что Поляков потратит денег.
Затем вечером приехал в №№, где застал Елену Павловну. Завтра приедет и Соня. Елена Павловна говорит, что за Соню очень боится и что та решительно губит себя работой. Пишу тебе поздно, вставать завтра рано, ночь я не выспался и теперь едва хожу. Ночью совсем не спал.
Напиши мне, как ты, здорова ли, пожалуйста, подробнее. Мне весь этот день, после всей этой тревоги и деловитости, очень солоно пришелся. Прежде я не так приезжал в Москву. О детях черкни всё что можно подробнее. Хотя уже и 1/2 одиннадцатого, но служанка ждет письма положить его сегодня же в почтов<ый> ящик. Машенька очень заболела. Сегодня приехал (до меня) Витя и прямо проехал в Даровое. Ради бога, напиши о детях.
Прощай, обнимаю тебя. Твой весь тебя крепко любящий
Ф. Достоевский.
Чуть с тобой обморок или что-нибудь, хоть каплю, сейчас телеграфируй. Не мучь себя очень заботами. В четверг выеду наверно, если не успею раньше. Тв<ой> весь.
(1) далее было: Был он
(2) было: тем
(3) исправлено рукой А. Г. Достоевской на: получить
(4) было: чиновника
476. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 июня 1873. Петербург
Вторник 12 июня/73.
Милая Аня, письмо твое получил всего сейчас, в 8 часов вечера, и уже думал идти пускать телеграмму на имя священника - так об вас беспокоился. Рад, что у вас благополучно. Боюсь, что ты слишком устала. Ангельчиков моих, Федю и Лилю, целую. Мне очень скучно. Дачу найми как можно скорее с садом. Вчера утром меня судили, осудили 25 руб. и два дня на абвахте, но окончательный приговор скажут лишь 25 июня, а стало быть, ждать еще долго. Пишу наскоро. Пиши скорее. Дела у меня много. Сейчас нагрубил мне метранпаж нестерпимо. Он у Мещерского ждал в передней, а я его сейчас у себя на стуле - вероятно, за это. Но причина важнее, и я беспокоюсь: всё дело в том, что Мещерский Траншелю не заплатил, а в долг, вот они теперь всё и делают страшно небрежно и с нестерпимыми грубостями, а я так не могу. Сейчас, воротясь домой, застал у себя Полякова и Федю, кое-как сговорились. Поляков стребовал у меня оставшиеся 25 руб. за поездку в Москву. Федя очень тебе кланяется. Дела бездна, людей почти не вижу. Вчера, впрочем, был у Кашпиревых.
Хожу в детскую комнату и смотрю на их пустые постельки. Поцелуй их очень. Прощай, целую тебя.
Твой весь Ф. Достоевский.
Не жалей детям гостинцу.
Смотри за ними. Выспись, это главное, и старайся не простудиться.
477. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
14 июня 1873. Петербург
Четверг 14 июня/73 г.
Милая Аня, сейчас получил твое письмо. Очень рад, что вы все здоровы. Детей целуй. Очень буду рад, если тебе ванны принесут пользу. Если довольна дачей, то чего же лучше. Я очень занят. Теперь 9 часов вечера, а я еще и не начинал большую статью, которая завтра должна быть сдана.
К тому же очень устаю, много ходьбы и всяких мелких хлопот. Ко мне никто не ходит. Вчера был Ив<ан> Гр<игорьеви>ч, спрашивал о тебе. Ничего особенного. Федя просил отсрочить долг, то есть никогда, конечно, не отдаст. С типографией всё дрянные мелкие хлопоты. Хозяин ко мне заходил раза 4, всё когда меня нет, под разными глупыми предлогами; должно быть, хочет завести знакомство. Александра, может быть, и порядочная, но манерничает. Одним словом, нечего писать о себе, и без того загроможден делом, не сплю целые ночи. А тут духота, пыль.
Желаю тебе (1) жить веселее моего. Письма твои имеют деловой характер, да тем лучше. Не забывай уведомлять о детях.
Целую их 1000 раз.
До свидания.
Твой Ф. Достоевский.
Священнику кланяйся.
(1) в подлиннике описка: тебя
478. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
22 июня 1873. Петербург
Петербург, 22 июня/73 пятница.
Милый друг мой Аня, вчера так устал и так много было неотложного дела (корректуры и чтение статей), что решительно не мог тебя уведомить о приезде. Переехал я, разумеется, благополучно. Застал же всё в порядке и дома, и по журналу, только много мелких хлопот. Лег я спать ночью только в три часа, но все-таки выспался и сегодня свеж, несмотря на погоду, которая вдруг переменилась с сегодняшней ночи: из невыносимой жары сегодня холод, как в октябре, небо всё в окладных тучах, свинцовых, гадких, очень низких, но дождя нет. Вчера утром же по дороге из типографии встретил Ив<ана> Григорьевича. (Он без меня заходил.) Он сообщил мне, что и Анна Николавна отправилась в город и, вероятно, ко мне зайдет. Но, однако, она не заходила. Он же зашел ко мне и выпил чаю; расспрашивал о тебе, я всё сообщил. Между прочим, сказал, что уже отправил к ним твое письмо. Сказал ему и о деньгах, только не очень настаивая. Он сказал, что ему завтра обещал отдать долг Варламов. (Если уж на это рассчитывает, то, значит, у самого тонко.) Я просил его не беспокоиться, объяснив, что до понедельника у меня будет, а на той неделе, может, и справлюсь как-нибудь (благодаря 20 руб., взятым у тебя).
Застал у себя два письма - твое, которое пришло еще в понедельник, и от Феди из Москвы. Федя пишет, что у В<арвары> Михайловны сам, своими глазами, читал в газете "Современные известия" от 12 июня, в отделе судебной хроники, что в Москов<ском> окружном суде, по 5-му отделению, 12 же июня слушалось дело об утверждении в наследстве Шеров и Казанских. Варя сообщила ему тоже, будто слышала, что Шерам было в суде отказано, но что она думает, будто сообщавший ей - солгал. Вызов же наследников, по словам же Вари, был сделан. Федя в тревоге и спрашивает меня: "Что же Поляков-то?" Я тотчас написал Полякову, но вчера же встретил его у Полицейского моста, письма моего еще он не получил, и сообщил ему известие от Феди на словах. Он засмеялся с тупым высокомерием и отвечал: "Вздор". Я сказал, что уже достал № "Совр<еменных> известий" (в редакции) и читал сам, - Вздор. - Да читал же своими глазами! - Вздор, не то, какой-нибудь вздор. - Я в Москве, в Окружн<ом> суде справлялся, и мне сказали, что в Туле. - Вздор! - Да возьмите газету и прочтите! - Прочту, но ничего не будет, вздор! - Ну что делать с такой тупицей! Между тем в Москве очевидно что-то произошло, и очень может быть, что Полякова надули через интриги Веселовского в суде. Одним словом, ездил, деньги взял и не умел даже в суде справиться! Федя пишет, что Шеры хлопочут более, чем когда-нибудь, на стены лезут; просил меня отвечать ему, но так как объявляет в письме, что 22 выезжает из Москвы, то я, разумеется, не отвечал. Не знаю, что из всего этого выйдет.
Заходил ко мне еще вчера Страхов. Тревожит меня очень одно соображение: в будущую субботу, то есть через неделю, 30 числа, мне, может быть, и не удастся к вам ехать! Дело в том, что деньги на июль месяц я должен буду получить (от какого-то Дмитревского) по распоряжению князя только 1-го июля. Согласятся ли мне выдать 30 июня? Если же уехать 30 июня, то и у самого денег не будет, да и сотрудникам в понедельник 2-го июля заплатить будет нельзя, (1) как теперь через секретаря, которому я оставил в этот раз деньги. Всё это решится на будущей неделе. А покамест я очень в унынии.
Ходил вчера к Филиппову, по одному делу (литературному), узнал от него, между прочим, что князь приедет в Петербург дня на три в июле, около половины.
На следующей неделе должен быть мой арест. Мне очень весь сегодняшний день без вас грустно. Думаю о тебе и о детках. Боюсь за сегодняшний холодный день: у вас, верно, еще сырее нашего. Опять у ангела моего Лили будут зубки болеть! Береги ее, Аня, и не обижай, пожалуйста, когда она станет <нрзб.>. (2) Тебе бог за это зачтет. Всё они мне оба сегодня вспоминаются весь день. И во сне снились. Федька так целовал меня в середу утром, и Лиля не выдержала, заплакала на пароходе (между тем крепилась, резвилась, хотела показать, что твердо перенесет). Люблю тебя, Аня, пиши мне больше о себе и о детях. Больше мелких подробностей. В случае чуть больны - сейчас зови Шенка. В случае деньги зайдут за половину - сейчас меня уведомь. Я хоть из-под земли, а достану.
Обнимаю тебя и всех вас.
Ф. Достоевский.
И Федю и Лилю целуй очень. Скажи, что скоро, скоро приеду.
(1) было: нечем
(2) текст: и не обижай...... <нрзб.> - вычеркнут, вероятно, А. Г. Достоевской. Читается предположительно.
479. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
24 июня 1873. Петербург
Метранпажу Александрову.
Не забудьте, пожалуйста, как я Вам говорил, что объявление о "Земской книге" должно быть оттиснуто на отдельном листке в 500 экземпляров. Сделано ли это?
Ф. Достоевский.
24 июня.
Почему мне не прислали сегодня оттиск завтрашнего "Гражданина"?
480. А. У. ПОРЕЦКОМУ
25 июня 1873. Петербург
Понедельник 25 июня.
Многоуважаемый Александр Устинович,
Согласно Вашему обещанию, я в надежде, что Вы будете писать "Областное обозрение" для следующего (27) №. В таком случае не заедете ли взять газеты? И не уведомите ли меня (одною строчкою - не более), будете ли писать или нет и когда именно доставите? Мне чрезвычайно надо это знать. Требуется же строк
500 или разве немного более. Крепко жму Вашу руку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
481. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
26 июня 1873. Петербург
26 июня/73.
Милая Аня, вчера получил твое и Лилино письмо, за которое вас обеих и благодарю. Только пиши почаще, а то уже я начал беспокоиться. У меня же столько дела (мелкого, беготного), что нет даже минуты свободной и хорошей, чтоб поговорить с вами. Рад, что покамест все вы здоровы, но боюсь дальше. Всё мне кажется, что вы там одни и что вас кто-нибудь там обидит. Деньги, 25 руб., произошли из заклада твоих вещей, что и узнал я вчера от Анны Николавны, которая зашла ко мне в 5 часов пополудни вчера, когда я уже выходил из дому. В это время принесли и твое письмо. По всему видно, что у Ив<ана> Гр<игорьеви>ча у самого ужасно тонко. У меня же пока денег достало на всё. Вчера встал в 8 часов утра, чтоб идти в суд выслушить окончательный приговор. Но председатель суда сказал мне, что мне можно и не ждать приговора, а на вопрос мой, когда исполнение, он объявил, что еще 2 недели должен быть срок для кассации. Итак, еще 2 недели я свободен, а там на 3-ю неделю арестуют. Но вот что: так как приговор вчера прочтен окончательный, то смущает меня: не взяли бы с меня подписку о невыезде из города? Тогда я, если так, целый месяц к вам, стало быть, не приеду! С другой стороны, если и не возьмут подписки о невыезде, то всё равно, если не получу деньги в субботу (как я писал тебе) и, стало быть, не выеду, то и в следующую субботу нельзя будет выехать, потому что тогда наступит срок ареста. И потому надо во что бы ни стало настоять на получении денег в субботу. А не знаю, удастся ли? Кроме 1000 мелких хлопот, надо изо всех сил всю неделю работать - писать, чтобы к пятнице всё сдать и управиться. И потому, с сей минуты, мне предстоит дня три сущей каторги.
Ты хорошо делаешь, что ходила в театр. (1) Довольно ли денег? У меня выходят ужасно на редакцию. Сам очень лишнего не трачу. Был у Кашпиревых дня три тому. Его нога хуже, а Соф<ья> Сергеевна в тот день, получив взаймы откуда-то 220 руб., потеряла их в Гостином дворе, так что дома у них ни гроша. И всё это правда. Деньги же 220 руб. предназначались на уплату процентов за долг в 2000 одному кулаку, которому они уже три года уплатить не могут. Софья Сер<геев>на при мне плакала, жалея потерянные деньги. Действительно, их положение ужасное, и хоть они принимали меня донельзя радушно, но представь мое-то положение - сидеть и видеть ее слезы и знать, что должен им 400 руб.
Целую тебя и детей. Может, очень скоро увидимся. Моих всех мелких хлопотишек не описываю. Нужно ужасно много сделать, чтобы возможно было приехать к вам, так, н<а>прим<ер>, нужно наперед целых 2/3 № уже иметь в составе, чтоб осмелиться отлучиться на 4 дня. - Вчера был у меня Соловьев, воротившийся из-за границы. Мучение мне с этими визитами, да еще с иными редакционными письмами, которых никак нельзя миновать. Был Поляков; в начале июля хочет ехать в Москву и в Тулу. Здесь душно и жарко ужасно. Обнимаю тебя и целую крепко. Детишек особенно. Поговори им что-нибудь обо мне. До свидания.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) далее было: Не в
482. А. У. ПОРЕЦКОМУ
30 июня 1873. Петербург
Многоуважаемый Александр Устинович,
Я, кажется, сегодня вечером уеду дня на три в Старую Руссу, до середы или maximum до четверга (8 часов утра). Между тем типография и до четверга должна быть занята. Я сдаю три статьи, но коротенькие, и сильнейшая моя надежда на Вас, то есть на "Текущую жизнь". Будет ли она? А если будет, то нельзя ли хоть часть доставить ко вторнику, наприм<ер>, чтобы тотчас и отдать набирать. В этом моя покорнейшая просьба. По всем прочим делам и расчетам остается секретарь редакции, который всегда от 11 до 3-х пополудни в редакции.
И затем крепко жму Вам руку.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
30 июня/73.
483. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 июля 1873. Петербург
Петербург 5 июля/73 четверг.
Милая Аня, пишу тебе вне себя от усталости, ничего не спал. Сегодня утром приехал, дорогою мочил дождь. Нашел целых 5 писем, на которые надо немедленно отвечать, всё по журналу. Сегодня же должен отсмотреть с переправкой 3 корректуры. Получил довольно любезное письмо от Мещерского, просит у меня извинения, что я за него просижу (это, наверно, Филиппов ему передал, которому я передал в свою очередь, что Мещерский слишком небрежно обращается со мною, не изъявив даже сожаления, что я буду сидеть за него). О деньгах пишет как о совершенно решенном деле; а между тем Дмитревский приехал всего только сегодня и прислал мне сам 700 руб. Теперь, голубчик Аня, я как рассчитал, так и ужаснулся: 100 тебе, 100 Печатки<ну>, 50 жалованье Пуцыковичу, 100 журнального долга Гладкову, да мелких расходов (Гришину, служанке и проч. руб. 20), да хозяину 50, сочти-ка, что остается. И, однако, может быть, надо будет поделиться с Ив<аном> Гр<игорьевиче>м, к которому я послал уже письмо, что приехал; в понедельник же расчет за №, который очень дорог (даровые статьи, филипповские, прекратились). Я же ничего не пишу за хлопотами, (1) у меня колоссальный дефицит. Но всё равно; по крайней мере, сию минуту хоть что-нибудь есть. О будущем и думать не хочется: голова кружится и боюсь припадка.
Теперь о деле: завтра пошлю на имя Румянцева тебе 100 руб. (то есть постараюсь не проспать на почту). На конверте не напишу: для передачи г-же Достоевск<ой>, чтобы не было разговору. В конверте же ему будет коротенькая записочка, чтоб передать тебе деньги. Письма же к тебе в его конверте не будет. Ты же, по получении теперешнего письма (которое придет раньше), уведомь его непременно, что тебе будет на его имя (2) 100 руб. и что это потому, что ты живешь не по твердому паспорту. Извинись перед ним.
Из денег не передашь ли хоть частичку хозяевам?
Не сердись на меня, что пишу только о деле. Ей-богу, еле жив, чуть не падаю. Хоть бы в два-то часа сегодня заснуть! Отложить же посылку тебе письма и денег не мог. На всякий случай все-таки поскорее.
Что дети? Пиши мне о них подробнее. Как можно больше, не ленись, ради бога; подумай, что я ведь здесь один и в чертовой работе.
Как-то дела наши, как-то дела! Ну, до свидания.
Твой весь Ф. Достоевский.
Дорога была пренесносная, и если б не один болтун, навязавшийся рядом со мною, то, право, умер бы со скуки. От Соловьева пришло самое любезное письмо; уехал в Москву.
Болели у Лили зубки? Искал ли меня Федя? Не простудились бы, у вас тоже был дождь.
До свидания.
Тв<ой> Дост<оевский>.
Крепко целуй детей. Лиле скажи, чтоб была умница и милая и написала письмо, а Федьку поцелуй в губки и в грудку и во всё.
Лиле целую ручки. Письмо няняшино передал.
Служанка передала, что в понедельник был Ив<ан> Гр<игорьев>ич и уведомил ее, что, может быть, зайдет Ольга Кирилловна с ребенком, а сам ушел. Трудно понять. Но Ольга Кирилловна не зашла. (3)
Сейчас воротился домой, а без меня был Тришин и записал свое имя.
(1) далее густо зачеркнуты три слова
(2) было: письмо
(3) перед текстом: Служанка передала...... не зашла. - вопросительный знак
484. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 июля 1873. Петербург
Вторник 10 июля/73 Петерб<ург>.
Милочка моя Аня, из письма твоего, которое получил вчера перед вечером, вижу, что ты еще не получила моего письма, несмотря на то, что я послал его в день приезда сюда, то есть в четверг вечером. Там на многие твои вопросы есть ответы. Я послал тебе и деньги, которые ты теперь, когда дойдет это письмо, уже наверно получила. В твоем милом и добром письме всего более мне тяжело было прочесть о твоих припадках (потеря зрения). Стало быть, и ванны тебе еще ничего не помогли. Ах, Аня, до чего это дойдет! Как ужасно мне думать о твоей хворости ввиду того, что я могу умереть, и что тогда с тобой и с детьми с твоей хворостью. Неужели никак нельзя излечить? Но хорошо, что хоть написала. Ради бога, не бойся и впредь, что растревожишь меня, пиши подробно о твоем здоровье, подробно и аккуратно, а не будешь писать - я еще пуще буду думать дурное. Всё буду подозревать, что скрываешь. Слышишь?
Известия о детях и о том, что они меня жалели, - на меня ужасно подействовали; не поверишь, как мне здесь без вас тяжело. Милая Люба! Не напророчила б она, что я никогда не приеду. Да и Федя, милый Федя. А между тем действительно перспектива впереди претяжелая, и я, очень-очень может быть, не приеду к 15-му. Дела так слагаются. Из 700 полученных рублей я истратил 100 Печаткину, 100 тебе, 100 долгу в кассу "Гражданина", 50 хозяину, 75 руб. Ив<ану> Гр<игорьеви>чу, 50 жалов<ание> секретарю редакц<ии>, (1) сегодняшн<ий> № "Гражданина" сотрудник<ам> до 150, наконец, отдал Гришиным, жалование служанке, купил зонтик, а в кассе у меня всего-навсе - 64 руб. Теперь слушай: за следующий № в понедельник надо никак не меньше уплатить, как 125 руб. Предположим, я обойдусь, но вопрос: с чем я попаду к вам и на что я доеду? Между тем Ив<ан> Гр<игорьеви>ч еще сегодня заходил ко мне, об Образцовых ни слуху ни духу, он спешил к Архангельскому - и ведь очень возможно, что он, пожалуй, и в июле еще ничего не получит.
Но положим, что к концу недели Образцов приедет и деньги будут. Дело (2) в том, что мне надо отсидеть мой двухдневный срок. Когда-то еще прокурор распорядится, напишет отношение в полицию, та приедет за мной, и вот как раз подгонят дело к пятнице или субботе. И я чувствую, что это непременно так будет.
Но пусть эту субботу нельзя, но на той неделе к 20, то есть к пятнице, надо ждать Мещерского и Победоносцева; а ну как их ждать тоже неделю, то есть уже до 27? Меж тем я уже уведомил Мещерского сам письмом, что 14 июля уеду и только к 19 возвращусь, так чтоб знал, если хочет застать меня. И вот он приедет, а меня нет!
Итак, видишь, Аня, что если не удастся приехать к 15, то, пожалуй, и до августа не удастся! Я сижу и просто в отчаянии. А между тем надо непременно писать статью. Суди о моем положении. И вот получил твое письмецо и так захотел к вам. Милые вы мои, не могу я с вами врозь жить. А между тем надо. Чтоб ч<ерт> взял мое положение!
В воскресенье (3) приходила ко мне Анна Николавна, расспрашивала о тебе и посидела часок. У них там тоже хлопоты: денег страшно тонко, всё заложено, за вещи страшно мало дают, маленький всё кричит, а служанки грубят и не слушают. Ив<ан> Гр<игорьеви>ч в отчаянии, главное потому, что откладывается его отъезд искать имение. Стало быть, сильно же он верует, что непременно и скоро получит, но его вера может и не сбыться. А если сбудется, то тотчас же, должно быть, уедет, так что нам, например, серьезно и переговорить нельзя будет с ним насчет займа. К тому же, должно быть, ему вексель дадут, а деньги мизерные.
Я уже не хожу обедать в трактиры, а готовлю дома. Александра готовит не совсем скверно, и кажется, все-таки выйдет дешевле. Посмотрю и погляжу дальше.
Гришины приезжали ко мне и пили кофей. Жаловались на Пашу, были ужасно вежливы и любезны, получили проценты и уехали.
В воскресенье я ходил в Летний сад на иллюминацию. Но мне до того стало скверно и тоскливо, что я не дошел и до середины сада, повернул домой и прошел пешком. Правда, проиграл рубль в лотерею, но и только. Анна же Николавна опять что-то выиграла.
Кроме этого, никуда не ходил и никого, кроме сотрудников да Пуцыковича, не видал. Вместо того, чтоб писать, вот уже второй вечер читаю статьи, накопившиеся в "Гражданине". Эту работу ставят ни во что. А что она стоит, сколько берет времени, доводит до одурения и отупения. Решительно, я становлюсь совсем злым.
Милый мой голубчик, если ты отдашь рублей 50 хозяину, то довольно ли у тебя останется? И вообще уведомляй меня чаще и об деньгах заране, чтоб я мог приготовиться и как-нибудь перехватить. Впрочем, теперь все надежды, что Ив<ан> Гр<игорьеви>ч получит. Если же его надуют, то и мы провалимся.
Ну, а что я без тебя-то буду, если недели три-четыре придется не увидать? Друг мой, не знаешь ты, как я тебя люблю, если б знала, сердечнее бы обращалась со мной иногда. (4) Но что об этом. Крепко обнимаю тебя и целую (хотя эти поцелуи в письме ничего не стоят). Повторяю, я без вас жить не могу.
Детишек целую бесконечно. Говори с Любой обо мне, говори, что я очень скоро приеду, и гостинцев привезу, и пишу, что люблю ее очень и по ней тоскую. Боюсь, чтобы Федя не забыл меня совсем. Напоминай и ему. Ведь, ей-богу, если я месяц не приеду, он меня и не узнает! Целуй их и люби. Да слушай, Аня: если чуть-чуть, лишь только чуть-чуть ты нездорова - сейчас пиши. Иначе я надумаюсь и намучаюсь. Пиши чаще.
Я было уже хотел ехать в пятницу на почту, чтобы отослать 100 руб. отцу Ивану, как пришел Ив<ан> Гр<игорьеви>ч, я и попросил его отослать, потому что дел был полон рот. Прощай, обнимаю вас всех, а тебя пуще всех.
Твой муж.
Всего больше боюсь задержки от суда. Вот уже вторник, а никаких оттудова известий. Пожалуй, еще неделю не посадят. Если не посадят до субботы и если деньги будут, то наверно приеду.
(1) было: П<уцыкови?>чу
(2) вместо: Дело - было начато: Деньги
(3) было: Вчера
(4) текст: если б знала...... иногда. - зачеркнут, вероятно, А. Г. Достоевской. Читается предположительно.
485. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 июля 1873. Петербург
Петербург 12 июля/73.
Милый мой голубчик Аня, тотчас же и отвечаю тебе, ибо после, с вечера, буду так занят, что не найду и свободной минуты. Пишу обычную проклятую статью. Надо написать к завтраму утру, к 8 часам 450 строк, а у меня написано всего 150. Между тем я всё более и более как будто дурею и решительно стал ужасно туго писать. Голова постоянно несвежа. Это, голубчик мой, очень серьезно для нашей будущности. Я решительно стал замечать, уже с месяц тому назад, различие между легкостию моего писания в Дрездене и тягостию здесь. Приписываю тому, что редакторство своими беспрерывными мелкими заботами, суетней, мне несвойственной, и проч. решительно давит меня, так что долго придется отдыхать после этого проклятого года. А еще придется ли?
Твоим письмом доволен, твои письма меня всегда радуют, и чего ты извиняешься, что нечего писать? Напиши что-нибудь, и того довольно. Теперь к делу. Аня, я в большом горе: решительно не предвижу возможности поехать к вам послезавтра или даже в воскресение, а может быть, и бог знает до которых пор. Всё дело стало - за деньгами. У меня, всего-навсе, 50 руб. Между тем номера "Гражд<анина>" стали ужасно дорого оплачиваться. В следующий понедельник мне надо выдать 130 руб. (minimum), а где я возьму? Не выдать же ни за что нельзя: есть писатели новые и марать журнал неуплатой невозможно. С меня <нрзб.> справедливо требует Мещерский, так как мне всё более жалко <?> <нрзб.>. (1) Да и вообще никому нельзя задолжать: тотчас же разнесется слух, что "Гражданин" не платит. До завтра, то есть до конца писания, об этом думать не буду, но с завтрашнего дня попробую заложить часы у Ив<ана> Григорьевича знакомого жида (который ему уж перестал давать деньги) рублей за 80 кабы! Не знаю, удастся ли! Что же до Ив<ана> Григорьевича, то его и Ан<ну> Н<иколаев>ну я часто видаю. Вчера хотел было ехать к ним на дачу на именины О<льги> К<ириллов>ны, так как он очень звал, но стала дождливая погода, и я не поехал. Он взял всего у меня 75 руб. и к ужасном, болезненном волнении и беспокойстве, что никаких ровно известий об Образцове. На днях отправил туда телеграмму в 40 строк и грозит судом.
Я, впрочем, по некоторым данным, убежден, что Образцов непременно приедет на днях, и ободряю Ив<ана> Григорьевича сколько могу. Вчера у них были именины, а сегодня зашла ко мне Анна Николавна. Она только что носила закладывать вещи. Ив<ан> Гр<игорьеви>ч (он всё заложил и ходит в каком-то ужасном старом платье) заложил свой фрак и жилет, а Ольга К<ириллов>на два корсета, Ан<на> Н<иколаев>на за всё это получила 15 руб. Понимаешь, как у них тонко. Итак, вот в каком положении в настоящее мгновение дела. А всего более убивает меня, что я никак не могу приехать и что бог один знает, смогу ли поехать и в следующую-то субботу? Я тебе писал в прошлом письме почему.
Видеть же вас всех для меня самая жгучая потребность: здесь с ума можно сойти от всякой пакости и от отвращения, с которым на всё смотришь. Целую вас всех. Ты говоришь, что видела меня во сне (если не лжешь). А я тебя уже два раза видел. Федю и Любу целуй, если Люба будет плакать в субботу, что я не приехал, скажи ей, что теперь трешкот задержал и что я через 2 дня приеду. Береги их, обращай на них больше внимания, занимайся ими побольше, голубчик ты мой. Федьку мне очень хочется видеть. Поздравь его с днем рождения. Сделай для детей какой-нибудь праздник. Насчет же денег, тебе высланных, то ведь я уверен, что ты отлично распорядишься, но на всякий случай имей в виду наши дела вообще и поприжмись. Ты писала что-то о своих вещах у Ан<ны> Н<иколаев>ны, чтоб заложить. Но вещей нет: заложили тогда для меня и получили за всё 25 руб. 9 рублей проценту за твои вещи внесены, и еще что-то внесется 22 числа, что-то в этом роде говорила сегодня Анна Н<иколаев>на. Прощай, обнимаю вас всех, пожелай мне не лопнуть с натуги сегодня ночью на подлом писанье статьи. Обнимаю вас и целую.
Скажи Любе, что ее целую 1000 раз, Федю тоже.
Достоевский.
Р. S. Кстати, милка ты моя, ты мне очень бы нужна была (2) в эту минуту. Понимаешь? Да правда ли, что видишь меня во сне? Может, не меня. Целую твои ножки и всё. Очень целую.
Твой Дост<оевский>.
Меня не арестуют и штрафу не требуют, бог знает почему. Придут по обыкновению не вовремя. Медлят и только меня в раздражении держат.
(1) текст: С меня...... <нрзб.> - густо зачеркнут, вероятно, А. Г. Достоевской. Читается предположительно.
(2) далее было: мне
486. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
20 июля 1873. Петербург
Петербург, 20 июля/73.
Милый ангел мой Нютя, со вчерашнего дня, как приехал, всё бегаю по горло в деле, и вот теперь уже 10 часов вечера, а у меня едва лишь вышла самая маленькая минутка написать тебе. Доехал я благополучно, и всё время погода была прекрасная. В Новгороде стояли часа четыре, и я уходил гулять и был в Соборе. На станции, как я возвратился, уже около 10 часов подошла ко мне женщина и стала допрашивать: кто я, где живу, какая у меня прислуга, кто именно и проч.? "Так Вас-то мне и надо сыскать, у меня к Вам письмо от Вашей супруги". Это та самая Натальина родственница, с которой ты мне послала 30 руб. и карточки. Всё это она мне передала. Сама же она в Петербург еще и не ездила, а была лишь в Новгороде, потом опять отправилась в Старую Руссу (и именно в понедельник на том же пароходе, на котором и я к вам приехал, но меня тогда не видала), жила в Руссе и теперь (опять вместе со мною) приехала из Руссы и уже едет прямо в Петербург. Я полагаю, Наталья знала, что она возвращалась на время в Руссу. Итак, в результате я и деньги, и карточки получил.
Приехав, всё по обыкновению застал в беспорядке. Сегодня же утром разом получил от князя телеграмму и 2 письма насчет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым: он жалуется, что №№ должны стоить дорого, что он не может платить сверх 130 руб. за № и проч. Черт его дери, я никогда не писал ему, что надо больше 130 и что у меня денег недостает. Сегодня же отвечу ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления (хотя, впрочем, в его письме есть и самые дружеские фразы и выходки).
Вчера всю ночь, не спавши, сидел за корректурой (стоящей сочинения) и сегодня и завтра буду. Сейчас Кашпиревы присылали звать к себе, и, разумеется, я отказался. Был Миша сейчас. Он без гроша до будущей недели. Я ему поручил сходить к Клейну завтра и дать мне знать и на время дал ему 10 руб. За этим, верно, не пропадет.
Приходил Иван Григорьевич сегодня, я передал ему шаль и пакетик с карточками, но забыл передать твое письмо (в письме Натальиной тетки). Предлагал ему денег, но он не взял и очень интересовался, обойдусь ли я к понедельнику без его помощи? Архангельский сообщил ему, что Образцов ему телеграфировал, что 25 будет в Петербурге. Ив<ан> Григорьев<ич> говорит, что не надеется получить всю сумму.
Жду от тебя с нетерпением письмеца, радость моя Нютя. Ты немножко мерзка в одном отношении, но все-таки радость моя единственная, и мне без тебя крайне тяжело здесь одному. Тебе никогда не понять мое здешнее одиночество. Вот уже теперь полное-то одиночество и вдобавок одни неприятности. Напиши о детях подробнее, что Лиля, что Федя. Подробнее об их разговорах и всех их жестах. Целую тебя, голубчик, пиши только. Сам постараюсь быть к 4-му августа (или вроде того). Это ужас как далеко и долго. Мещерский пишет, что приедет разве в сентябре. Целуй детей, передай Любе, что каждую минуту вспоминаю об ней и об Феде. Не забыл бы Федя меня. Милый мой мальчик! Ты не можешь понять, каково мне без них!
До свидания, обнимаю тебя, люблю тебя.
Твой весь навсегда Ф. Достоевский.
Напишу скоро и напишу много, - скверная и ревнивая жена! Ах, Аня, кого ты вздумала подозревать?
Ив<ан> Григор<ьевич> говорил, что Раухфус (доктор) находит в Грише начало английской болезни; вот бы им в Руссу-то, еще не поздно!
487. А. У. ПОРЕЦКОМУ
20 июля 1873. Петербург
Многоуважаемый Александр Устинович,
Не трудитесь на нынешний раз с "Областным обозрен<ием>". Вышла нечаянная статья, которую обязательно надо поместить, так что она и заменит на этот № Вашу работу. Боюсь только, что записка моя не дойдет к Вам вовремя и Вы (1) истратите напрасно труд на писанье.
Итак, до следующего №. А засим весь Ваш
Ф. Достоевский.
Не подыщете ли в антракт какой-нибудь капельки для "Последней странички", многоуважаемый Александр Устинович?
(1) далее было начато: употреб<ите>
488. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23 июля 1873. Петербург
Понедельник 23 июля/73.
Милый друг мой Аня, сейчас получил от тебя письмо, а оно с пятницы, ужас как долго идет! Я уж об вас надумался и настрадался. Скажи, голубчик Аня, можно ли так писать, как ты пишешь: "У меня случилось несчастие... Я в большом горе", - и не объясняешь, что случилось. Ради бога, немедленно напиши, непременно, - иначе рассержусь и поссорюсь с тобой, и до тех пор не приеду, пока не напишешь. И не делай этого вперед никогда, ради бога, мне и без того тяжело. Аня, обещай <?> думать <неск. слов нрзб.> (1) Напиши же, слышишь, сейчас же.
Рассказами о детях ты много дала мне удовольствия. Пиши всегда об этом. Я точно оживаю и точно с ними сижу.
Кроме ужасно тяжких мыслей и уныния, напавшего на меня почти до болезни, при одном соображении, что я по крайней мере еще на полгода закабалил себя в эту каторжную работу в "Гражданине", - я, кроме того, еще серьезно опасаюсь заболеть. Вчера так даже вечером ощущал лихорадочные припадки, болела спина и отяжелели ноги. Сегодня мне, впрочем, гораздо лучше, только сплю худо, кошмары, дурные сны и желудок расстроен. Пиши мне сейчас же, каждый раз по получении письма, не отлагая до другого дня, и я точно так же буду отвечать и на твои письма.
Мещерскому на его грубое письмо я отлично ответил - без задору, ровно, строго, прямо. Не посмеет более себя выказывать. В субботу утром приходила Анна Николаевна, взяла из твоего комода несколько вещей (6 штук чего-то, красная клетчатая мантилья что ли, занавесы и проч.) и сверх того взяла у меня 10 руб. С домашними расходами у меня вдруг таким образом осталось 53 руб. (накануне дал Мише 10 руб.) В субботу же по поручению моему Миша ходил в контору Клейна - и что же: 50 экземпляров, говорят они, проданы, а самого Клейна нет в Петербурге, в Москву уехал, будет в первых числах августа, денег не оставил. (Вероятно, в 50 экземплярах только признаются, а продали еще больше). Между тем в понедельник расплата с сотрудниками. Сегодня встал в 10 часов и пошел по закладчикам. Везде 60 и ничего больше. И только в одном месте, у Аничкова моста дом Лопатина, дали 70, по моему настоянию. Но я все-таки в беспокойстве, потому что выдали мне квитанцию, где значится, что я продал часы и деньги 70 руб. получил сполна. Они меня успокоивали и сказали, что у них это общая формула, у всех частных банков. Конечно, может быть, не надуют. Таким образом, денег у меня хватило: я выдал 106 рублей, и осталось для житья до 15 руб. с мелочью. Но зато без часов.
Теперь я совершенно один, даже Страхова нет. Мне ужасно начинает нравиться один из новых моих сотрудников, Белов (пишет критич<еские> статьи), но далеко живет. А кажется, мы могли бы сойтись. Ив<ан> Гр<игорьеви>ч тоже сегодня не приехал. Был только Паша вчера и бедный Миша. У него только что выздоровела жена, бывшая при смерти, и сверх того вчера в воскресение была она именинница, а денег, кроме 10 руб., он ничего не достал.
С субботы на воскресение, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он полетел, перевертываясь, вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: прощай, Федя! И тут проснулся. Напиши мне как можно скорее о Феде, не случилось ли с ним чего с субботы на воскресение. Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успокоюсь до письма твоего.
Сплю я, просыпаясь ночью раз до 10, каждый час и меньше, часто потея. Сегодня, с воскресения на понедельник, видел во сне, что Лиля сиротка и попала к какой-то мучительнице и та ее засекла розгами, большими, солдатскими, так что я уже застал ее на последнем издыхании, и она всё говорила: мамочка, мамочка! От этого сна я сегодня чуть с ума не сойду.
И вообще я чувствую, что это лето и эти занятия не доведут меня до добра. Что же касается до приезда к вам, то до 5-го августа и не жди меня: никакой, ни малейшей не будет возможности. За будущий 31 № к 30 числу июля я вообще покоен, то есть в том, что деньги наконец к Ив<ану> Гр<игорьеви>чу придут и он меня выручит. Ну, а за редакцию не спокоен. Надо самому писать длиннейшую статью, а я очень расстроен.
Сегодня (без меня) приходила Настя и получила наконец от Александры письмо от Прохоровны (NB. Александра ходила к ней без меня, да дома не застала). Настасья прочитала письмо и на увещание Александры написать матери отвечала: да и писать-то нечего, жива, здорова, ни от отца, ни от брата писем не получала. Однако обещалась написать. Сообщи Прохоровне вместе с моим поклоном.
Обнимаю тебя искренно, со всем жаром души. Пиши скорее. Пиши о детях и о том, какое с тобою случилось горе? Слышишь? Не расстраивай меня и не раздражай еще более. Целую тебя 1000 раз, Лилю, Федю тоже. Об них думаю и часто мучаюсь; ну случись что - что с ними будет!
Ваш весь Ф. Достоевский.
Вообще о моем здоровье не беспокойся (в предположении, что ты обеспокоишься). Сложения я крепкого. Погода у нас дурная, раз 20 в день дождь, гром и зарницы по ночам и вот уже 3-й день, оттого и сплю дурно.
(1) текст: Аня...... нрзб.> - густо зачеркнут. Читается предположительно.
489. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
26 июля 1873. Петербург
Петербург, четверг 26 июля/73.
Милый друг мой Аня, сейчас получил твое письмецо. Пишешь очень редко. Очень благодарен тебе за все сведения о детях и рад, что ты и детки здоровы. Оживляешь меня. А я серьезно было расхворался и даже немного лежал: лихорадочное состояние (но без очень сильных припадков) и сильнейшее расстройство желудка (уже больше недели). Принимал касторовое масло ничего не помогло. Лихорадочное состояние как будто ослабело, и как будто я стал несколько сильнее, но желудок всё в том же состоянии, и тяжела голова. Подожду немножко и позову Бретцеля, если в Петербурге. Но, кажется, и так всё пройдет. Заметь себе, что я постоянно выхожу со двора, хотя, впрочем, и не гуляю.
Третьего дня пришел Ив<ан> Григорьевич в большой радости: приехал 23 июля Образцов, и он уже с ним виделся, да сверх того с Варламова получил все деньги, всё вместе разом, Обращение Образцова несколько свысока и строго. Да сама старуха (1) прислала письмо на Вы и опять белья в подарок. В письме пишет, что она не только сохранила, но и приумножила капитал, понимая свою обязанность. Образцов объявил, что даст 16000 деньгами и 80000 векселем по 12 марта сроку и назначил 25 число. Судя по черновой расписке, которую должен дать Ив<ан> Гр<игорьеви>ч (целый акт) и по форме выдачи денег, я усумнился и советовал ему быть осторожнее. Он очень стал жалеть, что нет адвоката, чтоб посоветоваться, и времени, чтоб съездить в Сиротский суд и узнать про отчеты опеки. Во всяком случае положил отложить до сегодня (26) получение денег, о чем и уведомил Образцова телеграммой. Вчера в три часа я его встретил на Невском с Ольгой, но одну секунду, ибо начинался ливнем дождь. Он успел мне сказать, что был в Сиротском суде и решил согласиться на всё, что предложил Образцов, и сверх того обещал быть завтра (то есть 26-го сегодня) у меня. Теперь уже седьмой час, но он не был. Полагать надо, что они получили, но или Ольга Кир<иллов>на закапризилась, или дела задержали (а дел у них по выкупу вещей бездна), и будет или поздно вечером (только меня не застанет), или завтра утром.
Голубчик Аня, мне кажется, он не в состоянии будет помочь нам, как мы с тобой рассчитывали: тут Ольга и многое кое-что другое.
Между тем завтра вексель Печаткина, 30 №, а к 1-му все сроки долгов.
Вчера приехал Победоносцев, был в редакции, ждал меня, но я не был, и просил запиской заехать к себе в 9-м часу. Я был у него вчера и сидел до 12. Всё говорил, много сообщил и ужасно просил опять сегодня приехать. Если же я буду болен, то дать ему знать, и он сам ко мне приедет сидеть. Укутал меня пледом, и так как, кроме служанки, в пустой квартире не было никого, то, несмотря на выбежавшую в переднюю служанку, провожал меня по трем темным лестницам вниз, со свечой в руках, до самого подъезда. То-то увидал бы Владиславлев. На острове Вайте читал мое "Преступление и наказание" (в 1-й раз в жизни) по рекомендации одного лица, слишком известного тебе одного моего почитателя, которого сопровождал в Англию. Следственно, дела еще не совсем очень плохи. (Пожалуйста, не болтай, голубчик Анечка.)
Я за болезнию и за статьею о Тютчеве (умер), присланною Мещерским, бросил мною начатую статью. Но следующий № во всяком случае должен выпустить сам, а потому в субботу ни за что не могу выехать и всю неделю буду писать политическую статью. Я дал слово Мещерскому; между тем никогда в жизни не писал политических статей. Газет надо перечесть десятками. Да и боюсь, чтоб не разболеться. Зато в следующую субботу (в августе) приеду непременно. Да и пальто теплое будет. Знаешь, Аня, я ведь знаю, когда простудился. Это было в три часа ночи на станции Новгородской дороги при переходе на Николаевскую, тут пришлось 1 1/2 часа ждать, и я провел их на платформе в ужасный холод и туман. Тогда и подумал: а ну как простужусь. Все были или в пледах, или в теплом пальто, а я один только в летнем.
Береги себя, голубчик. Если получу, пришлю тебе деньжонок. Целую детей 1000 раз. Говори им обо мне. Скажи Любочке, чтоб не тужила и ждала меня и что приеду надолго. Федю милого расцелуй и не давай ему забыть меня. До свидания, мой милый ангел. Дел у меня бездна - бездна! Этот раз целый № прокорректировать по-редакторски, то есть переправляя. Это ужасная работа. Напишу тебе, вероятно, хоть две строки в субботу или в воскресенье, если хоть что-нибудь узнаю об Ив<ане> Гр<игорьеви>че. Целую вас всех. Любите меня.
Твой Ф. Достоевский.
А ужасно, ужасно надобно тебя видеть, несмотря даже на лихорадку, которая в одном отношении даже облегчает меня, удаляя... (2)
До свидания, голубчик.
Пиши о себе. Какое же твое горе?
Дождусь ли ответу? "Дела" не читай.
(1) было: она
(2) многоточие в тексте
490. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
29 июля 1873. Петербург
Петербург, 29 июля/73.
Милый мой голубчик Аня, вчера получил твое милое письмецо. Пишешь, что ждешь меня сегодня (воскресенье). Нет, милая, никак нельзя: дела такая бездна и всё такой гадости! Теперь налегла на меня переписка с разными авторами и опять. с Мещерским. Это всё время и все соки у меня отнимает. Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтоб поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева, - безграмотную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи, сидел и переправлял, живого места не оставил. Напишу ему прямо, что он ставит меня в невозможное положение. Между тем к следующему № надо начинать уже другую статью, политическую. Таких статей я никогда не писывал.
Мало того, что я сегодня к вам не приехал, но даже и за следующую субботу боюсь, так как у нас теперь в типографии раньше часу пополуночи не готовы с №. Впрочем, наплевать на №, они рассердят меня наконец окончательно. Даю слово, что приеду если не в воскресение, то в понедельник. Вот только погода ужасно изменчивая, дожди. Дай-то бог хорошеньких деньков к тому времени.
Обнимаю тебя и целую, голубчик мой, тебя и детишек. Жаль мне вас и что я не с вами. А детишек-то как жаль, а тебя-то как бы хотел обнять. Здоровье мое лучше, лихорадочное состояние совсем прошло, но желудок и утомление вот что не прекращается.
Наконец-то вчера, 28 числа, зашел ко мне Ив<ан> Гри<горьеви>ч, а то, получив деньги, всё не заходил. Каналья Образцов их обрезал ужасно, причел какие-то проценты - одним словом, досталось им всего - вексель до марта в 80 000 и только 13000 руб., да и то сериями. (1) Ив<ан> Гр<игорьеви>ч меня спрашивал, сколько бы мне надо было. Я повторил по возможности весь наш расчет, помнишь, в парке на лавочке, но теперь сказал, что мне нужны, по крайней мере, 2000. Он сказал, что подумает. Я очень не просил. Но сегодня приходила Анна Николаевна и говорила, что деньги выходят ужасно, что он уже 7000 заплатил, а что Ольга не знает про большую часть этих долгов, что деньги исчезают, и мельком сказала, что Ив<ан> Гр<игорьеви>ч может дать разве 1600. (Ив<ан> Гр<игорьеви>ч вчера, уходя, сказал, что посоветуется с мамой.) Вчера же он мне дал 60 руб., которые у меня занял, и 200 руб. (а главные (2) деньги после 1-го августа). Из этих 260 руб., с теми, что у меня оставались, я заплачу завтра за №, вчера выкупил часы, дал вперед за статью 25 руб. Страхову (который воротился) и сверх того остается у меня руб. до 70.
Вот положение дел. Я очень понимаю, что у них деньги выходят. Но каково же иметь Варгунина, Замысловских, Тришиных, Печаткина, хозяйство и деньги тебе - на шее, и так, что отложить нельзя, а вынь да положь. И главное, ни на кого не достанет. А до марта у них уже не будет ни копейки. Тяжело нам будет с тобою, Аня. Еще тяжелее моя работа, которая так мало дает мне и убивает меня, так что я надолго не способен буду что-нибудь сделать, чтобы нажить хорошие деньги. А долги наши всё растут да растут. Я предчувствовал, что на Ив<ана> Г<ригорьеви>ча надежда плоха.
Они ищут квартиру и собираются прожить еще зиму в Петербурге, потому что если бы даже хотели, то и тут не в состоянии бы были купить именье теперь, осенью, чтобы переехать прямо в него, так как денег нет, а есть только билет, который нельзя разменять без очень большого урона. Анна Николавна ходит и ищет квартиру. Ольга уже некоторое время больна странною болезнию: она вся в чирьях, покрыта огромными чирьями по всему телу, но не по лицу.
Ну вот тебе отчет о положении дел. Я и представить себе не могу, что скажут Варгунин и Замысловский, когда придешь к ним с половинною уплатою.
Приходил Страхов, просидел до 1/2 12-го, и я должен поскорее дописать и снести в ящик. Представь себе, только что я это написал, так и вспомнил, что марки у меня нет, позабыл купить, и, стало быть, письмо мое не пойдет завтра, а теперь ночь. Ах, как это досадно! Ты бог знает чего надумаешься, не получая от меня ответа. И зачем я вчера не написал или сегодня утром! Ты не поверишь, как меня это расстроило. Ах, как скверно, что Страхов задержал меня! Целую тебя, ангел мой, бесконечно. Ты не можешь представить себе, какая мне тоска. Я думаю, это лета отзовется на моем здоровье зимою. Целуй детей. Бедные, не могу я их видеть и слышать, поневоле снятся мне во сне. Целуй их. Таким образом, это письмо ты получишь, пожалуй, в четверг. Ведь к вам по четыре дня ходят письма, точно в Одессу. Послать в Москву завтра - в среду утром получится, а в Старую Руссу придет в среду, а принесут тебе в четверг. О, как несносно жить! У меня сто мелких глупостей по журналу, о которых я должен помнить поминутно, и вот забыл о марке. До свидания, милая моя. О, если б поскорее этот чертов год кончился!
Целуй детишек, люби их, обходись с ними нежно, а я тебя - за это буду вечно любить. До свидания, обнимаю тебя. К воскресению наверно жди, а к тому времени, может, и еще напишу.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) далее начато: Он мне
(2) было начато: это
491. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 августа 1873. Петербург
Петербург 10 августа/73.
Милая Аня, вчера прибыл в Петербург, много перенеся дорогою, главное усталости, и даже сегодня нездоров, а вчера решительно был болен. Расскажу по порядку. Извозчик ехал превосходно, менее чем 1 1/2 часа, и дорога прекрасная и веселая, - поминутно деревни. Звад стоит на припеке, тени нет, строение богатое, живут зажиточно, но вонь во всех домах (чрезвычайно в то же время чистых) нестерпимая. Пахнет вялеными снетками, ибо в каждом доме под крышей устроено вяление снетков. За постой ничего не взяли, за стакан чаю (весьма хорошего) 10 коп. и за рюмку водки 5. Но зато с 11 часов и почти до 5 надо было ждать парохода. Сверху зной и припек, а с озера ветер. Пароход сначала прошел мимо, чтоб отыскать трешкот, а потом уже обратно взял нас. Те, которые ехали на трешкоте, рассказывали потом буквально ужасы. С 9-ти часов до 4-х их тащили, зной сверху и ветер с озера, и шевельнуться нельзя, и ни одного куска хлеба, даже воду надо было тут же доставать из озера. Все, буквально все, проклинали трешкот. (1) Затем в 1/2 двенадцатого пустились из Новгорода, и одна чертова кукла, дама из любезных, протрещала всю ночь визгливым подлым языком с своими кавалерами, так что я ни одной минутки даже вздремнуть не мог. Кстати, Аня, знай, что когда повезешь детей, то нужно очень, очень укутывать. Час с лишком, когда ждут Николаевскую дорогу (в Чудове), ужасно холодно и сыро. Мне в теплом пальто стало холодно. В вагонах же духота и жара, а тут вдруг на этот холод отворят окно. В дороге мы простояли 1/2 часа, потому что с поездом, шедшим впереди нас, что-то случилось. Приехали в Петербург уже в 11-м часу. Дома у меня Александра всё вымыла и вычистила. Хозяин дурит, вчера съехали еще жильцы и приехали другие. Дворники грубы ужасно, не позволяют дома стирать даже самых мелких вещей и за каждую услугу требуют особой платы. Сложить дрова или принести - они на это только смеются: не наше, дескать, дело. Мещерского я застал, очень был любезен, но вчера же уехал. Про редакционную квартиру ничего не решено. Пуцыкович ищет, чтоб нанять тут же и для себя. Статей отсмотреть приходится бездна, меж тем ничего еще не готово. Вчера после обеда успел заснуть два часа, но встал в ужасной лихорадке, в ознобе и жаре. Сел за работу, и когда кончил в три часа ночи, то, вставая с кресел, зашатался и повалился в кресло обратно. Никогда еще у меня так не стукала кровь в голову. Ночью спал долго. Теперь чувствую лихорадочное состояние и, кроме того, ужасно кашляю. Дни хорошие. Ночью валил дождь.
Вчера в редакцию ко мне зашла Анна Николавна и пробыла минутку, чтоб отдать деньги. Спросила о тебе. Вчера, когда я спал, приходил от Вольфа с требованием 25 экземпляров "Бесов" и оставил бумажку, то есть требование. Александра сказала, чтоб зашел завтра (сегодня) от 12 до 2-х. Теперь третий час, но он еще не заходил. Значит, бесочки-то опять пошли и ведь без малейшей публикации, заметь себе.
Сегодня рано утром заходил Ив<ан> Гр<игорьеви>ч - хотел зайти потом. Я спал и не видал его.
Аня, голубчик, имей в виду, что погода может перемениться, что сообщение может измениться и проч<ее> и проч<ее>. И потому, если к 20 числу будет стоять погода очень хорошая, - то и переезжать бы вам. Три-четыре дня не придадут здоровья детям.
Кстати, захвати на всю дорогу провизии. Этот обратный путь так лежит, что в Новгороде, например, если не идти в гостиницу Соловьевых, - то ничего буквально, кроме чаю, не достанешь, а во время пути даже в Любани, кроме кофею и чаю, нет ничего. И ради бога, не простуди детей. Да непременно найми прислугу, как ты хотела.
Целуй деток милых, Любку и Федю. Всё они мне мерещатся п всю дорогу мерещились. Прощай, обнимаю тебя, ну что, если август изменится к худшему? Теперь пока хорошо. Ужасно много воротилось в Петербург, совсем не те улицы.
Пишу тебе отрывочно и кое-как. (2) Не взыщи. Всё голова кружится. Потею. Купил pastille d'Ems, но не помогают.
Целуй моих ангелов и люби их.
Твой весь Ф. Достоевский.
Пиши. Хватит ли денег? Целую тебя.
(1) далее было начато: Я
(2) было: кое-что
492. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 августа 1873. Петербург
Петербург 13 августа, понедельник/73.
Милый мой голубчик Анечка, получил твое милое письмо, и очень мне грустно было читать, как детишки заплакали, когда я уехал. Милые голубчики! Скажи им сейчас же, что папа их помнит, целует и в Петербург зовет. Обнимаю и целую их беспрерывно и благословляю. Я, Аня, всё нездоров: нервы очень раздражены, а в голове как туман, всё точно кружится. Никогда еще даже (1) после самых сильных припадков не бывало со мной такого состояния. Очень тяжело. Боюсь очень за голову. Сам не понимаю, что со мной делается. Точно сон и дремота и меня всё разбудить не могут. Отдохнуть бы надо хоть недельки две от работы и заботы беспрерывной - вот что. Ближайшая же причина, полагаю, в том, что еще не очнулся от припадка, ни разу не успев выспаться - то дорога, то всякие излишества, то опять дорога, а потом тотчас здесь усиленные занятия, неспанье. Очень, очень боюсь, чтоб не случилось еще припадка. Ты, Аня, верно, <2 слова нрзб.> всё это пустяки, (2) думая, что припадки мои как прежние, а я наверно знаю, что случись (3) теперь, вот в это время, еще припадок - и я погиб. Удар будет. Я слышу это, я чувствую, что это так. А между тем работы бездна, а забочусь я всё один, всё один. Особенно эта неделя чрезвычайно тяжела для меня, все-то сотрудники манкировали, и я один вертись за всех.
За 25 экземп<ляров> "Бесов" от Вольфа получил 61 руб. 25 коп. А от Клейна вчера получил лишь 75 руб., а остальные после. При этом он сделал мне нестерпимую грубость, за что я сильнейшим образом осадил его, так что он мигом притих и, вероятно, будет знать теперь, с кем имеет дело. Остальное он отложил до 20 августа, но я сказал, что приду 1-го сентября, но с тем, чтоб мне доставлен был полный счет экземплярам, которые, будто бы, никак нельзя сосчитать, то есть в точности узнать, сколько всего продано. Из-за этого и спор вышел. Ив<ан> Гр<игорьеви>ч хотел совершить какую-то доверенность на мое имя. Дело состоялось иначе, но паспорт мой, который он взял себе, остался у него. Завтра же он, кажется, едет из Петербурга, и я очень забочусь о моем паспорте, ибо полагаю, что он забыл его у меня в редакции на столе, думая, что отдал мне. А в редакции паспорта уже нет. Боюсь очень, не пропал бы.
Третьего дня приходит ко мне Жеромский. Дело пошло в охранительном порядке, точь-в-точь как предсказывал Поляков, и, стало быть, очень пока неудачно для Шеров. Но Корш, адвокат Шеров, очевидно, уже сделал предложение Жеромскому и подкупил его, и тот пришел ко мне с предложениями: не желаю ли я допустить Шеров к наследству и тогда мирно покончить. Я сказал, что нет и подожду Полякова (о котором ни слуху ни духу). Между тем я еще недавно слышал, что Коля болен очень. Спрашивал Жеромского, уже провожая его в дверях, как здоровье Коли? - О, нет никакой надежды. - Что вы? Что с ним? - У него рак в заднем проходе (последняя степень геморроя, перед самою смертию). Я слышал от Барча, он только что его освидетельствовал. К сентябрю умрет непременно. - Можешь себе представить, как меня поразило! Вчера же (в воскресение) и поехал к Коле. Он здоровее чем когда-нибудь. Правда, был недавно болен, так, что, Саша говорит, боялись, чтоб не помер, серьезно. Но теперь здоровее прежнего, никогда никакого рака не было, и никогда никакой Барч его не свидетельствовал. Можешь себе представить, как врет и может врать этот подлячишка Жеромский.
Мы с Колей очень согласно проговорили. Обедал я у Саши (чванилась) и насилу-то, под конец, об тебе спросила и о детях, уже после обеда. (А ты всё первая лезешь с визитами.) Дрянь людишки, дрянь, кроме Коли. Хотел было кстати зайти и к Паше (наконец-то), и вдруг как раз он переехал, таинственно и никому не сказавшись, трепеща Гришиных, в Николаевскую улицу, рядом с прежней квартирой Ив<ана> Гр<игорьеви>ча. Однако я все-таки отыскал их вчера в Николаевской улице и просидел у них час. Паша чего-то объелся, и его при мне рвало, и вообще он ужасно смешон в недрах своего семейства. Прятанье в квартире от Гришиных - совершенный водевиль. Дочка их, бедненькая, такая худенькая и такая хорошенькая! Так мне ее жалко стало. Домой воротился в 9 часов, измученный, и просидел до 5 утра за чтением статей.
До свидания, ангел милый, целую твои руки и ноги и желал бы, чтоб ты меня хоть на десятую долю так любила, как я тебя люблю, не на словах только. До свидания. Такое маленькое письмо, а ужас как утомило меня. Целуй детишек, ангелов, богов моих.
Твой и ихний весь Ф. Достоевский.
(1) далее было: более
(2) текст: <2 слова нрзб.> всё это пустяки густо зачеркнут. Читается предположительно.
(3) было: случился
493. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
15 августа 1873. Петербург
Петербург 15 августа.
Сейчас, голубчик мой Аня, воротясь домой, получил твое письмо и очень испугался, видя из него, что ты так опасаешься за мое здоровье, и потому, (1) не садясь за обед, спешу ответить тeбe, чтобы ты не решилась, пожалуй, ко мне приехать раньше срока и тем повредить детишкам и их ваннам. Уведомляю тебя, голубчик, что мне совсем теперь легче, я нисколько не ошибся, объясняя тебе в прошлом письме, в чем дело: просто после припадка не отдохнул, в Старой Руссе предавался излишествам, - нормальным в обыкновенное время, но не нормальным после такого нервного потрясения, как припадок. Затем опять езда (всего более утомляющая) и здесь возня с №, то есть неспанье опять. Вот почему чуть было и не упал в обморок. И, признаюсь, слабость сил продолжалась долго, всего два-три дня, как я совершенно вошел в себя. Но теперь, кажется, я опять по-прежнему и чувствую себя и сильным и свежим. Вот и всё, а потому беспокоиться нечего. То, что ты пишешь о 24-м числе, совершенно для меня ясно, и я в высшей степени с тобой согласен. Да и не долго ждать, всего девять дней. Только все-таки беспокоюсь, как-то ты довезешь детей? Аня, сообрази, что я скажу тебе: Наталью не привози, выбери прислугу более нянюшку, чем кухарку (ты мне говорила про какую-то на ваннах, к которой дети привыкли), а здесь я говорил Александре; она очень не прочь остаться в кухарках. Не думай, чтоб она не была работящая, лучше еще других и совершенно честная насчет денег и чистоплотная. А что же делать, если она готовит так, что я все могу есть. Таким образом, у нас будут на первый раз: кухарка, горничная, которую привезешь, то есть будущая няня, и Прохоровна, покуда можно, покуда дети к той не привыкли. Вот как я рассуждаю. Сама увидишь, что будет хорошо. Попробуй-ка (2) так.
Теперь середа вечером, и я до субботы буду, не разгибая шеи, сидеть. Так сошлось, что на этот № вся корректура (редакторская) моя, а потому до субботы и писать тебе не буду. Не беспокойся же обо мне, голубчик, будь здорова, проживите этот остаток лета весело. Целую тебя крепко и детей, Любу и Федьку, ангелов. - Ив<ан> Григорьевич вчера уехал в Москву и далее выбирать именье - примерно до 20 сентября. Целуй деток милых, будь весела, голубчик ты мой, обнимаю тебя бессчетно раз.
(Полнокровия у тебя нет, а просто что-нибудь расстроено, потому и кричишь по ночам.)
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) далее было: еще
(2) было начато: Попробуй, как
494. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
19 августа 1873. Петербург
Воскресенье 19 авгус<та>/73.
Очень мне жаль, милый дружочек мой, что так напугал тебя. Это вот как вышло: 15-го, кажется, или 14-го я от тебя письмо получил и увидел из него, что ты очень о здоровье моем беспокоишься. Я и написал тебе тотчас, что я уже поправился (что и правда было) и всё приписываю излишествам и усталости. Письмо отправил и с 15 на 16 проработал всю ночь, а как стал поутру ложиться и уже лег, в 5 часов, вдруг вспомнил, засыпая, что ты писала в письме, что выезжать из Руссы надо или 24-го или 16-17-го, потому что 19-го все бросятся ехать и тесно будет. Я и подумал: вот она о здоровье моем беспокоится, письмо-то мое еще когда-то придет, а получит мое 2-е (тревожное) письмо, так и решит вдруг сгоряча ехать 16-17-го. Между тем погода великолепная, значит, лишать детей, раньше времени, воздуху. В Петербурге жарко, пыльно. Вскочил с кровати, приготовил телеграмму, оделся и снес ее в телеграф, благо в двух шагах, и сдал без 10 минут 6 часов, рассчитывая, что если б ты и сегодня, 16-го, ехать захотела, то всё еще тебя телеграмма может застать в Руссе и остановить поездку. Вот каким образом всё это вышло. Признаюсь, была у меня мысль: а ну как ты испугаешься! Да все-таки не думал, чтоб до такой степени. Живите себе, голубчики, там, докуда можно, ну а в конце-то месяца приезжайте. Я, Аня, очень много думаю о вашем путешествии. Теперь вот погода хорошая. По моим расчетам к 25 будет луна к полнолунию и ливмя дождь. Для детей надо иметь про запас настоящую зимнюю одежду. А в вагонах нужно спорить за места, настаивать. Только случаем иногда найдешь хорошее место. На Николаевской хуже всего в этом отношении.
Я, Аня, ужасно занят работой, всё больше чужие работы переделываю, редактирую, просто как каторжный. Сам своему здоровью дивлюсь, что всё это выношу. Об 1000 мелких хлопотах тебе и не пишу; но есть, Аня, крупные хлопоты, серьезные, и всё это я предвидел заране. Серьезнейшее дело теперь - это паша квартира. Нельзя оставаться, Аня, говорю не горячась, с рассудком. Я пересказывал дело Анне Николавне, и она говорит, что нельзя оставаться. Сливчанский - это какой-то помешанный (я серьезно это думаю). Он нам в декабре скажет: съезжайте, безо всякой причины, и выгонит нас на улицы. У Александры паспорту срок вышел. Паспорт ее он сам видел и знает, что она не бродяга. Она переслала паспорт в Кронштадт градскому главе и деньги для высылки нового и получила почтовую расписку, что паспорт принят. Но из Кронштадта вот уж 2 недели ни слуху ни духу. И вот Сливчанский пристает к ней и грозит прогнать из дому. Сегодня встретил ее и говорит: "Я твоему барину такое письмо напишу, что увидит!" Каково же это с жильцами поступать, коли гнать от них прислугу из пустяков, за которые уж он ни за что отвечать не может. Третьего дня, из редакции, Гладков прислал мне только что полученное, чрезвычайно важное от князя на мое имя письмо. У нас в редакции, кроме человека прислуживающего, есть еще рассыльный, и ходит он нарочно по распоряжению князя в русском платье с бородой, но в щегольском платье и в щегольских сапогах. Рассыльный спешит ко мне с большим запечатанным пакетом в руках, входит на лестницу, хочет позвонить - и вдруг хозяин, идет сверху с лестницы: "Как ты смеешь ходить по парадной лестнице! Ты мужик! В мужицком платье не ходят по этой лестнице! Марш с черного хода!" Схватил его за рукав и стащил с лестницы, и тот должен был идти через двор с черного хода. А между тем видел же письмо в руках. Согласись, Аня, что иные могут и обидеться, например, если б был здесь Мещерский, а те, которым не очень нужно, пожалуй, бросят и не пойдут отыскивать черный ход. Посыльные из книжных лавок за книгой, пожалуй, и уйдут. Да и не дозволит хозяин, если только узнает, отпускать книгу через парадный ход. Встает чем свет и целый день ходит по всем лестницам и по всему дому, шпионит и порядки производит. Я хотел было к нему идти и объясниться о рассыльном, но рассудил, что ведь он тотчас же скажет мне: съезжайте. И до твоего приезда решился было сносить. Но вот сегодня опять стеснение: Александра по праздникам иногда (очень редко) отпрашивается в гости. А так как мне тоже надо уходить, то я, выходя из квартиры, запираю квартиру на замок и ключик оставляю у дворника, чтоб если я или Александра раньше меня воротилась, то ключ всегда бы найти у дворника, чтоб можно было в квартиру войти. Так и было раз, недавно, дня 4 тому, что я оставил ключ у дворника. Он узнал об этом и тотчас же запретил дворнику брать у меня ключ. Таким образом, я теперь, уходя из дому, когда Александры нет, должен буду ключик оставлять в нужнике, в известном месте на полке. А ведь это все-таки риск; ведь у меня редакционные деньги в квартире остаются! Если он наших детей увидит на дворе, он непременно за что-нибудь придерется и закричит на няньку, что и делал с другими: ведь я уж всё равно тогда исколочу его. И потому я положил съехать во что бы ни стало. Беспрерывный страх во всю зиму и беспрерывная боязнь ссоры - да ведь я от этого болен буду при моей впечатлительности! Эх, Аня, я видел, что за человек, когда мы, помнишь, были у него и он, из-за кошки, сказал нам: "Ступайте". Знай тоже, что теперь цены на квартиры, сравнительно с прошлой зимой, еще поднялись на 30 процентов. В жильцах он уверен, вот и кутит. Я положил, что хоть бы 900 руб. заплатить, но съехать! Положительно говорю - не хочу оставаться на этой квартире. Что за квартиру (1) переплатим, то на другом наверстаем: на здоровье детей и на моем спокойствии. При спокойствии я больше и лучше могу писать. Я не раз тебе говорил это, но ты слишком этим словам редко цену давала. (2) Говорю тебе, что больше наработаю при спокойствии. Теперь-то уж меня, по крайней мере, нельзя обвинять в том, что вздорил: (3) я не вступался, не объяснялся с хозяином, даже прячусь от него, несмотря на придирки с его стороны, потому что боюсь истории. Вчера я видел квартиру близ Владимир<ской> церкви - очень хорошенькую, но 900 руб. Посмотрю еще. Желал бы нанять хоть на Песках, только б не жить в этом доме. Ужас для меня - книги. Ну как это перевозить.
До свидания, голубчик. Если пишешь, что любишь меня, то вникни в наше положение, поразмысли. Ведь после худо будет, коли зимой он нас сгонит. (4)
Да и квартира-то уж как скверная и тесная, а детская комната и твоя затхлые. Наша столовая по ступенькам никуда не годится: ничего там нельзя сделать. До свидания, обнимаю тебя. Если отыщу квартиру, оставлю за собой и задаток дам, не ожидая тебя, потому что квартиры с каждым днем разбираются. До свидания же.
Твой весь Ф. Достоевский.
Если отыщу квартиру перед самым твоим выездом из Руссы, то телеграфирую тебе адресс новой квартиры. Но не думаю, чтоб я, до приезда твоего, и переехал.
Анна Николавна и Ольга Кириллов<на> уже переехали на новую квартиру (900 руб.) близ Технологического института. Всё без нянек, ищут нянек. Ив<ан> Г<ригорьеви>ч уехал уже дней 5 и писал им из Москвы. Гриша сидит, закрывается ручонками и плачет о тяте, ходит, ищет его, - даже боятся за него. У меня был некто Мостовский <?>, который разыскивает Анну Николавну. Он имеет расписку ее в 150 руб., сделанную ею какому-то Ленчу в 67 году. Анна Николавна еще не была у меня, и я ей не передал. Но я ему сказал, что не знаю, где она, но что моя жена, может быть, знает, то есть ты, чтобы как-нибудь отговориться. Он, стало быть, купил документ рублей за 5. В адресном столе Анна Николавна не записана, (5) он говорил мне, что уж искал. С виду из тех, которые свои деньги, если захотят, добудут.
Обнимаю тебя еще раз и Любу и Федю.
Р. S. Сейчас принесли твое письмо, и я должен был разрывать уже запечатанный конверт, а у меня совсем времени нет. Вот что о кухарке: я ведь сам не знаю, что будет потом. Александра хорошая работница, очень, и стряпает хорошо. Очень хорошо себя держит и ведет, но, опять-таки, вынесет ли она всю нашу семью и останется ли потом, когда будет потруднее, - не знаю. И потому, если только найдешь не вздорницу, чистоплотную (это 1-е дело) и которая хорошо готовит (слышишь?), то нанимай и приезжай с ней сюда. Вот последнее мое слово. Тогда Александру отпустим. (В ней есть и недостатки, слишком, н<а>пр<имер>, чувствительна, но не белоручка, далеко нет.) Итак, привози свою. А Прохоровну, если только возможно это, я бы навсегда оставил! Поговори с Ан<ной> Николавной и с Ольгой Кирилловной! 6 нянек переменили и не могут найти. Дети беспрерывно в ушибах и колотушках. Обе они говорят, что у нас Прохоровна клад.
Твой весь Ф. Достоевский.
Р. Р. S. Сейчас иду со двора, и так как Александры нет, то распрятал все деньги по всем углам квартиры, а ключик в условное место в сортире.
Целуй детей, благословляю их и обнимаю! До свидания. Любу, Федю. (6) Вчера приходила ко мне Ольга Кирилловна одна, сидела и пила чай. Приходила, собственно, узнать от Александры о служанке, которую та обещалась Анне Николавне найти для них.
(1) далее было: наверстаем
(2) фраза: Я не раз тебе говорил...... цену давала. - зачеркнута, вероятно, А. Г. Достоевской.
(3) фраза: Теперь-то уж...... вздорил - густо зачеркнута.
(4) далее густо зачеркнута вписанная на полях фраза
(5) текст: Мостовский <?>...... не записана зачеркнут, вероятно, А. Г. Достоевской.
(6) так в тексте
495. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
20 августа 1873. Петербург
Петербург, понедельник 20 августа/73.
Милая Анечка, боюсь, что ты рассердилась на меня за квартиру; между тем кто же себе злодей и почему не искать лучше, если можно. Сегодня Анна Николавна сообщила мне адресе квартиры, ею для нас отысканной, на углу Николаевской и Разъезжей, без контракта, 4 (1) комнаты (2 больших) 700 руб. Но я еще вчера отыскал квартиру почти подле нас, на Лиговке же, но по другую сторону Невского проспекта, ровно в таком же расстоянии от Невского, как и теперешняя наша квартира. Так что мы будем жить (2) почти на Невском. Это по другую сторону Лиговки, сейчас из вокзала взять налево, № 28, дом Ногиновой. Тут нет такой езды и грому, как теперь подле наших окошек, где с 4 часов утра везут возы на железную дорогу. Там тихо и дома все барские, красивые. (3) Квартира на дворе, но сейчас же из ворот. Прекрасный и глубокий двор. На нем еще каменный дом и флигель. Чистота и порядок. И тут же на дворе сад, с тенью, цветами, пребольшой, немного разве меньше, чем у вас в Ст<арой> Руссе у Гриббе. Детям полный вход. Это очень хорошо. Квартира в 3-м этаже, но по-настоящему она во 2-м, всего две маленькие лесенки. Подыматься не выше как теперь у Сливчанского, ни одной ступенью. Вход у Сливчанского лучше, но и здесь чистый и светлый. Затем квартира чище и новее Сливчанского, хотя дом старый и сухой. Комнат 5 и больше Сливчанск<их>. Полы паркетные. 1-я комната больше, чем зала (4) у Сливчанского, 2-я, гостиная, капельку разве менее, чем зала у Сливчанского, затем столовая, маленькая, но прекрасно устроенная, затем твоя комната не маленькая (5) и затем комната Феди. Коридор удивительно удачно расположенный. Вот, однако, план.
Из передней - коридором можно входить в столовую и через столовую или к тебе в гостиную (коридор же, повторяю, превосходен), или к тебе в спальню. Днем же через мой кабинет. Одним словом, всё крепко, всё цело, красиво и приспособлено. Анна Николавна находит, что это лучше и удобнее, чем у Сливчанского. Вся квартира больше, чем у Сливчанского. Цена 700 руб. с водою и с дворником. Жильцы в доме все люди почтенные и известные. Тишина и порядок и два шага от Невского. Заметь себе, что у Сливчанского у нас решительно нет столовой, а здесь столовая отлично расположена и сверх того для тебя много помещения. Для детей воздух лучше, места больше и сад; и нет сумасшедшего хозяина.
Есть и неудобства, но вздорные: 1) контракт на 2 года. Но это только нам же лучше, ничего нет легче, как сдать квартиру теперь в Петербурге, так и рвут. Во-2-х, все квартиры повысились в цене против прошлой зимы, и на будущий год эта квартира будет стоить уже не 700, а 800 руб.
2-е. Плата вперед за два месяца, но я думаю, что это совершенно всё равно.
Но я еще не дал задатку. Главное, трепещу, чтоб не перебили. Но если и решусь дать, то ни в коем случае не перееду раньше твоего прибытия. (NB. Контракт на счет хозяина, и квартира будет считаться лишь с 1-го августа (6) или со дня переезда, так что мы почти ничего не потеряем.)
Понимаю, что одно тяжело - это переезд. Но что же делать! Зато на два года спокойны.
Aннa Николавна поощряла дать задаток скорее.
Был у Сливчанского. Был очень вежлив, но объявил твердо, что мужиков по лестнице не пустит. Насчет же оставления ключа изменил гнев на милость и согласился, чтоб оставлять у дворников.
Итак, Аня, не знаю, решусь или не решусь. Во всяком случае я еще буду жить у Сливчанского, когда воротишься, и будем до 1-го августа. (6) Много бы надо о квартире переговорить, о чем много и долго писать. До свидания. Это только чтоб тебя уведомить. Я еще Сливчанскому ничего не говорил.
Больше писать, думаю, что не буду тебе, да и времени не будет. Жду вас 25-го или около. Анна Николавна была очень смущена долгом Ленчу. (7) Хочет ехать поскорее в Финляндию. Очень, очень жаловалась на здоровье и, главное, на усталость за всё это лето. Действительно, она, бедная, много работала, все за нянек, нет у них нянек. Целую и обнимаю тебя и детей. Благословляю в путь. Ну, дай бог, дай бог.
Твой Достоевский.
(1) далее было: больших
(2) вместо: будем жить - было: живем
(3) далее начато: Этот д<ом>
(4) было: больше залы
(5) вместо: не маленькая - было начато: немного
(6) по-видимому, описка - следует: сентября.
(7) была очень...... долгом Ленчу. зачеркнуто
Редакция помещается в Надеждинской, близко от Невского, так что близко будет от квартиры.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии)
Ее высокоблагородию Анне Григорьевне Достоевской по реке Переростице, в доме подполковника Гриббе
496. А. У. ПОРЕЦКОМУ
22 августа 1873. Петербург
22 августа/73.
Многоуважаемый и любезнейший Александр Устинович,
Метранпаж <у>жа<сн>о <?> пр<осил>, (1) чтоб написал Вам о статье "Областное обозр<ение>", ибо у них отнят <?> <конец?> нед<ели>, <2>-ой день работы, в воскресенье <, и набор надо закончить в субботу?>, в другое <время?> станки разбираются <?>. Стало быть, воскресе<нье> <поздно, доставить надо?> в субботу,
<а> еще <лучше? в> пятницу. В субботу вечером долж<но> б<ыть> <о>ко<нчание?> отпечатано. (2) <...> Хочется <?> <поблаг>одарить Вас за про<шлое обозрение> <Понравилось?> как составлено, а напи<сано очень? хорошо? как> мнение постороннего
<...> <я был у князя,> где читали вслух и пр<изнали обзор удачным?> <...> <Полагают, что?> обращают внимание <на> вопрос <...> первый почти раз (3) <...> чрезвычайно удачный обзор <...> насчет Голубова, чрезвычайно понятный и вам<?> и <каждому> <и ником>у придраться нельзя, а между тем смы<сл>
<самый?> желательный.
До свидания. Крепко жму Вашу руку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Или пришлите статью, или уведомьте.
(1) текст письма сохранился не полностью
(2) далее текст утрачен; сохранились отдельные слова: статья <...> эксп<...>, что ее
(3) далее сохранились отдельные слова: статья <...> критики (чем и всем начать бы <...> статья <?>-то). <...> таким образом это <...> <прежн?>им критериумом надо решать такие <...> пункт
497. Д. Д. КИШЕНСКОМУ
5 сентября 1873. Петербург
Среда 5 сент./73.
Милостивый государь Дмитрий Дмитриевич,
Ваше грубое письмо, совершенно для меня неожиданное, сначала очень рассердило меня. Но теперь, когда я, для справок, собрал и пересмотрел все Ваши письма ко мне, - я убедился, что между нами произошла классическая и вековечная история Жиль-Блаза с архиепископом Гренадским. Но начну по порядку, именно с денег. Ко мне так о деньгах никто не пишет, и с этой стороны меня все знают. 22 августа я выдал секретарю редакции (как всегда это делаю при расплатах иногородным) следуемую Вам сумму за Пролог. Вчера только после Вашего письма узнал от него, что он не послал 22-го, а послал 28. Секретарь г-н Пуцыкович - человек в высшей степени честный, но не всегда аккуратный. Почтамтскую расписку он обещал мне завтра же разыскать, непременно. Деньги посланы, почему не получили - не знаю и отвечать не обязан. Никто и никогда не скажет про меня, чтоб я задержал чьи-либо деньги. И после всех Ваших писем, которые принужден был сейчас перечесть, Вы, в гневе своем, не нашли ничего лучше, как (1) начать этими деньгами! И это мне-то! Вы можете сердиться на меня за всё, но ни за что не думал, что Вы этак (2) начнете.
Вы пишете:
"В прошлом письме я, кажется, ясно высказал Вам то, что я не желаю разыгрывать роль школяра и не желаю, чтоб мою драму портили под видом поправок".
Какое это последнее письмо? Последнее Ваше письмо, полученное мною, письмо от 31 июля, при посылке мне Вашей статьи "Промахи". Ничего подобного Вы в этом письме не говорили. Ничего не было в этом тоне и в прежних письмах. Да и тона такого я бы никогда с собою не допустил. Тон наших обоюдных писем был совсем, совсем другой. Такого письма у меня нет. Никогда не получал ничего подобного. Напротив, вот какое место я нашел в Ваших письмах:
"...Этого одного я не могу изменить! А остальное - делайте что угодно, многоуважаемый Федор Михайлович, только примите к сведению и мои заметки, и в сих поправках я Вам верю и, что Вы по сему законно учините, спорить и прекословить не буду!
Не шутя, я прошу еще пощады всем конечным монологам! Не хочется мне их уменьшать".
Это буквально выписка из Вашего письма от 27 июля. Потом ни в одном письме Вашем Вы не брали позволение поправок назад. Если уж так выражаетесь: "Прошу пощады всем конечным монологам", - то, значит, на большие выправки согласились. Что же Вы теперь-то мне пишете?
Я в моих письмах писал обнаженно и откровенное том, что надо исправить. Я писал Вам, что Вы пишете очень шероховато, мало того, слишком не синтаксически. Часто слишком много рассуждают не к месту и не к действию. Я переделал в прологе мелочи и очень мало. Я укоротил одно постороннее рассуждение, вычеркнул, где Гордеев чуть вошел - прямо начинает невесте о разврате (то есть два-три слова), и изменил на каплю сцену на коленях, чтобы вся она была возможнее и естественнее. (3) Мало того, везде, где мог, делал язык легче и разговорнее. Вы пишете, что я Вас исказил. Призовем экспертов по два с обеих сторон и пусть решат: исказил ли я Вас?
Но всё это теперь невозможно. Мог ли я знать заране, что Вы, доверивший мне поправки после всего, что я Вам так ясно и прямо об Вашей драме написал, - закричите при первой ничтожной поправке. Знал бы - так, конечно, и не начинал бы печатать. Я совсем иного человека видел из Ваших писем.
Что значит выражение "под видом"? "Не желаю, чтоб мою драму портили под видом поправок". Что ж, я исказил, по-Вашему, умышленно, скрываясь под каким-то видом? Я поправлял по совести, но Вы что-то подозреваете. Чем же объяснить слово под видом? Желая Вам зла, может быть? И всё это после бывших-то фактов! Да кто же этому поверит? И Вы думаете, что ничего писать такие обиды? Неужели Вы меняете людей из первой досады, как старые сапоги, и так быстро способны подумать злое о человеке, которого вчера считали своим? (Письма-то Ваши налицо.)
Вы спрашиваете самым неделикатным языком: "почему я не высылаю Вам драму". А почему Вы мне не отвечали? Я ждал ответа. Я написал Вам весьма ясно, предлагая Вам самому исправить Вашу драму: "Рукопись не высылаю, предполагая, что у Вас есть черновая или список. Но если нет - напишите, и тотчас вышлю". Зачем же Вы не написали? Я всё ждал и именно думал, не получая ответа, что у Вас оказался список. Могли прислать открытое письмо с двумя строчками, и тотчас бы выслал. Ну зачем, скажите, мне Вашу драму удерживать вопреки Вашему желанию? Оставил же я ее до Вашего ответа единственно потому, что ждал возвращения в Петербург одного человека, мнение (4) которого я очень ценю и которому Ваша первая драма нравилась. Я хотел спросить и его совета.
Что значат такие фразы с подчерками:
"Я доверил Вам единственный экземпляр рукописи "Падения", и Вы, как честный человек, обязаны возвратить его!"
Я не понимаю этого тона; не могу понять и теперь, даже от Вас. Что значит: доверил? Вы просто прислали рукопись: напечатать или нет, как все присылают. К чему воззвание к (5) честному человеку? Да зачем, скажите, я стану ее держать? Я вовсе не считаю ее за драгоценность и слишком ясно Вам об этом писал. Да и драгоценность ни за что не стал бы держать после того, что из-за (6) нее перенес!
Р. S. Я вполне желаю, чтоб Ваша драма имела полный успех (на сцене, например). Последнее пожелание! (7)
(1) далее было: попрекать
(2) ранее было: этим
(3) вместо: возможнее и естественнее - было: хоть как-то естественна
(4) в подлиннике описка: мнением
(5) было: как
(6) было: от
(7) текст: Р. S. Я вполне...... пожелание! - вписан на полях
498. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
14 сентября 1873. Петербург
Любезный друг Коля,
Если пришлешь ко мне Наталью, то у меня есть для тебя руб. 10 на случай, если ты нуждаешься или нездоров. Я тоже болен и очень занят. На прошлой неделе лечился и не выходил из дому, был в лихорадке.
Обнимаю тебя, голубчик.
Твой Ф. Достоевский.
14 сент<ября>/73.
499. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
15 сентября 1873. Петербург
Люб<езный> Александров, вместо 250 строк я написал, кажется, до 500. Уменьшить ничего не могу. Как же быть? Непременно надо найти место и решить поскорее. Выбросить статью всегда можно, но можно ли при этом сохранить и прежнее расположение? Вынув, например, "Железные дороги"?
Если же нельзя, то есть: "Еженед<ельная> хроника", "Иностранные события", "Петербургское обозрение" и т. д., то нельзя ли мою или Пуцыковичеву статью пустить в другом месте?
Одним словом, поймите, что я непременно должен Вас видеть. Приезжайте на извозчике, я заплачу. Как хотите, нельзя иначе.
В<аш> Достоевский.
15 сентября.
На обороте: Г-ну Александрову.
Очень важное.
500. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
16 сентября 1873. Петербург
Люб<езный> Александров, я из корректуры кое-что исключил, но, полагаю, не нарушил Ваших расчетов. И в этом виде более 400 <строк>.
Все вычеркнутые строки исключить непременно.
Прошу Вас очень доставить прилагаемую при сем записку князю. Очень нужное.
Ваш Достоевский.
(Я поправлял по князевой же корректуре.)
501. M. П. ФЕДОРОВУ
19 сентября 1873. Петербург
Петербург, 19 сентября/73.
Милостивый государь Михаил Павлович,
Простите великодушно, что слишком долго не отвечал Вам. Сначала, после первого письма Вашего, отметил было места в комедии, чтоб их хоть капельку поправить; но всё был в раздумье и не решался. А потому и медлил ответом. Теперь же, после второго письма Вашего, был болен и даже лежал, а между тем должен был исполнять и занятия по редакции, так что до сих пор почти не было минуты, чтоб Вам ответить.
Вот что скажу я Вам окончательно: я не решаюсь и не могу приняться за поправки. 15 лет я не перечитывал мою повесть "Дядюшкин сон". Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще, и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии - мало содержания, даже в фигуре князя, - единственной серьезной фигуре во всей повести.
И потому как Вам угодно: хотите поставить на сцену (1) - ставьте; но я умываю руки и переправлять сам ни одной строчки не буду. Кроме того, об одном прошу настоятельно и обязательно: имени моего на афише чтобы не было, то есть "переделано из повести "Д<ядюшкин> с<он>" господ<ина> Достоевского" или в этом роде, - прошу Вас, чтобы не было выставлено. Если же непременно надо, просто напишите: "Переделано из повести". Только чтоб не было моего имени.
Конечно, лучше бы было совсем ее не ставить. Вот мой совет. Но так как я уже дал Вам слово вначале, а Вы употребили труд, то уже нечего делать: всё в Вашей воле.
Замечу только одно и то мимоходом: кажется, нет пропорции в величине актов? Посоветовались бы Вы в Москве с кем из актеров, знающих сцену практически (я тоже ведь никогда ничего не писал для сцены), и во всяком случае хорошо бы сократить. Что еще идет в повести, не пройдет на сцене. Сцена не книга. А потому чем больше сокращений, тем бы, мне кажется, лучше.
Рукопись у меня. Не высылаю, полагая, что у Вас, конечно, есть список. Если же нет, напишите. Тотчас же вышлю.
Примите уверение искреннего моего уважения.
Вам преданный Федор Достоевский.
(1) далее было начато: де<лайте?>
502. H. H. СТРАХОВУ
27 сентября 1873. Петербург
Четверг 27 сент<ября> 73.
Любезнейший Николай Николаевич,
Вы, верно, забыли о двух №, обещанных Вами для "Последней странички" (из газеты: "наплевать на этих господ"). А между тем "Последняя страничка" составлена именно ввиду этих 2-х №. Таким образом, типография задержана: нельзя ни набрать, ни сверстать статью. Сделайте милость, доставьте же поскорее (ведь это только несколько строк!) в редакцию. Вы не поверите, как это важно в общей типографской работе! Притом если теперь не доставите, то на следующую неделю будет уже поздно - застареют выписки из газет.
Ваш весь Ф. Достоевский.
503. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
28-30 сентября 1873. Петербург
Любезнейший Александров. Вот моя статья. Сейчас после нее, то есть после 8-й странички, где в конце поставлена черта и буква Д., начать печатать телеграммы (то есть с 9 страницы). А с 13-й, тем же порядком, перепечатать приложенные вырезки телеграмм из газет (по номерам на вырезках). Кажется, во всей статье, с телеграммами, по расчету моему, не менее 400 строк. В таком случае напечатайте телеграммы петитом. Но - авось найдется место. Я предполагаю сделать сокращение в объявлении о подписке и в хронике.
Ваш Достоевский.
На обороте: Г-ну Александрову.
504. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
28-30 сентября 1873. Петербург
Г-ну метранпажу Александрову.
Эту статью набирать немедленно, вставим 1/4 листа и пустим ее, а не "Из Москвы", которая останется до следующего 41-го №. Иначе нельзя. Корректуру к г-ну Филиппову, Кирочная (на углу Знаменской) - дом № 17 (Китнера), кв. № 4.
Да придите ко мне, Александров, завтра в 2 часа. Нельзя иначе.
505. В. П. МЕЩЕРСКОМУ
2 октября 1873. Петербург
Втор<ник> 2 окт<ября>/73.
Многоуважаемый князь, посылаю Вам маленькую статейку одного офицера с просьбою прочесть ее поскорее, если возможно. Всего 200 строк. Это не рассказ даже, но всего только картинка, и как картинка только - она очень бы могла быть помещена в этом № "Гражданина", ибо верно и, кроме того, такие рассказики читаются с удовольствием, не отрываясь. Бытовая сторона богатых повес офицеров, кажется, схвачена верно. Посылаю же Вам единственно для того, что Вам, может быть, больше известны подробности этой жизни, то есть рулетка, Сакристья и проч. Завтра я у Вас ее возьму с Вашим мнением и, может быть, отправлю в типографию - если подыщу, рядом с этим, другой рассказик, строк в 400 у г-жи Лободы (имею в виду), но уже совсем другого, почти трагического содержания. Таким образом, два рассказика, оба в 650 строк, будут, и очень возможно, в №, тогда как один только рассказ офицера, по чрезвычайной своей легкости, не мог бы пройти в "Гражданине".
Ваш весь Ф. Достоевский.
506. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
4-6 октября 1873. Петербург
Люб<езный> Александров,
В моей статье вышло 650 строк или даже немного более, сократить не могу. Прилагаю письмо к князю и прошу его, чтобы сократил свое "Петерб<ургское> обозрение" на 150 строк. Письмо поручаю Вам и прошу Вас доставить ему немедленно и, если можно, лично.
В "Последней страничке" я отчеркнул 2 анекдота (24 строки). Это значит их выбросить. Если пойдете к князю, сообщите ему. Я тоже и об этом ему писал.
Теперь 1/4 8-го утра. Буду спать до 2-х часов. Сверстку подпишу мигом, но раньше 2 не приносите.
Доставьте же письмо.
В<аш> Достоевский. (1)
На обороте: Г-ну Александрову.
(1) на полях письма зачеркнутые пометы: Письмо Федорову. Вывеска. Статейка Пелешевского (отложить к Шторху, Войгачу и проч.).
507. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
23 октября 1873. Петербург
Октября 23/73.
Милостивый государь Константин Петрович,
В квартире редакции живет один писарь; ему, без означения, разумеется, Вашего имени, и дана Ваша статья для переписки. Завтра она, переписанная чужой рукой, поступит в типографию. В типографии же Вашу руку знают еще с прошлого года, и именно корректорша, которая имеет в городе некоторые литерат<урные> сношения (с "От<ечественными> записками", наприм<ер>). Таким образом, никто не будет знать на этот раз, что статья Ваша, кроме меня и секретаря редакции. В корректуре же я буду сообразоваться с собственноручным Вашим текстом, который останется у меня.
А засим имею честь быть покорнейшим слугою.
Ф. Достоевский.
508. В. П. МЕЩЕРСКОМУ
1-3 ноября 1873. Петербург
Любезнейший князь, Ваш ответ "С<анкт>-П<етербургским> ведомостям" очень мило и дельно написан, но резок, заносчив (хочет ссоры) и - может быть, тон не тот. Вместо насмешливого тона не лучше ли спокойный, ясный? Я именно так думаю: больше будет достоинства. А потому и посылаю Вам мой ответ. Тут включено кой-что из Вашего. Но я мог наделать ошибок; а потому просмотрите, пожалуйста. Я очень бы желал, чтоб Вы согласились на мою редакцию. Если найдете нужным - поправьте, ради бога. (1)
Ваш весь Ф. Достоевский.
NB. Я бы кончил на 3-й страничке словом: чем же мы виноваты? (2) Написанное на 4-й страничке и отмеченное мною чертой - необходимо ли? Я бы очень желал кончить на 3-й страничке и зачеркнуть всё на 4-й. "С<анкт>-П<етербургские> вед<омости>" нас целый почти год не трогали: обойдемся, на первый случай, как можно мягче, потом все-таки можно будет ответить.
(1) Если найдете...... ради бога. приписано позднее
(2) вместо: чем же мы виноваты? - было: полезного.
509. В. П. МЕЩЕРСКОМУ
3-4 ноября 1873. Петербург
Из типографии.
Многоуважаемый князь, на Вашу обделку ответа "С<анкт>-П<етербургским> ведомостям") - я вполне согласен, это очень ловко; всё то же сказано, но несравненно неотразимее, чем в виде прямого обвинения (которому никто из читателей и не поверил бы, так что во всяком случае, с нашей стороны, был бы холостой заряд).
Но 7 строк о надзоре, или, как Вы выражаетесь, о труде надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора (1) и сверх того - дети. Губить себя я не намерен. (2)
Ваш Ф. Достоевский.
(1) далее было: и репутация (2) далее было: Кроме того, Ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и возмущает мое сердце. Приписываю и хочу приписать Вам <как?> раз теперь - да и <нрзб.> приписать <?> иначе?
510. M. П. ПОГОДИНУ
12 ноября 1873. Петербург
Многоуважаемый Михаил Петрович,
Простите, что не сию минуту Вам отвечаю. Но каждый раз; к концу недели бываю очень занят и не имею времени даже для себя, на свои домашние дела.
За статью "Сусанин" "Гражданин" Вам весьма благодарен. Я пускаю ее в двух №, так как для одного номера она длинненька. И уж, само собою, не оставалось времени посылать корректуру в Москву. Если б, впрочем, она была потщательнее переписана, то не могло бы быть ни малейшей ошибки в корректуре, потому что, когда надо, и в "Гражданине" сумеют продержать корректуры хорошо. Но в Вашей рукописи много небрежностей: не знаешь, как читать иные имена, и до сих пор я не знаю: Щекатов или Щекотов, о или а? А справляться с "Вестником Европы" (1) - большие хлопоты. Так как у нас в журнале нет единого главы, то отзывается и при издании: библиотека редакции не всегда под рукою и всегда почти растаскана по рукам.
Вы мне пишете о №№ журналов и говорите, что не можете их допроситься. Уверяю Вас, что я, нижеподписавшийся, здесь ни при чем; я составляю №, читаю статьи, переделываю их и изредка пишу сам - вот моя работа. Что же до всего прочего, то если б я и захотел, - не могу о том иметь понятия.
Вы весной присылали иногда в "Гражданин" сердитые письма. Повторяю Вам, они до меня и касаться не могли. Вся хозяйственная и распорядительная часть не на моих руках, если б я и захотел тут что-нибудь сделать, то не мог бы.
О требованиях Ваших сообщил секретарю и Мещерскому. О статье о Кохановской говорил секретарю и не забуду о ней и сам. Найдется - вышлем.
Вы спрашиваете: что я делаю?
Я всё хвораю и всё из себя выхожу. Локти у меня несколько связаны. Принимаясь за редакторство, год тому, воображал, что буду гораздо самостоятельнее. От этого лишаюсь энергии к делу. Майков здоров, благодушествует и Вам кланяется.
Ваш весь Ф. Достоевский.
12 ноября/73.
В статье Страхова есть иные места, которые могли бы быть иначе написаны. Да он и сам соглашается.
(1) было: "Русским вестником"
511. H. A. ЛЮБИМОВУ
13 декабря 1873. Петербург
Декабря 13/73.
Милостивый государь Николай Алексеевич,
Во-первых, позвольте мне засвидетельствовать Вам мое уважение, а во-2-х, разъяснить одно обстоятельство. Чуть не с месяц назад отправил я в редакцию "Русского вестника" одну рукопись - название, кажется: "Болезнь нашего времени". Но, намереваясь написать Вам, не снабдил посылку никаким объяснением. Затем занемог, захлопотался и вот только теперь могу объяснить Вам всё этим письмом.
Эта рукопись - повесть (около 4 1/2 печат<ных> листов "Р<усского> вестника") г-жи Прибытковой, живущей в Москве. Почти год назад она доставила ее в "Гражданин". По неопытности я принял и дал обещание напечатать. Но скоро увидал, что она займет по крайней мере 10 № "Гражд<анина>" (сряду). Такую рассрочку наше маленькое издание принять не может на себя. Одним словом, произведение такой величины в "Гражд<анине>" не может найти место.
Между тем повесть я читал внимательно: она весьма недурна. Конечно, не блестит художественными достоинствами, но умна бесспорно и не хуже никакой женской работы наших современных писательниц. Насчет цены г-жа Прибыткова готова довольствоваться и малою платой, но, кажется, намерена попросить хоть малую часть вперед, в случае если Вы повесть ее не отвергнете.
Я на прошлой неделе говорил об этой повести Михаилу Никифоровичу и уведомил его, что послал ее к Вам на Ваше решение.
Примите, многоуважаемый Николай Алексеевич, изъявление чувств моего глубочайшего к Вам почтения.
Ваш покорный слуга Ф. Достоевский.
Р. S. Рукопись препроводил я в "Русский вестник" с согласия и по просьбе г-жи Прибытковой.
512. В. В. ТИМОФЕЕВОЙ
5-16 декабря 1873. Петербург
Многоуважаемая Варвара Тимофеевна. (1) Особенно прошу Вас поправить эту статью, сообразно с моими поправками. Как только дело касается этого автора, так тотчас у Вас неразобранные слова, выкидки целых фраз или повторения двух фраз сряду и проч. Вы мне сделаете особое удовольствие, если исполните мою просьбу.
Ваш Достоевский.
(1) описка, следует: Васильевна
513. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
18 декабря 1873. Петербург
18 декабря/73.
Любезный друг Коля, у меня самого нет 10 р. Посылаю тебе 3 руб., то есть почти половину всего, что имею. Хотел было лечиться сжатым воздухом и отлагаю леченье, потому что денег нет. Может быть, накануне праздника будут; тогда поделюсь.
До свидания, милый, обнимаю тебя, дай тебе бог здоровия.
Твой Ф. Достоевский.
514. А. У. ПОРЕЦКОМУ
1873. Петербург
<...> (1) Вы напрасно не <использовали?> и всяких губернских ведомост<ей,> у Вас не <хв?>ата<ет?> <фактов для?> "Областног<о обо>зрени<я>".
От 12 до 3-х всегда в <редакции> кто-нибудь <есть,> секр<етарь, например?>. <Если Вы?> заедете за <газетами?>, то Вам тотчас <выдадут.> Если же, заедет<е в другое время?>, то всегда может<е застать корректора?> Я его предуведо<млю, и он?> выдаст всегда всё что <нужно> из газет. <...> (2)
Мой адрес (на всякий с<лу>ча<й>: Гусев переулок, дом № 8, кварт<ира 17>.
Ваш весь Ф. Достоевский.
(1) текст письма сильно поврежден (2) далее сохранились обрывки слов: или <?> Вы пос<етите?>
1874
515. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
3 января 1874. Петербург
Любезнейший Михаил Александрович, я корректуру "Сельских школ" отсмотрел, но если есть хоть какая-нибудь возможность выбросить эту статью теперь, то выбросьте. Избавьте меня от нее. <Князь> отдал, не читая сам, я знаю. Завтра (в пятницу) Вы уж, конечно, получите что-нибудь от <князя>, (1) да и сам он, может быть, приедет. Тогда набирайте его роман вместо этой статьи, или посылаю вам на всякий случай "Корреспонденцию из Корфу" (если будет еще время набрать). Хотя эта "Корреспонденция из Корфу" вовсе не хороша, но все-таки в 100 раз лучше "Сельских школ". Я, впрочем, желал бы не набирать Корфу. В самом крайнем случае можно было бы пустить "Сердечный метод", если он не разобран, но только в самом крайнем случае. Но если уж никак нельзя, то пустите "Сельские школы". Только я буду болен от этого.
Достоевский.
516. О. Ф. МИЛЛЕРУ
4 января 1874. Петербург
Милостивый государь Орест Федорович,
К величайшему моему сожалению, я теперь уже не могу решиться напечатать Вашу статью - и, конечно, против моего желания. Меня как редактора призывали на днях в Цензурн<ый> комитет и внушали, что про голод хотя и можно писать и печатать сообщенные факты, но без тенденциозности в известную сторону и чтоб не было "алярмирующего". Об этом внушении сообщаю Вам секретно.
Но, перечтя Вашу статью, печатать ее боюсь. К тому же, во всяком случае, придется опять кое-что из статьи выкинуть. Что ж из нее останется?
Очень сожалею, что так затянулось, но без моей вины. Простите тоже за помарки в рукописи: она уже была в наборе, из чего можете заключить об искренности слов моих.
Примите уверение в совершенном моем уважении. Ваш покорнейший слуга
Федор Достоевский.
4 января 74.
517. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
24 января 1874. Петербург
Г-ну метранпажу Александрову.
Любезнейший Михаил Александрович.
Посылаю Вам статью Филиппова (начало) - 2 листа. Завтра около полудня будет еще два таких же листа, и послезавтра, в субботу, тоже около полудня будет еще 2 листа.
Стало быть, всего будет с полученными Вами "Панихидой" и проповедью около 1200 строк Филиппова.
Поместить надо всё зараз в одном №, и нельзя иначе.
Поместить эту теперь присылаемую третью статью, то есть "Воспоминания о графе", сейчас вслед за имеющеюся у Вас проповедью.
Корректуру Филиппову прислать не в сверстке, а в листах (то есть 2-ю), ибо могут быть исправления.
Полагаю, что надо будет выкинуть статью "Неопределенные побуждения", которая у Вас уже набрана. Так и будет. (1)
Посылаю еще 2 стихотворения А. Н. Майкова. Прошу набрать сейчас же, как есть.
Зашли бы Вы ко мне. Если есть что особенное (не приехал ли князь), то зайдите хоть и сегодня, а то так и завтра в 1 час пополудни. (2)
Ваш Ф. Достоевский.
24 января.
(1) далее помета Достоевского: на обороте
(2) текст: Если есть что...... пополудни. - вписан
518. H. H. СТРАХОВУ
9 февраля 1874. Петербург
Многоуважаемый и любезнейший Николай Николаевич,
Анна Григорьевна, свидетельствуя Вам свое почтение, объявляет, что по поводу праздников она принуждена объявить себя несостоятельною принять Вас завтра в воскресенье, о чем я и приехал возвестить Вам, вырвавшись прямо из сжатого воздуха, в котором каждый день отсиживаю теперь по 2 часа. Замечу, что домой возвращаюсь и обедаю дома уже в 8-м часу, и так будет недели 2 или три.
Очень бы желал, однако же, Вас как-нибудь увидеть. Никак не предполагал, что Вы живете всё еще в доме Калугина.
Вам совершенно преданный
Ф. Достоевский.
519. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
9 февраля 1874. Петербург
9 февр./74.
Милый друг Коля, посылаю тебе 5 руб. Дела мои довольно плохи. Но извещаю тебя, что завтра (наверно) воротится из Москвы Корш и привезет тебе часть твою за проданный в Туле дом и сообщит тебе все счеты. Я это узнал сегодня от Полякова. Получить приходится всем до безобразия мало, за огромными расходами и взносами казне и проч. Во всяком случае получишь от Корша (от 400 до 500 р.). Полагаю, не менее. И это получишь завтра, следственно, приготовься. Да вот что: не худо бы не разговаривать в доме; узнает сестра, что ты получил, и на тебя рассердится. В понедельник в суде ее с нами дело. Сумасшедшая! Если б знала она, какие ничтожные двугривенные мы получаем. Сосчитал сейчас все издержки за год по этому делу, сколько сам выдал своими руками - и что ж, полученные за дом 400 с лишком рублей не окупили еще издержек. А она, не имея ни малейшего права законного, требует с нас 20000. Воистину сумасшедшая. А уж какая родственница - и говорить нечего. До свидания.
Твой весь Ф. Достоевский.
На конверте:
<Его вы>сокоблагородию Николаю Михайловичу Достоевскому со вложением 5 руб. (1)
(1) конверт поврежден
520. M. A. АЛЕКСАНДРОВУ
21 февраля 1874. Петербург
Любезнейший Михаил Александрович, статьи моей к этому № не будет, а стало быть, пойдет - Верещагина.
А об стихах скажите князю, которого Вы увидите раньше меня, - то есть насчет строк, так как у нас выходит лишнее. Он и решит Вам этот пункт, сообразуясь с своими статьями.
Ваш Достоевский.
21 февраля/74.
521. А. Ф. КОНИ
Февраль 1874. Петербург
Милостивый государь Анатолий Федорович,
Позвольте мне от души поблагодарить Вас, во-первых, за отмену распоряжения о моем аресте и, во-вторых, за лестное для меня слово, написанное Вами обо мне в письме к многоуважаемой и добрейшей г-же Куликовой, с которою этот случай дал мне большое удовольствие ближе познакомиться.
Но Вам надо точнее знать о том, когда я буду в состоянии исполнить требуемое. В настоящее время я, кроме всего, езжу каждодневно лечиться сжатым воздухом, но полагаю, что к марту, может быть, и кончу лечение. А потому, если не станет это вразрез с Вашими соображениями, я, кажется, совершенно (и во всяком случае) буду готов исполнить приговор в самых первых числах марта.
Впрочем, если по каким-нибудь соображениям надо будет и ранее - то я, без сомнения, всегда готов. И того слишком довольно, что я теперь, на эти несколько дней, избавлен Вашими стараниями, за что еще раз позвольте отблагодарить Вас.
Примите уверение моего искреннего и глубокого уважения. Ваш покорный слуга
Федор Достоевский.
522. В. П. МЕЩЕРСКОМУ
1 марта 1874. Петербург
1 марта/74.
4 часа пополуночи.
Милый, любезнейший и многоуважаемый князь, ради бога, не считайте, что я беспрерывно желаю с Вами грызться и Вам противоречить по журналу. Возьмите лишь в соображение и могущее во мне образоваться настроение и мой личный взгляд и тогда поймете, что я не могу же не заявить моего мнения в деле, столь прямо касающемся и меня.
Я по поводу письма Полонского. Не понимаю Вашего характера: Вы говорили мне сами, что это так "мило (1) написано". Между тем это самая грубая нападка (2) на Вас, самое грубое искажение Ваших мыслей - искажение, в котором даже, может быть, есть и умысел, а не одна только современная грубость и тупость понимания современного дешевого (3) либерализма, к которому так многие прибегают из выгоды (начиная с свиньи-Тургенева и кончая вором Пальмом). Полонский пишет: "Вот если б вы написали про А, про Б, про Д, указали нам, назвали их, тогда и т. д.". Это самый нечестный прием, по моему мнению. Кто же такой прямой доносчик, чтоб указывать на всех поименно. Ведь я, например, ужасть как хотел написать про Ольгу Иванову, из процесса о подделке Тамбовских акций, как про тип бессознательно-въевшейся нигилятины, в самом отвратительном и полном виде, в девчонку, которая, может быть, и не слыхала никогда про нигилизм, - и указать на нее как на знаменье времени, да я же затруднился и нашел невозможным тащить ее на суд общества. Как же он требует указаний (то есть доносов правительству) на А и на Б, когда они, кроме осрамления, могли бы лишиться вследствие доноса вашего мест своих и даже попасть под дальнейшее гонение. Можно указывать на А и Б и прямо, но в том-то и беда, что при случае лишь, например, когда само правительство уже указало его, потянуло в суд и осудило, как Колосова, в вышеупомянутом процессе. (4) Вот какие иезуитские вещи в возражении Полонского. В этом возражении всё извращено и искажено. На две строки три нелогичности, а между тем написано в победном тоне, а Вы печатаете.
Может быть, Вы ответите в письме "Хорошенькой женщины". Я бы желал этого! От всего моего сердца! (5)
Но согласитесь, любезнейший князь, каково мне помещать такую пасквиль на нас и на журнал наш в нашем же журнале.
И потому я нашел нужным совершенно устранить себя в дальнейшем споре да и теперь сделать оговорку. Прочтите, пожалуйста, мою оговорку, сделанную на корректуре. Я не стою за каждое в ней слово. Надеюсь только, что Вы не найдете ее в чем-нибудь задевающею Вас как писателя. Если что найдете сообщите для разъяснений. Вы не поверите, как раздражило меня это дешево-либеральное возражение Полонского.
Крепко жму Вам руку.
Ваш Ф. Достоевский.
P. S. Я сейчас вычеркнул часть моей оговорки. За то уж попрошу Вас самих передать Полонскому, что не желаю, чтоб он меня затрогивал как редактора, - не то буду отвечать сам, но уже по-своему. (6)
Д.
(1) было: легко
(2) вместо: самая грубая нападка - было: самое грубое нападение
(3) было: грубого
(4) далее было начато: и на которого, вследствие того, нашел возможным
(5) От всего моего сердца! вписано
(6) далее было: и может быть даже не <нрзб.>
523. Г. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ
7 марта 1874. Петербург
Григорию Фомичу.
Многоуважаемый Григорий Фомич, примите вексель и прошу Вас выдать 100 экземпляр<ов> "Идиота".
Весь Ваш Ф. Достоевский.
524. И. А. ГОНЧАРОВУ
7 марта 1874. Петербург
Марта 7-го 1874.
Многоуважаемый Иван Александрович,
Простите великодушно, что так много утруждаю Вас - всё по поводу того же моего маранья в "Складчину". До сих пор я всё ожидал корректуры, - так как значительное время прошло - и вдруг вчера, в первый раз, узнал от В. П. Мещерского правило, принятое в редакции "Складчины", о том, что авторы, желающие корректировать сами, приписывают о том на рукописи доставленной статьи. У меня же на рукописи ничего не выставлено, а потому боюсь, что обошлись без меня, прокорректировали, сверстали и, может быть, уже отпечатали, и теперь мне уже не видать авторской корректуры как своих ушей. Вся моя чрезвычайная просьба к Вам, многоуважаемый Иван Александрович, спросить у тех, кто этим заведует, в каком положении мое дело и можно ли мне прислать корректуру? Если же я уже опоздал, то нельзя ли хоть оттиск, даже в гранках, если еще не сверстано, прислать ко мне, чтобы, по крайней мере, я мог видеть сделанные ошибки, а по неразборчивости моей рукописи предвижу, что ошибки быть должны. К Вашему же посредству обращаюсь потому, что на Ваши слова обратят, наверно, более внимания, чем на все письма, которые бы я написал в редакцию "Складчины". Да и письмо мое могло бы там пролежать некоторое лишнее время. Знаю, что поступаю, обращаясь к Вам, весьма эгоистически, и потому еще раз прошу Вашего извинения.
Поручая себя Вашему благорасположению, прошу верить искреннейшему моему уважению и таковой же преданности.
Ваш слуга Ф. Достоевский.
Адрес мой: Лиговка - Гусев переулок, дом № 8 (Сливчанского). Квартира № 17.
525. И. А. ГОНЧАРОВУ
Вторая половина марта 1874. Петербург
Милостивый государь,
В газетном объявлении о скором выходе сборника "Складчина", три дня тому назад, при перечислении имен всех авторов, принявших в нем участие, пропущено лишь одно мое имя. Если это сделано только по ошибке, то прошу Вас, в будущих публикациях, поместить и меня в числе авторов, доставивших в "Складчину" свои труды.
Покорный слуга Ф. Достоевский.
526. С. М. ЛОБОДА
10 апреля 1874. Петербург
В "Складчине" Вашей статьи нет; рукопись же не у меня, а, вероятно, там, куда Вы ее доставили. Я в редакции "Складчины" не участвовал. Полагаю, что пропасть не может.
Ваш глубокоуважающий Ф. Достоевский.
10 апреля/74.
527. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
25 апреля 1874. Москва
25 апреля. Четверг.
Спешу тебя уведомить, голубчик Аня, что я в Москву приехал вовремя, но несмотря на то, что ехать было довольно удобно и спалось, я все-таки весь разбит, голова тяжела и почти лихорадка. Полагаю, что это всё еще вследствие не прошедшего совершенно припадка. Сегодня никуда и не пойду. Письмо пишу, чтоб уведомить, а то и шевельнуть языком, не только пальцем, не хочется.
Надеюсь отлично выспаться ночью и завтра встать совсем здоровым.
Здесь хоть и ясно, но так же почти холодно, как и у нас. Деревья голые; в вагонах встретил Мещерского. Верочка только что уехала в Даровое, Соня, Машенька и часть детей в Москве.
Завтра, твердо уверен, окончу дела (то есть получением отказа) и как можно поскорее вернусь.
Не думаю, чтоб затянулось дело.
Извещай меня о всем характерном. Очень может быть, что завтра напишу. Может быть, в воскресенье выеду. Если можно, то уведомлю раньше. Завтра решится.
До свидания, целую тебя.
А пока твой Ф. Достоев<ский>
528. Л. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ
25 апреля 1874. Москва
Милая Лиля, папа тебя очень любит и пишет тебе из Москвы.
Веселись и играй, а я об тебе думаю и тебя целую.
Твой папа.
25 апреля/74.
529. Ф. Ф. ДОСТОЕВСКОМУ
25 апреля 1874. Москва
Милый Федя,
дорогой мальчик, целую тебя крепко, веселись и играй.
Твой папа.
25 апр<еля>/74.
530. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
26 апреля 1874. Москва
Апрель 26, пятница/74.
Милая Аня, напишу только два слова. Письма от тебя сегодня не получил, а между тем уже 8 часов вечера. В таком случае и мое вчерашнее, пожалуй, не получишь вовремя. Хотелось бы что-нибудь прочесть о детках. Катков был очень любезен и просил отложить ответ до воскресения. Ясно, что хочет посоветоваться с Леонтьевым. Но не думаю, чтоб согласился, хотя я его, по-видимому, и не удивил: сам мне сказал, что Мельников тоже 250 руб. просит. Боюсь, что на 250 согласятся, а на выдачу вперед не решатся. (Может денег не быть.)
О подробностях до свидания. (1) Из Москвы, конечно, еще что-нибудь напишу, но выеду, стало быть, не раньше понедельника. Не хотелось бы замедлить еще позже; здесь мне очень скучно. Целую детишек. Пиши о них подробности. Целую тебя очень. Сегодня я здоров совершенно, кроме очень сильного насморка. Удивительно мне, что здесь и горлу моему легче.
До свидания. Целую вас всех еще раз.
Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: Може<т>
531. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
5 мая 1874. Петербург
Любезный брат Коля, приписываю от себя. Прошу быть завтра непременно, иначе не знай меня вовсе. (1) Да и срамно будет с твоей стороны уж очень бояться твоего Жеромского. Ведь не может же быть, чтобы ты хотел с меня получить по этому векселю сам.
Если ты не болен в такой степени, чтобы рисковать здоровьем, то приезжай, прошу тебя. Из-за мелкого расчета ты поставишь меня в огромное затруднение.
Твой Ф. Достоевский.
6 (2) мая/74.
(1) далее было: Я тебе не брат.
(2) ошибка в подлиннике, следует: 5
532. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
12 мая 1874 <?>. Петербург
Колюшка!
Приходи завтра, то есть в понедельник, к нотариусу Нитославскому, что на Садовой против Гостиного двора. Соберемся часов около 7. Не опаздывай.
Твой весь Ф. Достоевский.
533. И. С. ТУРГЕНЕВУ
5 июня 1874. Петербург
Случайно узнав сегодня в лавке Базунова о Вашем приезде (1) в Петербург, а так как завтра сам я выезжаю из Петербурга, то и упросил князя (2) Владимира Петровича, встретясь (3) с ним, передать Вам те пятьдесят талеров, которыми Вы одолжили меня еще (4) в 65 году, по моей чрезвычайной просьбе из Висбадена.
Возвращая этот долг с глубочайшею (5) благодарностию, я в то же время не нахожу ни одного аргумента в оправдание такой поздней отдачи. (6) Замечу, что я почти (7) до самого последнего времени не мог вспомнить (8) точную цифру полученной от Вас мною в Висбадене суммы, то есть 100 ли талеров или 50, что, разумеется, не только (9) не может послужить к моему оправданию, но еще и усугубляет вину мою. (10) И только лишь месяца два тому назад, разбирая старые бумаги, (11) нашел между ними и Ваше тогдашнее (12) письмо, в котором и обозначена высланная сумма, то есть пятьдесят талеров.
Во всяком случае прошу Вас принять изъявление моего глубочайшего уважения.
Ваш покор<ный> слуга.
(1) было: прибытии
(2) князя вписано
(3) было: встретившись
(4) еще вписано
(5) далее было: к Вам (6) далее было: а. Иногда, когда случа<йно?> б. Правда
(7) почти вписано
(8) вместо: не мог вспомнить - было начато: не помни<л>
(9) вместо: не только - было: нисколько
(10) вместо: и усугубляет...... мою - было: более обвиняет меня
(11) было: письма
(12) тогдашнее вписано
534. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
6 июня 1874. Петербург
Петербург. Четверг 6 июня 74.
Милый друг Аня, расстался я со всеми вами, и мне смерть грустно. Стою уже второй день в сквернейшем (как оказалось) Hotel Dagmar, а в скверной моей комнате мне мерещатся детки и ты. С дороги же особенно расстроены нервы. Ну вот тебе отчет по порядку.
Вчера приехал в Петербург сонный и решительно исковерканный дорогой и дремотой сидя. В Dagmar остановился потому, что подвернулся первый из Dagmar на станции. Тотчас же, выпив их ужасного чаю, отправился по делам. В редакции узнал, что князь еще в Петербурге, и получил 6 руб. за два "Идиота" (больше не продано). Затем отправился в Общ<ество> вз<аимного> кредита, где Миша уже ждал меня и тотчас же сам отдал мне 2 золотых. Но билета в Вз<аимном> кредите заложить оказалось невозможным, ибо надо быть членом Общества. (Кстати, Шевяков поглядел на меня и даже головой не кивнул; я, разумеется, также.) Но Миша предложил немедленно отправиться с ним в Волжско-Камский банк и заложить там. В Волжско-Камском банке дело тотчас уладилось, и отчасти благодаря книгопродавцу Надеину, который подвернулся тут в банке, по своим делам, и отрекомендовал меня одному чиновнику, по словам Надеина, "обожателю моих произведений". Заложил я от своего имени. Копию с обязательства, выданную мне, я оставил на сохранение, пока буду за границей, у Миши. Полагаю, что это безопасно и ты не рассердишься за это: заложено на мое имя, при свидетелях, и по возвращении из-за границы я успею взять копию от Миши. Срок до 5-го сентября, то есть на три месяца; за вычетом % получил всего 117 р. 50 к. Впрочем, если хочешь, я напишу Мише, и он тебе перешлет Копию с обязательства в Ст<арую> Руссу. Но, по-моему, не надо. Миша рассказал мне что в "С<анкт>-Пет<ербургских> ведомостях") пущено объявление Корша и Полякова (впрочем, без их подписи) о продаже Рязанского имения. Сегодня в четверг есть оно и в "Голосе", достань и прочти. Объявление короткое, но пышное: покупатели приглашаются узнать о подробностях или на Литейную (вероятно, к Коршу), или в Павловск, в Солдатскую слободку, дом Толмачевых. Миша слышал откуда-то странное известие, что будто хочет купить Губонин (в этой железной дороге имеющий участие) и что ему наши предлагают по 80 р. десятину, все 5000 десятин, и он не прочь. Верно, слух какой-нибудь пустой, но было бы уже слишком великолепно. - Надеин ужасно (до невероятности) увивался за мною, чуть не молился на меня, так что странно было, и предложил мне положительно издать полное собрание моих сочинений, уладив все дела по денежным расходам издания, и всё только из 5%, и как только он их выберет, то всё издание будет принадлежать уже мне. Я ничего не ответил и сказал только, что дам ответ по возвращении из-за границы; он остался очень, кажется, доволен, что я не отказался формально. Об этом, право, можно подумать; впрочем, как ты решишь, так и будет. Мне кажется (по некоторым данным), что всех их, книгопродавцев, взволновали несколько три статьи обо мне Ореста Миллера в "Неделе", в результате очень хвалебные. Но обо всём этом после. - Затем поехал к банкиру Виникену, и там мне дали на Берлин (а не на Эмс, ибо там нет таких банкиров) перевод. Я перевел 450 руб. за 417 талеров и сколько-то грошей. Остальные деньги часть променял на наполеондоры (15 штук), а часть русскими кредитками оставил пока на дорожные расходы. Затем был у Бунтига, и он переставил пружины. Затем заехал к Губину, не застал дома, но узнал, что придет домой вечером. Затем был у Страхова и застал у него Майкова, который по поводу среды (Комитет) приехал в город. Майков был как-то холодноват. От Страхова узнал, что Тургенев хочет остаться весь год в России, написать роман и хвалился, что опишет "всех ретроградов" (то есть в том числе и меня). С богом, но осенью надо первым делом отдать ему 50 р. Затем обедал у Вольфа и опять отправился к Губину и в этот раз застал. Губин говорил, как-то всё враждебно относясь к Полякову. Поляков был, по его словам, у него сам, и он сообщил копию с исполнительного листа ему. Но что Заенчковский (по словам Губина) хочет, по совету какого-то своего поверенного, апеллировать. Но это, конечно, вздор. Губин прибавил, что и вексель, гарантированный Заенчковским, был бы неблагонадежен. Соковнин же, по его словам, всё еще хочет принять долг на себя, под вексель, гарантированный его женой. Но хочет видеть исполнительный лист. В пятницу, то есть завтра, (1) по словам Губина, назначено совершить всё это дело у нотариуса, но Губин боится, что Матусевич (судебный пристав) не захочет выдать у нотариуса исполнительный лист, под предлогом, что есть закон, что если судеб<ный> пристав возвращает исполнительный лист, то прекращается претензия. Губин как-то хочет всё уладить и надеется на пятницу. В результате - я мало понял, полагаю только, что ему не нравятся переговоры с Заенчковским. (Претензию свою и исполнительный лист Матусевич, впрочем, уже предъявил обоим опекунам Стелловского, и Губин говорит, что Заенчковский увидит из этого, что, несмотря ни на какие апелляции, взыскание (2) не остановится.) Я просил его уведомить о решительных случаях тебя; адрес твой у него есть. От Губина поехал к Полякову, было часов 7, и не застал дома, даже на звонок не отворили; квартира пуста, и прибит билет, извещающий, что Поляков в Павловске (и адрес). Затем я решил, что останусь в Петербурге еще на день, то есть на четверг, и поехал на вечер к князю, где кроме некоторых гостей были Майков и Страхов. У князя болела нога, сам он едет в Соден (1 1/2 часа от Эмса) лечиться. Все мне были особенно рады, князь чрезвычайно мил. Все сказали мне, что я очень поздоровел и даже пополнел (между тем мне ужасно хотелось спать, и я был измят). Князь говорил мне a parte, что он совершенно не знает, как быть с "Гражданином", денег на издание нет, и никто ему в долг не дает. Боюсь ужасно, чтоб, если прекратится издание, не коснулся как-нибудь меня расчет с подписчиками (то есть я не про то боюсь, что князь не заплатит, а что, на первый случай, выйдет какой-нибудь скандал и заденут мое имя в печати). Но видно тоже, что ему ужасно хочется продолжать издание. Пуцыкович убежден, что так и будет, то есть что "Гражданин" будет выходить целый год. - Меня очень смутил князь и один его родственник (большой мой почитатель), что мне лучше бы ехать в Соден, а не в Эмс, ибо Эмс глубокая долина в ущелье, очень сырая и дождливая. (3) Мне же сырая погода, я знаю это, вреднее всего. Меня они все убеждали в Берлине сходить к одному знаменитому доктору Фрёриху и спросить его мнения. Не знаю, сделаю ли это. Но вот что я пропустил тебе написать: перед тем как быть у Полякова, я был у Бретцеля, который мне дал коротенькое письмецо к доктору Орту в Эмсе. И вдруг Бретцель сказал мне, что в случае если в Эмсе, я увижу, не будет мне пользы, то чтоб я переехал в Соден, где почти одно и то же. Этот Соден, выскочивший со всех сторон, теперь меня смущает, и, право, я думал бы зайти к Фрёриху. Впрочем, твердый совет тогда Кошлакова лечиться в Эмсе сделал то, что я, несмотря на все эти толки, еду теперь в Эмс непременно и уж в Эмсе посмотрю, и то недели две-три спустя, как мне быть. Бретцель расспрашивал о твоем здоровье и настоятельно сказал мне, что с Старой Руссе тебе бы надо было пить железную воду швальбах вейнбрун (есть еще швальбах штальбрун, но тот для тебя крепок). Кажется, я в именах не ошибся. По словам Бретцеля, вреда от этого не произойдет тебе никакого, а польза будет несомненная. Я просил его немедленно написать тебе, с медицинским расписанием правил, как пить, и вот мой совет тебе, Аня, на который ужасно прошу тебя обратить внимание: немедленно (4) посоветуйся с Шенком, и если он чуть-чуть скажет, что швальбах тебе полезен, то и вышли Бретцелю тотчас 10 р., и он берет на себя (как мы условились) выслать тебе от Штоля и Шмидта 20 полубутылок воды (7 р. стоит вода, по каталогу, а 3 р. мы полагаем на пересылку). Если ты даже начнешь питье и позже 20 июня, то всё успеешь отлично поправиться. Через 20 дней (по полубутылке в день) ты увидишь, надо ли продолжать, и можешь ему примерно после 15 бутылок выслать еще 10 р., и он вышлет еще 20 полубутылок. После 40 полубутылок можно и кончить. Бретцель клянется, что будет польза. Не щади же, голубчик, каких-нибудь 20 р., тебе же будет лучше! Если же Шенк отсоветует (чего не думаю), то просто напиши Бретцелю, что вода нашлась в аптеках и в Ст<арой> Руссе (Бретцель даже полагает, что это так и есть) и что ты последуешь его совету и будешь пить.
Но вот что прошу: если последуешь совету, то не бери в аптеках ваших, если даже и найдется, чтоб не сбиться и взять не того швальбаха. Лучше пусть сам Бретцель вышлет. (5) Прошу тебя, ангел мой, не затягивай дела и спроси Шенка (Шенка и без того давно пора позвать для Феди). Не щади 20 руб. Здоровье дороже всего.
Сегодня был у Кашпирева. У него нога опять в гипсе. Доктор Каде обещает ему, что к зиме он будет ходить, хотя и хромая. Они перебираются через неделю на дачу, близ Гатчины. Говорит, что этого требуют доктора. Софью Сергеевну не видал, ее не было дома. Благодарил меня, что я навестил его. Он очень жалок. Обедал у Вольфа вместе с Страховым, затем зашел к Базунову (который в воскресенье едет тоже за границу) и просил настоятельно высылать тебе "Русский вестник" за июнь и июль. (Майский я беру с собой.) Обещали. Затем поехал (в седьмом часу) к Полякову и опять не дозвонился. Может быть, он еще не получил твоего письма. Это мне было очень досадно, ибо если б не было дано этого рандеву (от 6 до 8 часов), то я бы сам отправился бы, может быть, в Павловск. Но я проспал до 11 часов, а потом рассудил, что если поеду в Павловск и там узнаю, что он уже уехал в Петербург, то не поспею вовремя видеться с ним и в Петербурге. Может быть, он тебе напишет. Тогда напиши ему, что я у него был (5-го и 6-го числа). Напиши это непременно.
Завтра просыпаюсь в 8 часов, чтоб успеть всё сделать, а теперь (6) устал от письма ужасно. Уж одиннадцатый час. Через час лягу. Очень у меня смутно на душе и тоска. Думаю о вас, о Фединьке милом, который меня крестил, об ангеле моем Любочке и о тебе очень. Аня, милая, ради бога, будь внимательна к ним. Что ты их любишь, я знаю. Не кричи только <?> на них <?> и веди их чисто. Да не обижай <нрзб.> няню. (7) Найдешь другую и проворнее на вид, но вряд ли будет так любить ребенка, как она. Старушка, слабая, а вскакивает ночью в один миг, чуть только шевельнется Федя. Не сердись на меня за эти просьбы. Ты ведь знаешь, как я вас всех люблю. А мне теперь очень тяжело одному.
Обнимаю тебя крепко, жду в Эмсе твоего письма. Целую Любу, Федю. Благословляю их. Поклонись Александру Карловичу, Анне Гавриловне, отцу Ивану и всем (няне и Прасковье тоже). Ах, ангел мой, как я боюсь за вас. Пиши же.
В Петербурге хотя и было ясно (сегодня только облачно), но холодно не по сезону. Боюсь пробыть в Берлине лишний день, так как приеду в воскресение и, пожалуй, контора банкира заперта.
Ну, до свидания, целую тебя крепко и всех вас тысячу раз и еще раз благословляю.
Твой навсегда Ф. Достоевский.
Боюсь, ужасно устану дорогой, авось, даст бог, займу целую скамейку и буду спать в вагоне. Не забудь же швальбах. Скажи, что детям привезу гостинцев и игрушек.
(1) вместо: то есть завтра - было: (сегодня)
(2) далее было: апелляцией
(3) далее было начато: У мен<я> (4) далее было: по получении письма от Бретцеля
(5) далее было: Молю
(6) было: сегодня
(7) текст: Не кричи...... не обижай <нрзб.> няню. - густо зачеркнут. Вместо него было рукой А. Г. Достоевской: Да уважай няню.
535. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 (24) июня 1874. Эмс
Эмс 15/27 среда.
Вот я и в Эмсе, голубчик дорогой Аня, приехал вчера около полудня, но до того устал с дороги и от хлопот в Эмсе, что решительно не мог вчера же вечером (как рассчитывал) написать тебе; голова кружилась, и в ушах звенело. Из Петербурга выехал я в пятницу утром в холодный дождливый день и в Эйдкунен прибыл бодро и даже ночью успел проспать часа четыре в лежачем положении. Холод в Эйдкунене был еще сильнее, чем в Петербурге, и так шло до Берлина, где тоже в 1-й день было так холодно, что хотел было надеть ватное пальто. В 2-ю ночь почти не спал в вагоне. Было много интересных и даже смешных приключений в дороге, расскажу при свидании. В Берлин приехал в воскресение, и банкирская контора Мендельсона, на которую был сделан у меня от Виникена перевод, была заперта. Доктора не принимают тоже по воскресеньям, и я должен был нестерпимо скучать весь день. Спать, впрочем, не лег (приехали в 7 часов утра), ходил в Королевский музеум смотреть Каульбаха, в котором нашел одну холодную аллегорию и больше ничего. Но другие картины, древние, разных школ, там недурны, и мы с тобой, в первый приезд наш, напрасно там не побывали. Но, боже, что это за скучный, (1) ужасный город Берлин! Скучно и тоскливо (по вас) было до невероятности. Всё смотрел на фотографию Любочки, раза три взглядывал, припоминал. - Немцы в воскресение были все на улицах и в праздничном платье, народ грубый и неотесанный. Мне в кондитерской один молодой человек советовал съездить в театр Кроля за Тиргартеном, где увеселительный сад и опера. Действительно, шел "Фиделио", и мне очень хотелось съездить, но, придя домой, до того почувствовал себя усталым, что так и свалился спать. Наутро был у Мендельсона и был у Фрерихса. Этот светило науки немецкой живет во дворце (буквально). Дожидаясь вызова, я спросил у одного ожидавшего больного, сколько платят Фрерихсу, и он ответил мне, что это неопределенно, но что он сам даст 5 талеров. Я решил дать три. Больных он держит минуты по три, много пять минут. Меня держал буквально 2 только минуты и лишь дотронулся только стетоскопом до моей груди. Затем изрек (2) одно только слово: Эмс, сел молча и написал 2 строки на клочке бумажки: "Вот вам адрес доктора в Эмсе, скажите, что от Фрерихса". Я положил три талера и ушел: было зачем ходить. В этот день были наконец открыты магазины, и я отправился покупать Анне Гавриловне шаль, которая стоила мне много хлопот. Искал-искал магазина. Магазинов в Берлине бездна, товаров бездна, но добиться долго не мог: или не понимают, или показывают очевидно не то. Наконец в одном магазине дали мне адрес в другой, и там, хоть и не было шалей, но за ними послали, и я наконец купил. Думаю, что хороша очень и даже, может быть, материя лучше твоей, потому что цвет чернее, самый черный, какой только может быть, а твоя ударяет в рыжеватый оттенок. Они уверяют, что качество цвета очень ценится. Велика как твоя, без всяких вышивок, но с легкой бахромой (иначе не бывает). Спросили 22 талера. Я торговался, уходил из магазина, и наконец-то согласились отдать за 19. Была тут и другая шаль, которую отдавали за 18, но цвет был не так черен. Я решился взять в отчаянии найти другую. Когда я их уверял, что была куплена шаль (твоя) с вышивками и дешевле, то они спросили, давно ли это, и когда я сказал, что 5 лет назад, то они засмеялись: "С тех пор, - сказали они, - почти все эти товары поднялись процентов на 25". Так как Анна Гавриловна дала 14 руб. серебряных, то по курсу (3) это было бы талеров 16, значит, я переплатил лишку не более 3 или много что 3 1/2 руб. Эту переплату, голубчик Аня, уж мы лучше подарим Анне Гавриловне (они так любят тебя и детей), и ты, наверно, на меня за это не станешь сердиться. Теперь эту шаль буду таскать с собой в чемодане, потому что переслать в Россию по почте возможности нет и представить, дорого возьмут, сам привезу. Затем накупил много папирос, а так как оставалось время съездить в сад Кроля, то поехал. В этот день погода была ясная. Этот сад мерзость ужаснейшая, но публики бездна, и немцы гуляют с наслаждением. За мои 10 входных грошей я имел право пройти и в театр, но только стоять в галерее. Театр - огромная темная зала, где до 1000 человек публики, сцена в 10 шагов длины, оркестр в 12 человек (весьма недурной), и дают, можешь себе представить, - "Роберта". Я прослушал половину 1-го акта и убежал от страшных немецких певцов прямо домой, ибо пора было ехать. Наконец отправились в 10 часов вечера в Эмс. Здесь ночи (4) темные, как зимой. В эту ночь не спал нисколько, сидели мы, как сельди в бочонке, но когда стало рассветать - Аня, милая, ничего я в жизни не видал подобного! Что Швейцария, что Вартбург (помнишь?) сравнительно с этой последней половиной дороги до Эмса. Всё, что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самом очаровательном в мире; холмы, горы, замки, города, как Марбург, Лимбург с прелестными башнями в изумительном сочетании гор и долин - ничего еще я не видал в этом роде, и так мы ехали до самого Эмса в жаркое, сияющее от солнца утро. Эмс совершенно в этом роде. Вчерашний же день был очарователен. Эмс - это городок в глубоком ущелье высоких холмов - этак сажень по двести и более высоты, поросших лесом. К скалам (самым живописным в мире) прислонен городок, состоящий по-настоящему из двух только набережных реки (неширокой), а шире негде и строиться, ибо давят горы. Есть променады и сады - и всё прелестно. Местоположением я очарован, но говорят, что это самое местоположение, в дождь или в хмурое небо, переменяется в мрачное и тоскливое до того, что способно в здоровом человеке родить меланхолию. Но зато удобствами я далеко не очарован. Цены, цены - ужас! Всё, что мы с тобой воображали, рассчитывая, о частной квартирке для меня в Эмсе, оказалось невозможным, ибо частных квартир - нет (5) совсем ни одной. Лет 5 тому назад Эмс мало значил, но теперь, когда вдруг его прославили и стали в него съезжаться со всей Европы, всякий домохозяин догадался, что надо ему делать: все дома переладили и перестроили в отели. И потому есть два сорта отелей: домов 10 под настоящими, формальными отелями, и затем все (буквально) остальные дома называются приват-отелями. В них те же номера, та же прислуга и даже почти во всех рестораны. В самом маленьком доме до 20 №-в. Номера почти все небольшие. Я остановился в Hфtel de Flandre у железной дороги, и мне за 25 грошей дали комнатку, в которой нельзя повернуться, без самой необходимой мебели (без шкапа для платья и (6) без комода) и указали мне на стене три гвоздика, на которые я бы мог развешивать платье. Прислуга ужасная. Я тотчас отправился искать квартиру и заходил домов в 15. Везде одни цены. Впрочем, за 25 грошей (меньше нет цены за комнату) и за талер показывали комнатки все-таки больше и лучше моей и комфортнее, но маленькие, и главное - кругом всё набито квартирантами, кто поет, кто хлопает дверями, а я ведь располагаю роман писать! Табльдот везде в отелях и ресторанах в час пополудни, (7) ибо все встают в 6 часов утра, чтобы в 7 быть на месте, у источника, и пить воду, которую уже потом, после 8 1/2 часов, не дадут и источник запрут. В 4 часа, еще не обедав, я пошел (8) к доктору, чтобы знать, по крайней мере, окончательно, на сколько он меня присудит недель пробыть в Эмсе. Пошел к доктору Орту (Бретцелеву), а не к Гутентагу (Фрерихсову), и отдал Орту письмо Бретцеля. Орт тоже живет в великолепной квартире, и тоже у него толпа посетителей. Он прочел Бретцелеву записку и осмотрел меня очень внимательно и сказал, (9) что у меня временный катар и более ничего; похожего на чахотку нет ничего, но что болезнь довольно важная, потому что без лечения чем дальше, тем менее будет способности дышать, кроме общего расстройства (желудка, лихорадок и проч.). Нашел, что у меня расстроена наиболее задняя часть груди, и когда я ему сказал, что я не чувствую ничего особенного, стоял на своем, но сказал, что с дороги я должен был непременно расстроиться, но что через несколько дней эта задняя сторона может облегчиться, обещал успех от лечения наверно, но предписал пить не из Кренхена, как Кошлаков, а из другого источника, Кессельбрунена, под предлогом, что я наклонен к поносу, как писал ему Бретцель. Досадую теперь ужасно, что так и забыл сказать ему, что я наклонен более к запорам, чем к поносу, и боюсь, чтобы из предписания пить кессельбрунен не вышло ошибки. Дней через 5 пойду к нему опять и объяснюсь. Он предписал мне диету - есть больше кислого и с уксусом (салату, например) и есть мясо с жиром. Сверх того, пить красное вино, или французское, или здешнее, эмское, местное. С завтрашнего дня начну вставать в 6 часов и ходить пить воду (два стакана в день). Это эмское вино, кислятина первостепенная, стоит 20 грошей бутылка! К французскому же и приступу нет: по талеру бутылка Медока, который у нас, у Фейка, в 50 коп. Затем стал искать обеда и нашел, что в больших отелях (Russischer Hof и Englisch-отель есть, кроме табльдота в час, diners а part, но по талеру и 10 грошей, то есть по 40 грошей. Спросил такой обед: подали кушаний 10, хорошо приготовленных, из которых 5 мясных, так что я устал есть и половину обеда отослал назад. Но за 25 грошей, в табльдоте, дают меньше. Других обедов - нет во всем Эмсе. По порциям можно везде, но за порцию берут грошей по 15! Наконец я решился взять в одном доме квартиру. Хозяйка - одна старая дама в очках, имеющая, впрочем, мужа, вежливая, но хитрая старуха. Прислуга женская. У ней 26 номеров в доме. Мне показали на выбор две квартиры - одна прекрасная и большая комната, комфортно меблированная, с балконом, 14 талеров в неделю, (10) а другая квартира из 2-х комнат, но уже меньше гораздо, тоже очень комфортно меблированных, но только одна комната совсем светлая, а другая, спальня, хоть и имеет 2 окна, но окна выходят на капитальную стену в 2-х аршинах расстояния, и в ней гораздо темнее, тоже 14 талеров в неделю. Я торговался ужасно и выторговал по 12 талеров в неделю. Кроме того, она взялась сама приготовлять мне кофе, обед, вечером чай и чего-нибудь закусить на ужин это за полтора талера в день. Таким образом, в неделю с квартирой будет 22 1/2 талера. Я забыл тебе сказать (и главное), что Орт назначил срок моему леченью не 6 недель, а 4 только. Таким образом, хоть деньги и идут ужасно, но их достанет. Вечером я переехал из отеля к хозяйке. На всякий случай тебе адресс дома (11) (Haus Blьcher № 7)*, но непременно пиши только на poste restante, ибо почем знать, я могу съехать отсюда.
В заключение об Эмсе - здесь давка, публика со всего мира, костюмы и блеск, и все-таки одна треть №№-в не заняты. Магазины подлейшие. Хотел было купить шляпу, нашел только один магазинишко, где товар вроде как у нас на толкучем. И всё это выставлено с гордостью, цены непомерные, а купцы рыло воротят.
Ангел мой Аня, пиши ко мне, бедному, почаще. Письмо от вас придет, может, только послезавтра, а ты не поверишь, как я беспокоюсь, чтоб знать о детях. Нервы у меня расстроены (с дороги), и вчера вечером, когда я остался один, просто хоть плачь. Вспоминаю об моих ангельчиках Любе и Феде и боюсь за них: смотри за ними, голубчик, и обо всем пиши откровенно. Не заболела бы ты как-нибудь! Вчера ночью вздрагивал ужасно (а уже три ночи сряду всё ты мне снишься). Прощай, крепко обнимаю тебя и целую и благословляю моих ангелов. Завтра встану в 6 часов и пойду пить воду, ложиться, стало быть, надо в 10 часов вечера. Когда же писать роман - днем, при этаком блеске и солнце, когда манит гулять и шумят улицы? Дай бог только начать роман и наметать хоть что-нибудь. Начать - это уже половина дела. Стало быть, придется мне гораздо раньше воротиться к вам. В следующем письме напишу об этом больше.. Напишу дня через три-четыре, после твоего письма. Поклон всем и няне. Целую тебя тысячу раз и люблю до бесконечности. Представь, ты мне третьего дня в Берлине снилась в каком виде: что будто мы только что женились и я везу тебя за границу и люблю ужасно, но что будто есть уже и Люба и Федя, только где-то не с нами, и мы об них говорим. До свиданья.
Твой Достоевский.
* То есть я стою в № 7 (номер комнаты, а не дома)
(1) далее было: за
(2) было начато: произ<нес>
(3) далее было: даже
(4) было: ночные
(5) нет подчеркнуто тремя чертами
(6) далее было: даже
(7) далее было начато: так
(8) далее было начато: окончат<ельно>
(9) было: изрек
(10) было: месяц
(11) было: отеля
536. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
16 (28) июня 1874. Эмс
Воскресенье, 28/16 июня/74 Эмс.
Понять не могу, милый друг мой Аня, какая путаница в числах месяца. У нас здесь сегодня, в воскресенье, 28-го числа н<ового> ст<иля> (я проверил по газетам), а ты пишешь мне в воскресенье (прошлое) от 12. В прошлом моем письме (от середы из Эмса) я тоже напутал и выставил 27 нов<ого> стил<я>, тогда как было 25-е. Но вот что уже серьезно. Первое письмо твое (от пятницы) помечено 7-м числом ст<арого> стиля, а на конверте штемпель Старой Руссы 10-м, а петербургский 11-м. Это странно. Если ты подала в пятницу или даже в субботу, то как же мог ваш почтмейстер отослать письмо только лишь 10-го числа. Поговори об этом почтмейстеру настоятельно.* И представь себе, твое первое письмо, от 7-го (кстати: выставляя на письмах числа, выставляй и день, не забудь это), - получил я только вчера, в субботу, тогда как я мог получить в пятницу, (1) потому что здешний олух чиновник на poste restante, несмотря на то, что я уже раз 5 приходил спрашивать, воображал, что я не Dostoievsky, a Tostoevsky, и смотрел письма в отделе буквы Т, так что письмо целые сутки у него пролежало даром. Они ужасно выговаривают и преглупо слушают. Один немец мне в дороге говорил: упа, упа. Что такое упа? - спросил я его, и наконец-то оказалось, что упа есть опера (он говорил со мной музыке). Сегодня почтмейстер очень извинялся, но зато я получил и второе твое письмо сегодня. Милочка Анечка, благодарю тебя за то, что ты пишешь аккуратно. Пиши, пожалуйста, почаще, чем раз в неделю, пиши раз в 5 дней; так и я буду писать. Твоими же письмами я любуюсь и читаю их с наслаждением и говорю про себя каждый раз: какая она у меня умница. Я, например, пишу 8 страниц и всего не выскажу, а у тебя на 4-х всё прекрасно высказано, все что надо, дельно, толково, ничего лишнего, ум в понимании, что именно надо сказать непременно, и тонкость чувства. Ты именно догадалась, что мне очень будет приятно читать про разговоры детей. Кроме того, ты мне пишешь милые слова и говоришь, что любишь (если не обманываешь). А уж я-то как тебя люблю, мой ангел, особенно теперь. Дорогая ты моя.
Как я рад, что пока дети здоровы. Правда, твое письмо неделю назад писано. Береги их, ради Христа, изо всех сил. Великолепно сделаешь, если попьешь швальбах, и я рад отзыву Шенка о твоем здоровье. Но всего больше буду рад, когда опять вас увижу. А то мне здесь очень уж становится скучно. На другой день после того как писал тебе (то есть в четверг), пошел в 1-й раз на источник. Он от меня в 2-х шагах. Погода была ужасная, и дождь лил как из ведра, так что я взял у хозяйки зонтик, чтоб добежать. Там уж был весь сброд. Весь Эмс просыпается в 6 часов утра (я тоже), и тысячи 2 пьющих все уже толпятся в 1/2 7-го у двух источников: Кренхен и Кессельбрунен. Тут же в саду играет музыка и начинает обыкновенно с скучнейшего лютеранского гимна к богу; ничего не знаю приторнее и выделаннее. Каждый пьющий должен купить здесь себе стакан на весь сезон, на котором черточками обозначено число унций в стакане. Я пью 6 унций, по два стакана и гуляю между двумя стаканами час, а в 8 возвращаюсь к себе и пью кофе. Вкус кисло-соленый и отзывается несколько тухлым яйцом, вода теплая, как отеплевший в стакане после 10 минут чай. Целых два дня (даже и вчера) погода была переменная, то дождь, то солнце, и так было скучно, как не надо больше. От сырости, должно быть, состояние мое ухудшилось, хрип сильнее, и кашель стал суше, а вчера и третьего дня болела даже грудь, что очень редко бывало в Петербурге. Пойду к доктору дня через два и объясню ему, что мне даже стало хуже. Правда, так скоро ничего еще и не могло сказаться, но полагаю, что я в сырость простудился. Сегодня же великолепный день, солнце, и всё сияет, и ужасно жарко, и мне лучше гораздо. Я всё боюсь, что доктор ошибся, назначив мне кессельбрунен, а не кренхен. Бретцель написал ему, что я подвержен поносам. Но поносы хоть и были, но от расстройства желудка, главное же состояние мое, напротив, не понос, а противоположное. Что-то будет, не знаю.
В ясное время хожу гулять, а вечером на музыку. В воксале из русских газет всего одни "Москов<ские> ведомости", из французских довольно. Всё здесь мизерно и жалко, магазины прескверные. Одно местоположение лишь прелестно, но всего лишь на одну минуту, потому что Эмс есть - тесное ущелье между двумя цепями гор, и весь он узнается в одну минуту. Сад и парк я знаю уже вдоль и поперек, а затем уже и некуда ходить. К тому же вечно толпы публики (множество русского говору, но более всего немцев). После кофе утром я что-нибудь делаю; до сих пор читал только Пушкина и упивался восторгом, каждый день нахожу что-нибудь новое. Но сам зато не могу еще ничего скомпоновать из романа. Боюсь, не отбила ли у меня падучая не только память, но и воображенье. Грустная мысль приходит в голову: что, если я уже не способен больше писать. А впрочем, посмотрим.
В 12 часов выхожу погулять час перед обедом (ибо обедаю ровно в час пополудни). Толкаюсь в толпе, захожу в курзал читать газеты. Знакомых у меня один только какой-то немец, приехавший со мной в одном вагоне сюда из Берлина лечиться (грудной) и нежно (в хорошем смысле) прощавшийся с женой (оба они молодые) на моих глазах в берлинском воксале перед последним свистком машины. Мы с ним иногда теперь встречаемся и говорим по-немецки. Да встретил я, или, лучше сказать, подошел ко мне в саду (потому что сам никого не узнаю) Случевский (литератор, служит в цензуре, редактирует "Иллюстрацию") и с радостью возобновил со мной знакомство. Я его мельком встречал зимой в Петербурге. Он еще человек молодой, здесь с женой и детьми. Напросился ко мне на визит, не знаю, придет ли. Это - характер петербургский, светский человек, как все цензора, с претензиями на высшее общество, малопонимающий во всем, довольно добродушный и довольно самолюбивый. Очень порядочные манеры. Он мне показал на гулянье всех здешних русских. С женой он почему-то никогда не гуляет, но, кажется, детей своих любит. Третьего дня вечером, в довольно сырую погоду, после унявшегося дождя встретил я его с одним русским семейством, и он упросил меня с ними идти. Мне так было скучно, что я пошел. Дама - директриса института в Новочеркасске, лет сорока, а кажется 25, с ней дочка-молчанка, лет 15, но очень хорошенькая. При них же родственник или знакомый, довольно оригинальный и несколько смешной человек. Мы сделали прогулку, по сырой дороге, недалеко в горы, до первого ресторана, отдохнули, выпили Maytrank и ушли назад. Эта барыня навела на меня такую тоску, что я буду теперь решительно бегать от всех русских. Дура, каких свет не производил. Космополитка и атеистка, обожает царя, но презирает отечество. Детей воспитала в Дрездене, и они два месяца назад тому оба померли в России, осталась одна последняя дочь. Вероятно, с горя отправилась в Париж (это у них служба называется, по 4 месяца отпуску за границей, с пособием от казны!). В Париже ни с того ни с сего вырвала у дантиста великолепный зуб, который не болел, но ей почему-то мешал (у ней зубы, как перлы, и сама очень собой недурна). Дантист ее хлороформировал и сломал ей челюсть (!). Другой знаменитый дантист в Париже сказал ей, что она может получить костоеду и погибнуть, и она теперь опять должна ехать в Париж лечить изломанную челюсть. Теперь же приехала в Эмс неизвестно зачем, и вообще все эти люди делают неизвестно что, ездят неизвестно зачем. Болтушка и спорщица. Я сказал ей прямо, что она несносна и ничего не понимает, разумеется, смеясь и светским образом, но очень серьезно. Расстались мы вежливо, но уже никогда не встречусь с ними. А ночью у меня был даже кошмар.
Таким образом, у меня тоска чрезвычайная. Не понимаю, как проживу здесь месяц. Авось что-нибудь скомпоную и сяду работать. Живу же пока, в материальном отношении, довольно удобно: хозяева вежливы, кормят меня недурно. Весь дом (каменный и красивый, теперь имеющий большую ценность) принадлежит хозяйке, и она же мне стряпает сама кушанье. Дочка ее, лет 17, хорошенькая собой и получившая некоторое воспитание, скромная и невинная, носит иногда ко мне обед и чай сама и даже прибирает и моет в доме. Служанка на всех 12 или 15 жильцов одна - рябая девка Мина, лет 35, работает как вол и получает жалованья, с марта по октябрь, всего 7 талеров, то есть по талеру в месяц: правда, весь расчет ее на пурбуар от жильцов. Вообще в доме порядочность. Во всем 2-м этаже я был один, но вчера приехали какие-то богачи из Вены (муж и жена) и заняли весь этаж, так что у меня очутились соседи и теперь немного возятся за дверью и мне мешают. Ну вот пока и всё касательно моей обстановки. Нравственное состояние, как я уже и писал тебе, - тоска и скука, и, кроме того, думаю о тебе поминутно. Анька, я тоскую о тебе мучительно! Днем перебираю в уме все твои хорошие качества и люблю тебя ужасно, и нахожу, что всем бы ты взяла, кроме одного твоего маленького недостатка - рассеянности и домашней небрежности (то есть не к детям небрежности, я ведь понимаю, какая ты мать!), а просто маленького неряшества. Зато остальное всё в моей Анечке признаю совершенством и редкостью. Голубчик, я ни одной женщины не знаю равной тебе. Ну вот эта третьегоднишняя дура, ну как и сравнить с тобой, а ведь почти все теперь как эта дура. Зато вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мученьем, обнимаю тебя мысленно и целую в воображении всю (понимаешь?). Да, Аня, к тоске моего уединения недоставало только этого мученья; должен жить без тебя и мучиться. Ты мне снишься обольстительно; видишь ли меня-то во сне? Аня, это очень серьезно в моем положении, если б это была шутка, я б тебе не писал. Ты (2) говорила, что я, пожалуй, пущусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте теперь изведал, что и вообразить не могу другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно. Слишком привык к тебе и слишком стал семьянином. Старое всё прошло. Да и нет в этом отношении ничего лучше моей Анечки. Не прюдствуй, читая это; это ты должна знать от меня. Надеюсь, что письмо это никому не покажешь.
Про детишек пиши всё и именно, что они говорят и делают. Целуй Любку и Федю. Скажи, что я об них думаю, приеду к ним и привезу гостинцев (привезу ли только гостинцев-то!). Всем кланяйся. Обнимаю тебя еще раз.
Твой вечный муж Дост<оевский>.
Я тебя истинно люблю и молюсь за вас всех каждый день горячо. Детей благословляю.
Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил императора Вильгельма: высокого роста, важного вида старик. Здесь все встают (и дамы), снимают шляпы и кланяются; он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой. Наш царь, напротив, всем здесь кланялся, и немцы очень это ценили. (3) Мне рассказывали, что и немцы и русские (особенно дамы высшего нашего света) так и норовили, чтоб как-нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть. Русских было тогда в Эмсе еще больше, теперь же главный русский beau monde уехал. Вильгельм шел, разговаривая с одной девицей, а мать ее и отец следовали в двух шагах сзади. Девушка с лица похожа на горничную, крупные молодые черты, но очень недурна, немка, из grand monde. Одеты великолепно мать и дочь. Дойдя до места, император с ними простился, и они обе присели важно, по-придворному, и, гордые и осчастливленные, уехали в великолепной коляске. Сзади в 10 шагах, пока шел Вильгельм с девицей, валила (буквально) толпа всех здешних дам, иные все в кружевах, как на бале. То-то, должно быть, завидовали!
Отцу Иоанну и хозяевам особый поклон. Детишек обнимаю. Говори им обо мне почаще, чтоб не забыли меня.
Напиши мне, которого именно числа Федино рождение в июле, чтоб я без ошибки мог отпраздновать.
Р. S. Когда-то теперь получу от тебя письмо - бог ведает! Сам напишу дней через 5. В этот промежуток буду у доктора.
Главное, будь здорова. Береги деток.
Д.
* Я, пожалуй, пришлю конверт для улики
(1) далее было: тогда
(2) далее было начато: боял<ась>
(3) немцы...... ценили вписано
537. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23 июня (5 июля) - 24 июня (6 июля) 1874. Эмс
Воскресенье 5 июля н<ового> ст<иля>. Эмс.
Милая Аня, я удивляюсь твоему молчанью. Вот уже опять воскресенье, а от тебя нет ничего. Если б ты даже ждала моих писем, чтоб отвечать, так и тогда слишком пора бы прийти твоему ответу, а хоть одно-то из моих писем отсюда ты наверно уж получила. Но ты, во всяком случае, обещалась писать по воскресеньям, и если так, то письмо твое должно бы прийти еще третьего дня, в пятницу. Пишу теперь еще, не дождавшись от тебя ничего, и если получу от тебя завтра, рано утром, что-нибудь, то припишу что-нибудь в этом письме. Не то так и так пойдет. Если тебя так утомляет переписка со мною, то прошу лишь хоть одну страницу простого известия о детях и (1) о твоем здоровье, но с тем, чтоб писать каждые пять дней. Целую неделю ждать - слишком долго. А теперь уж и не неделю жду с последнего письма: вот уж девятый день идет, а пожалуй, и десять пройдет. (2)
Уведомляю о себе: леченье мое идет аккуратно, но пользы пока никакой. Даже, напротив, больше кашляю и больше мокроты, чем прошлым летом. Писал ли я тебе, что доктор переменил мне наконец кессельбрунен на кренхен, и по 3 стакана в день, а не два? Кренхен, чувствую, действует капельку лучше; но я решительно почувствовал наконец (да и другие больные убедили меня), что с молоком кренхен лучше действует и на желудок, и на сухость кашля. Кроме того, трех стаканов мне мало: после утреннего приема трех стаканов мне с 7 часов утра до 4-х пополудни - легче, а с 4-х и во всю ночь труднее. Я решился наконец идти к доктору и настоятельно просить, чтоб разрешил с молоком и еще вечерний прием кренхена в 4 часа, по примеру других больных. Был у него с этою целью вчера, и наконец-то он разрешил и молоко, и еще 2 стакана по вечерам. Таким образом, кончилось же тем, как предписывал Кошлаков. Орт единственно потому, что я, две недели тому, сказал ему о предписании Кошлакова пить кренхен с молоком, переменил кренхен на кессельбрунен и запретил молоко, то есть из самолюбия. Но таковы все они, мошенники. Я же если не потерял совсем, так испортил себе целые две недели лечения. Предвижу, что, может быть, придется остаться здесь лишнюю неделю, потому что всё еще имею надежду (и даже сильную), что кренхен мне поможет. Узнав, что у меня начала болеть немного печень и иногда желтеет язык, Орт с какою-то радостью объявил мне, что это - самый ясный и первый признак хорошего действия вод и что начинается оно всегда с болей печени. Ну вот и всё о моем лечении. Скука моего житья здесь нестерпимая. Несмотря на то, что начал работать (увы, только еще над планом, да и тот не дается), не знаю, куда деваться от тоски. Кое-что читаю, но это мало. Между тем всё здесь дорого очень, и деньги идут. Мало с кем вижусь. Меня уведомили, что княжна Шаликова меня отыскивает вот уже неделю и очень хочет меня видеть. Чтоб не быть невежливым, я зашел к ней, не застал дома и оставил карточку. Вчера она сама наконец пришла ко мне утром: ужасно постарела и поседела (кажется на вид лет 50), больна, кашляет, но добрая и милая старая девица. Сидела у меня час и звала проехаться с какими-то ее знакомыми на Рейн (1/4 часа езды в вагоне) в замок Штольценфельс. Не знаю, поеду ли. - Погода здесь теперь жаркая, но были ветры и дожди, да и теперь переменно: один день 25 градусов в тени, а на другой день только 15, и довольно часто утренние туманы. Ну вот тебе реляция обо мне формальная; внутреннего и существенного не описываю, ибо, кажется, вижу, милая Аня, что это лишнее.
Еще раз прошу и умоляю тебя: пиши мне в каждые 5 дней по разу, ну по 12 строчек, вроде телеграммы о здоровье детей и своем. Ты поверить не можешь, как я беспокоюсь о детях и мучусь от того. Теперь, не получая писем, только о них и думаю. Если до вторника, то есть до послезавтра, ничего не получу, то пошлю телеграмму на имя Александра Карловича.
До свидания. Благословляю детей, а тебя целую. Кланяйся от меня всем. Няне поклон.
Твой Ф. Достоевский.
Понедельник 6 июля.
Сегодня, в 8 часов утра, получил наконец твое милое письмецо, бесценная моя Аня, поцеловал его и тем помирился с тобою, а то, признаюсь, очень уже сердился; да и грустно, обидно как-то было. Как я рад, что вы все здоровы; как будто оживешь после этого известия, и всё просияет кругом. Буквально говорю. Еще раз прошу тебя, милая Анечка, пиши мне каждые пять дней, хоть понемногу (но побольше 12 строк!), все-таки буду веселее и спокойнее за вас. А то слишком уж письма редки, и тяжело. Теперь ты, я думаю, давно уже получила и 2-е письмо мое из Эмса. Это третье. - Вчера в 3-м часу княжна Шаликова вдруг прислала за мной ехать с ними в Штольценфельс гулять, так как я дал слово. Хоть я и очень дурно был настроен, но нечего делать, поехал. Это 1/4 часа езды, на Рейне, при впадении в Рейн нашей речонки Лана, при которой стоит Эмс (Lahn). Вид удивительный. Замок по другую сторону Рейна, куда перевоз на лодке. Это старый замок средних веков, но лет 25 тому назад развалины (хорошо, впрочем, сохранившиеся) были реставрированы заново для нашей покойной императрицы Александры Федоровны, которая здесь несколько времени (3) прожила. Мы осмотрели весь замок, гуляли, пили кофей и любовались заходящим солнцем на Рейне, который очень хорош. Я провел время ни скучно, ни хорошо в этой дамской компании. Была одна знакомая княжны, с которой она живет и которая сама жила некоторое время у Каткова. Она вдова, лет уже 40, болезненная, когда-то была хороша собою. Моя почитательница. Когда княжна, до того как мне сделала визит, отыскивала меня на музыке или у источника, стараясь узнать по лицу, то она говорила княжне поминутно: "Всматривайтесь, и чуть найдете человека с самым глубоким взглядом, таким, какого ни у кого нет, то смело подходите, это он". Она меня видела когда-то у Каткова. Потом была одна мать с дочерью, тоже директриса одной московской женской гимназии. Эта директриса уже не похожа на новочеркасскую, преумная женщина, только уж очень больна, почти совсем без легких. Дочка ее, лет 17, бойкая барышня, собой недурна. Но княжна-старушка мне решительно нравится: простодушие, наивность, правдивость и редкая, почти детская веселость. Маленькая, седенькая, одетая слишком скромно, но чрезвычайно хорошего тона в высшем смысле слова. Всю-то Европу она искрестила, везде была, все первейшие писатели английские и французские с ней знакомы лично. Но главное в ней чувствительность, которая даже и насмешка, и самая ясная веселость. Очень что-то тоже кашляет. Они мне много насказали полезных советов насчет приема вод, главное насчет диеты, и я очень рад, что их выслушал, потому что я-таки делал промахи. Голубчик Аня, ты пишешь, что начала пить воду и не надеешься на пользу: в этом ты глубоко ошибаешься. Увидишь. Я целых две недели третировал кренхен свысока, а теперь сильно начал надеяться, ибо почему-то предчувствую, что будет польза. Рад кренхену с молоком и то, что почти удвоена прежняя порция. Встаю, например, в 6 часов с хрипом и кашлем. Пока одеваюсь, хрип и кашель меня мучают. Ровно в 7 часов я на месте и пью первый стакан. И что же, после 3-х стаканов, до самого вечера, мне легче, хрип исчезает, кашель тоже, и воздуху для груди точно прибавилось. Но главное действие впереди, внутреннее, химическое на весь организм. Так и будет с тобою, может быть, даже и неприметно тебе самой. Всю зиму будешь говорить, что никакой пользы не было, а между тем в постель не сляжешь; а почем ты знаешь, если б не пила вод, то, может быть, и слегла бы. Не жалуйся на то, что кофей не пьешь. Это я знаю, тяжело отвыкать от привычек. К тому же я слышал, что не только кренхен, но и при приеме всяких вод тоже сначала вызывается желчь и начинается раздражение нервов. Не от того ли у тебя и аппетита меньше, не от начала ли действия вод? От желчи будешь немного раздражительна. - Аппетит у меня прекрасный, и мне все говорят, что при водах это превосходный признак. Благодарю тебя за известия о детях и об их словечках н поступках. Это меня ужасно радует, занимает и веселит. Анекдот Феди с мужиком слишком примечателен как пророчество будущему характеру: решимость, доверчивость, и что он не оглянулся на вас, так тут нельзя винить сердце. Он еще и не знает этих требований и даже наверно не понимал, что с вами расстался. Если б оставить его с мужиком дольше, то наверно бы спросил его: "Где няня?" Крепко целуй Любку, и, ради бога, поменьше с нею умственных занятий, не торопись; дай ей тельце свое поправить в запас на всю зиму. Как я рад, что у вас погода хорошая. Как бы здесь, за границей где-нибудь, дети поправились! Но в Эмсе климат странный. Сегодня, например, солнце, барометр превосходный, в полдень, судя по-вчерашнему и по всему, наверно будет 24 градуса реом<юра> в тени. Вообрази же, что в 7 часов утра этот же термометр в тени показывал лишь 11 реомюра. 11 градусов и 25 через несколько часов - какие крутые перевороты! Как не простудиться нечаянно. Это от того, что ущелье, ночью влажно и вдруг в ущелье завязнет какое-нибудь облако: вот и 11 градусов! Вчера же утром в 7 часов было 18 в тени, то есть облаку не угодно было переночевать в Эмсе.
Мне довольно спокойно на квартире. Рядом со мною во всем этаже (бельэтаж) только одни жильцы - муж с женой из Вены, богачи и занимают одни 4 великолепные комнаты. Но вчера у них был первый еженедельный платеж хозяйке, и они крепко-таки поспорили с нею за ужасный счет, который она им представила. Такой же счет представила она и мне; я крепко спорил и хоть два только талера, да отспорил у ней! Аня, работа моя туго подвигается, и я мучусь над планом. Обилие плана - вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединились 4 романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть. Авось управлюсь. Главное план, а работа самая легче. Аня, голубчик, главная работа моя, разумеется и во всяком случае, будет осенью. Ужасно смущает меня мысль ежедневная: как-то мы устроимся осенью и на какие средства! (У Некрасова просить еще не-воз-можно; да и наверно не даст. Это не Катков, а ярославец.) Но бог выручал нас доселе, а бывали времена и хуже. - Не пугай меня пророчествами железного характера, Анечка. Это всё, что есть в тебе худого. Твой характер натуральный - это простой и ангельский - вот что.
Крепко целую тебя, а насчет непристойных снов, то, голубчик мой, если б ты только знала, какие я вижу! Даме, впрочем, это не так прилично. Ничего, ничего - молчанье! Напротив, я очень рад и целую тебя страстно всю.
До свидания. Пиши чаще. Детей перецелуй. Напоминай им обо мне. Мне чаще пиши. Всем кланяйся, кроме соборного протопопа. А впрочем, и ему.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) было: или
(2) было: будет
(3) было: дней
538. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
28 июня (10 июля) 1874. Эмс
Эмс. Пятница, 10 июля нового стиля/28 июня.
Вчера 9-го/27 получил твое бесценное послание, ангел мой Анечка, и оно меня чрезвычайно утешило. Получил я его в 8 часов утра, идя от источника, а как раз в ту ночь, ровно в полночь, был у меня во сне припадок, который чрезвычайно расстроил меня, до того, что я уж вчера и не отвечал тебе: буквально не мог; да и теперь, хоть хожу, говорю, а писать очень трудно, всё болит, и в голове каша, и грустно. Впрочем, ты ведь знаешь. Припадок был в постели и без последствий, и никто не слыхал его. Полагаю, что не из самых сильных. Зато, думаю, что теперь на некоторое время отделался. У меня и в Петербурге после припадка происходило обыкновенно весьма сильное скопление мокроты в груди и кашель усиливался, дня на три. Так и здесь; но, кажется, кренхен оказывает некоторые успехи: все-таки меньше и мокроты, и кашля, и легче дышать, и не ноет по ночам в груди. Полагаю теперь наверно, что хоть какая-нибудь польза от моего здешнего лечения останется. Но не надеюсь очень большой пользы. Не знаю только, как устроится всё дело: я пью кренхен вот уже 2 недели, и то первую неделю пил всего только по три стакана без молока. Через 11 дней. будет ровно месяц моему здешнему питью вод. И, однако же, неделю я пил кессельбрунен, совсем другой источник, а это в счет, по-моему, не должно идти. Кошлаков же приказывал кренхен с молоком пить 6 недель. Итак, очень думаю, что если пойдет леченье на лад, то доктор оставит меня еще хоть на неделю пить кренхен. Ну, а если на две? Ведь придется остаться, хотя это было бы мне ужасно тяжело: скука терзает меня, изгрызла меня в этой скверной дыре. Что за публика, что за рожи! Какие подлейшие немцы! Немцы "с вывертом". Русских здесь наполовину, про них и говорить нечего; всегда грустно смотреть на русских, толкающихся за границей; бессодержательность, пустота, праздность и самодовольство во всех возможных отношениях. Не глядел бы на них, но здесь и гулять негде: или толкись на пространстве, весьма тесном для такой публики, или. уходи в горы, но дальше, потому что ближайшие тропинки все полны. А дальше идти нельзя; мне сказали, что с моею грудью, положительно вредно уходить далеко по горной дороге, ибо слишком большое усилие надо делать, чтоб взбираться туда. А в довершение счастья у нас жара собачья: вот уже дней пять 26 и 27 град<усов> в тени реомюра. Я, как во Флоренции, меняю по три рубахи в день. Но во Флоренции хоть вечером-то. можно было выйти, а здесь в половину уже 8-го все больные уходят домой, а гуляют только здоровые, которых много и которые черт знает зачем сюда наехали. Чуть зайдет солнце за горы (смеркается рано, в 9 часов почти ночь), то сейчас же начинается сырость. Да и днем, когда кругом точно печка, нет- нет да вдруг и потянет прескверный, свежий ветерок, но вовсе уж не целительный, а губительный, точно сквозной. Все эти тысячи людей ходят в совершенно летних костюмах; один только я, хоть и в летнем (1) жилете, но в зимнем пиджаке и потею ужасно. Сшить же платье из коломянки не решаюсь: во-1-х, просят нестерпимо дорого, а во-вторых, приехав сюда, я заказал белый жилет портному, которого мне указали как лучшего. Что ж, он только 3-го дня (то есть с лишком две недели спустя) доставил его, несмотря на то, что я заходил каждый день. Сверх того короток, морщит и матерья подлейшая (пике). Я заплатил деньги, три талера, но носить вряд ли буду. Итак, можно ли здесь заказывать? Во всем Эмсе только 2 портных, что тут делать. Мне надо было помады купить после ванны, и француженка запросила с меня 2 талера за помаду. Я стал браниться и торговаться, и она уступила за талер.
Свинское, подлое место, подлее которого нет на свете!
Здесь есть с которыми я раскланиваюсь из русских, из тех, которые, увидя вас, вечно подходят рекомендоваться. Один из них (держит себя большим джентльменом) уверяет, что встречал меня у Полонского. Сюда приезжает по понедельникам висбаденский поп Тачалов, заносчивая скотина, но я его осадил, и он тотчас пропал. Интриган и мерзавец. Сейчас и Христа, и всё продаст. Ерник дрезденский поп кричит всем, что он пражскую церковь построил, а Тачалов хочет выказаться, что это он обращает старокатоликов. И ведь удастся каналье, уверит, тогда как глуп как бревно и срамит нашу церковь своим невежеством перед иностранцами. Но в невежестве все они один другому не уступят.
Твое письмецо и рассказы твои о детках меня оживили; я был в таком грустном настроении после припадка, а оно как раз и пришло. Пиши, ангел мой, почаще, мне очень тяжело. Перечитал письмо раза четыре. Спасибо, что меня любишь, я тебе верю, и это одно меня здесь поддерживает. Про деток рассказывал вчера княжне Шаликовой. Она вчера уехала в Рейхенгалль, в баварский Тироль. Это прелестная, хотя отчасти и комическая старенькая старушка, слишком чувствительная, слишком восторженная, но и истинно добрая. Она ужасно просила меня познакомить ее с тобою, если она приедет зимой в Петербург. Это будет хорошо, потому что она совсем нескучна. Работы мои на время припадка (дня 4) совсем оставил. Не могу совсем. Не хотел бы еще с кем-нибудь знакомиться, и потому постараюсь сидеть больше дома, да и ноги болят, и голова тоже. Хозяйка то и дело что приписывает мне на счете и кормить начинает хуже. В эту жару у меня и аппетит стал хуже, и желчи больше. А здесь аппетит дело важное: главнейший (2) признак, что воды действуют. - Милая Анечка, ну вдруг случится, что, видя хорошее действие вод, доктор усадит меня недели на 2 лишних (а если в самом деле будет польза, как же можно мне бросать дело и бежать?). Тогда ведь тебе придется, пожалуй (хотя не думаю), одной переправляться в Петербург из Руссы. Впрочем, повторяю, не думаю, чтоб так было, и время все-таки будет мне к вам явиться. Напишу тебе еще дней через 5. Пиши тоже. Здесь почти нет никаких русских газет. "Московск<ие> ведомости", да и те вот уже больше недели как не приходят! - Обнимаю тебя тысячу раз; ты одна у меня в сердце, и в душе, и во сне. Деток милых благословляю и целую. Каждый день по нескольку раз вспоминаю их милые личики. Скажи им, что я их целую, и говори с ними обо мне почаще. Пей воду и старайся поправиться. Совещайся с доктором когда надо, не скупись. Чуть что у вас случится, или, не дай бог, сама заболеешь - сейчас же извести. До свидания, больше решительно написать не могу, механически не могу; голова кружится, и всё болит (после припадка). Сидишь дома без движения, в тени, и то потеешь. Ночью сегодня я пять раз переменил рубашку. Обнимаю тебя тысячу раз.
Твой весь тебя одну любящий сердечно и всегда твой муж
Ф. Достоевский.
Всем нашим кланяйся, а деток поцелуй лишний раз от меня. Тебя целую 15000 разов, и всё не будет лишнее, напротив, будет совсем не лишнее.
(1) было: зимнем
(2) было: первый
539. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
1 (13) июля 1874. Эмс
Понедельник, 1/13 июля. Эмс.
Сегодня 6-й день моему припадку, голубчик Аня, и в голове у меня хоть несколько прочистилось (хотя далеко не совсем), и потому мне вздумалось написать тебе, чтоб подать тебе пример писать через 5 дней, хотя от тебя и не получил еще письма после того, о получении которого уже писал тебе. Но я и не рассчитывал получить; думаю только, что ты послушаешься меня и, по моим последним просьбам, станешь писать каждые пять дней. - Княжна Шаликова рассказывала мне, что Катков, когда уезжает из Москвы, пишет жене своей каждый день по письму. (Княжна давно уже уехала, еще в среду.) - Со мной случилась здесь маленькая история: я принужден был переменить квартиру. Рядом с моими двумя комнатами нанимали 3 комнаты какие-то богачи из Вены, муж и жена, пробыли недели 2 и уехали. В то же утро приезжает из Вены какой-то австрийский граф с лакеем и говорит, что ему надо все 5 комнат этажа (то есть и мои), а то ему некуда девать своего лакея. Хозяйка приходит ко мне и начинает умолять, сложа ладони, чтоб я уступил графу мои две комнаты, а сам перебрался бы в верхний этаж, где тоже две комнаты, и отдает она их мне с уступкой, то есть не по двенадцати, а по 8 талеров в неделю. Я увидел, что мне нельзя не перебраться, ибо наживу в хозяевах врагов, а они уж и без того начали меня скверно кормить и ужасно обсчитывать. Комнаты оказались ужасно низенькие и душные, а весь этаж полон самыми мелкими жильцами из немцев, хохочущими, топочущими, поющими и кричащими, безо всякой деликатности, как настоящие грубые немцы. На другой же день я приискал квартиру, и как раз чрезвычайно удачно, - тоже очень близко от источника, тоже privat-hotel, тоже 12 талеров в неделю и в бельэтаже, но комнаты еще лучше и удобнее меблированы, больше, выше и сверх того с балконом. Обедать я буду в ресторане за 20 грошей, но прежняя хозяйка, бравшая с меня тоже 20 грошей (а когда и 25), давала мне вдвое хуже и беднее кушание. Здесь утренняя порция кофе 8 грошей, а у той хозяйки 12 грошей (а прежде ставила и 15). Ужин, то есть котлетка и чай с печеньем (собственно, чай мой), здесь 10 грошей, а у прежней хозяйки 15, - так что я даже выиграл. Кроме того, та брала по талеру в неделю за прислугу, а здесь прислуга вместе с квартирой. По крайней мере, не будут меня так нагло грабить, как грабили в той квартире.
Таким образом, вторую половину моего здешнего бытья пробуду я на другой квартире. Не знаю только, сколько еще придется мне здесь остаться, и рассчитываю, что дней 12, не более, от сего дня. Здесь некоторые опытные больные (н<а>прим<ер>, Кублицкий, посещающий Эмс уже 20 лет) уверяют, что важное тоже дело не перепить вод лишнего, потому что это только ко вреду будет. Кошлаков говорил: 6 недель, но таких сроков здесь не знают, и никто долее 28 дней не лечится. Это maximum, но остаются и гораздо менее. Моя 1-я здесь неделя, когда я пил кессельбрунен и держал ошибочную диету, не может идти в счет. Вообще дней 12 останусь, но никак не более, а там что скажет доктор. Нельзя, чтобы не вышло пользы. Все больные говорят, что главная польза оказывается впоследствии (то есть уже зимой), но такое мнение, по-моему, только райские песни. Положительного же я заметил над собою, что, особенно в последнюю неделю, не так задыхаюсь, как в Петербурге, не ударяет кровь в голову, когда кашляю, и, наконец, что почти совсем не бывает сухого кашля (то есть кашляешь-кашляешь и не можешь откашляться, как в Петербурге). Но взамен того - все-таки кашляю; чуть сырость - тотчас же накопляется мокрота, и даже в очень сырые ночи, хоть и не очень, но пенье в груди по-прежнему. Обескураживает меня то, что если есть облегчение действительно (а оно есть), то единственно после приема воды, а чуть перестану пить, и начнется опять по-зимнему. А впрочем, и в сжатом воздухе так же было: чуть перестал лечиться, и началось хуже, хотя уже не возвращаюсь к тому состоянию, в котором был до лечения. В этом действительно помог и сжатый воздух. Здесь вообще чувствую, что как будто мне больше воздуху дышать. Но что за подлый здесь воздух! Веришь ли, Аня, я считаю Эмс даже хуже Петербурга по климату. Последние 8 дней была каникулярная жара (26 в тени). Но это равняется по мучению 37 флорентийским (помнишь?). Здесь мне открыли старожилы, н<а>прим<ер>, вот какое свойство Эмса: чуть упадет ветер, и хоть даже всего только 20 град<усов>, но все начинают потеть, все мокрые. Я в эти 8 дней 26 град<усные> переменял по 4 рубахи в ночь. Но то скверно, что вдруг всё стоит не шелохнется, воздух недвижим, и вдруг потянет откуда-то (из ущелья) буквально ледяной струёй, ну и простужаются. Насморк здесь вещь самая обыкновенная. В эти дни, просыпаясь в 6 часов, я недоумевал каждый раз, смотря в окно, в чем выйду? - весь укутанный или налегке, потому что туман, целое облако, мрак и сырость, через полчаса всё расходится, и опять блеск. Вчера и третьего дня были дожди и много туману, и мне было хуже. Но всего больше потел я потому, что всё ходил в моем драповом пиджаке, хоть и в белом жилете. Мне сказали, что я непременно простужусь окончательно, если не заведу летнего платья из коломянки, и я принужден был заказать за 17 талеров. Сегодня будет готово, но цвет и выбор мне не нравится, да и матерья не английская, а здешняя. Одним словом, здесь всё ужас как дорого. Жилет мой белый, от другого портного (3 талера), нельзя носить. Я купил еще шляпу еще (1) как приехал, 2 талера, - эта вышла недурная. Одним словом, милая моя Анечка, я предчувствую, что ты, читая письмо это, обвинишь меня в эгоизме: "Всё об себе да об себе!" А ты не поверишь, друг мой бесценный, как мне тяжело без вас! Здесь много детей; чуть услышу детский голос, и у меня захолохнет на сердце. Вчера к вечеру, перетащившись на новое место, только и думал что о тебе да об детках. Так грустно стало вечером. Жду с нетерпением письма от тебя, рассчитываю, что получу в среду. Пиши больше об детках. Я прочел рассказ об мужике и Феде княжне Шаликовой, и она разахалась от восторга, равно как и о перемене голов. Веришь ли, писал тебе в прошлый раз письмо, а ведь даже не помню, что писал и при каких обстоятельствах на почту отдал: совсем померкло всё в голове, и, должно быть, этот раз был сильный припадок.
Обнимаю тебя изо всех сил, целую детишек (что делаю мысленно каждый день), всем поклон, батюшке и Александру Карловичу; няне тоже, не забывай ей водочки. - Подлый висбаденский поп напомнил мне о проигранном пари и потребовал, чтоб я внес 25 талеров в Славянский комитет; непременно внесу, сукин он сын. Вот грубая-то тварь. Я сам, впрочем, был с ним не совсем вежлив. Если еще раз сойдусь - разругаюсь: редко встречал что-нибудь антипатичнее. Вообще, чувствую, что у меня здесь сильно страдает печень. Аппетит хорош, но странно: я не только не пополнел (как в Старой Руссе), но еще похудел.
До свидания, мой ангел бесценный, обнимаю тебя, (2) целуй Любу и Федю; Люба-то меня помнит, но помнит ли Федя?
(На всякий случай мой адресе: Bad-Ems, hфtel Ville d'Alger, № 4-5), но пиши непременно по-прежнему poste restante.
Твой Достоевский.
(1) было: впрочем
(2) далее было начато: и веришь ли
540. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 (17) июля 1874. Эмс
Эмс. Пятница 17/5 июля/74.
Милочка моя Аня, вчера получил бесценное письмо твое и боюсь, что опоздал ответом на него, ибо хотел сперва сходить к доктору и, только узнав его решение, написать тебе; сегодня же задержали разные мелкие пустяки, так что теперь уже 11 часов утра, и не знаю, успеет ли пойти сегодня это письмо. Приход каждого твоего письма для меня равен какому-то "освобождению", накануне и за два дня я становлюсь боязлив и мрачен: "всё ли там благополучно, не случилось ли чего?" Не поверишь, как я стал мнителен и раздражителен. Очень рад, что будешь писать каждые 5 дней. Известия о детях мне необходимы. Не могу смотреть даже здесь на детей хладнокровно, а если заслышу где плач детский, то впадаю в тоску и в дурные предчувствия. Раздражительность мою приписываю леченью: у всех, говорят, так же расстраиваются нервы, и в особенности страдает печень. По-моему, и мозг. Ты пишешь о своем леченье; но только плохо, что лишилась аппетита и худеешь. Кончай скорей эту воду, Аня, допей ее и принимайся есть всё безо всякой диеты, а то это значит только мучить себя. Пеняешь мне, зачем я пишу только 5 страниц. А потому, во-1-х, что каждый раз боюсь опоздать на почту, во-вторых, что положил писать чаще, и, наконец, чтоб была пустая страница для обертки письма, иначе всё через конверт просвечивает. - Всех вас очень люблю и целую 1000 раз. Деткам напоминай обо мне. Наблюдай особенно Любу, так как она в тебе более нуждается, чем Федя, у которого своя няня, а у ней няня только Федина. - Теперь расскажу поскорее что надо о себе. Припадочное состояние продолжалось дней шесть. Есть здесь один Кублицкий, очень похож на Полонского во всех отношениях, и даже так же, как у Полонского, ноги болят. Я с ним иногда встречаюсь и говорю, но ходить с ним не могу, потому что он одну ногу едва волочит, он же претендует, что я слишком скоро хожу. Раз утром в 8 часов (5 дней тому назад, на другой день, как я переехал на новую квартиру) слышу, окликает меня в аллее (по которой я по обыкновению прохаживаюсь полчаса после утренней воды) Кублицкий: "Ф<едор> М<ихайлови>ч, у вас нет лихорадки?" Я оглянулся: "Что это вам так прямо вздумалось начать с лихорадки, точно выстрелили, нет, никакой у меня нет лихорадки". - "Я к тому, что в середине лечения многие ощущают обыкновенно лихорадку или тяжесть в ногах, боль в голове и проч."
- "Нет, я ничего не чувствую, прощайте". - "Прощайте..." С тем и разошлись. В тот же день сейчас после обеда заболела голова. Пошел пить воду, читал газеты, вечером в 6 часов перехожу мостик и вдруг чувствую озноб. Поскорее пришел домой, ударило в жар, ночью бредил, но потел и переменил 4 ночных рубахи и измочил потом все простыни. Наутро даже похудел от поту. Решил, что простудился в день переезда на квартиру, когда при 25 град<усах> в тени шел дождь, поднялся туман, а у меня балкон стоял открытый до 10 часов ночи. Но каков же, однако, глаз у этого Кублицкого!! И, главное, ведь ничего больше и не сказал, как только спросил, неизвестно зачем, о лихорадке.
Я, однако же, пожалел денег, к доктору не пошел, тем более что наутро, кроме раздражительности (которая каждое утро у меня ужасна), ничего особенного не чувствовал, аппетит был прекрасный, и все отправления тоже. Решил, что лихорадка мимолетная, как это и есть в моей натуре. Но ровно в 7 часов пополудни меня опять ударило в жар, ночью хоть не бредил, но потел точно так же, как и в первую ночь. Наутро опять здоров, вечером на третий день в 7 часов опять жар, опять всю ночь потел, наконец вчера жару не было, но все-таки потел. Я думаю, Аня, что я от этого поту стал вдвое легче весом, похудел же ужасно. Однако же вчера отправился к Орту и всё ему рассказал, главное то, что я уже 12 дней принимаю кренхен 5 стаканов с молоком (три утром, три вечером), кашляю по утрам, вставая, очень, затем после кренхена, в продолжение всего дня, кашляю очень мало, очень легко отделяется мокрота, почти никогда сухого (прежнего кашля). Но зато все-таки, пробуждаясь, каждый день - кашляю. Орт очень подробно и долго меня осматривал и вот что изрек с самодовольным видом: "В трех местах грудь зажила совсем, но в двух (спереди внизу и сзади в спине) еще не зажило". И потому: продолжать лечение, вместо недели, которая мне оставалась сроком (прежде определенным) пить кренхен, прибавить еще неделю; вместо трех стаканов с молоком поутру - пить по 4 стакана и по 2 вечером, и "я вам ручаюсь, что выздоровеете совершенно; говорю же по фактам, ибо в трех местах уже зажило. Заживет и в двух остальных. Простуды не было никакой, а просто сильнейшее действие вод, что есть самый хороший и ободряющий признак". Итак, Аня, милая, вот пока в каком положении дело. Я сам думаю, что кренхен приносит пользу большую, но зато, - от сегодня 12 или 13 дней еще продолжать пить! Ну, а если найдет нужным и через 2 недели еще остаться недельку, то есть что-нибудь еще не заживет в груди? Веришь ли, Аня, мне до того опротивел Эмс, что хоть уехать, не докончив лечения. Я возненавидел здесь каждый дом, каждый куст. Вид публики для меня несносен. Я до того стал раздражителен, что (особенно рано утром) на каждого в этой беспорядочной толпе, которая теснится у Кренхена, смотрю как на личного врага моего и, может быть, рад был бы ссоре. Говорят, это тоже действие вод (тем более что в другие часы дня я гораздо добрее), но мне-то не легче; нечего делать, буду терпеть еще, в ожидании успеха. Веришь ли, я иногда мысленно сравниваю: где мне было лучше: здесь или в каторге? И всегда решаю, буквально (и вполне беспристрастно), что в каторге все-таки было лучше, покойнее: не так я волновался, раздражался, не так был мнителен.
Насчет денег будь покойна, у меня хватит, а только согласись, что под конец всё вышло так, как Кошлаков предписывал, то есть кренхен с молоком и 6 недель. Правда, я буду пить только 5, а, кто знает, может, и на шестую оставят.
Всё, что я читаю, - мне противно. Про свой план думаю с раздражением. Мне все говорят, что малейшее умственное занятие вредит лечению, раздражит к худшему нервы и что надо жить жизнью растительною. Доктору очень нравится, что у меня аппетит: "Главный признак успешного лечения, - говорит он,
- и признак того, что лихорадочные припадки не от простуды". Одним словом, он, кажется, меня находит одним из самых успешных пациентов.
Аня, милая, бесценная, как я рвусь к вам, как мне здесь противно! Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя и вижу ли тебя во сне? Что на это отвечать? Но кстати (мимоходом): веришь ли, что я обратился в мумию и что во мне нет желаний. Первый раз в жизни, неужели тоже от лечения? В таком случае... Тем не менее целую тебя, ангела моего, 1000 раз каждодневно, мысленно, но представляю тебя не иначе, как вместе с детками. Представляю же вас всех часто. Я думаю, я сделался очень чувствителен, как женщина.
Я ложусь (уже в постель) ровно в 10 часов, встаю в 6 часов утра, но ночью просыпаюсь раз по пяти, хотя спал бы хорошо, если б не пот. На новой квартире мне очень хорошо. Прежняя хозяйка ужасно меня обсчитывала. Обедать я хожу теперь по разным ресторанам. Чай держу свой. Стараюсь скупиться. Немцы и вся публика несносны. Впрочем, лица беспрерывно меняются. В последнюю неделю ужасно много наехало новых; русских тоже много. Я с некоторыми только кланяюсь, с иными разговариваю. Писал бы тебе и больше подробностей, но лучше расскажу при свидании, а то напрасно загромождать письмо пустяками.
Расцелуй Федичку, который ничего не нашел приказать написать папе. Милый, славный мальчик. И, наверно, пречувствительный! Все они у нас чувствительные, но не экспансивно, а про себя (что и дурно, и хорошо), и наверно - оба поэты. Это очень хорошо, если только писать не будут. Ходи за Лилей и за ее душой. Полякову писать не стану. Я на всё согласен, напиши ему. Все они более или менее мерзавцы. Губин всё погубил. Очень любопытные сведения об Иване Григорьевиче: и покупка имения, и жизнь в Петербурге. Тут она влияет.
Целую вас всех, обнимаю. Всем кланяюсь - Александру Карловичу, сестре его, няне, отцу Иоанну нашему. Думаю, как тяжело будет деткам переезжать в Петербург.
Обнимаю тебя особенно и целую всю. Люблю тебя бесконечно.
Твой Ф. Достоевский.
Ты одна у меня радость и одна моя надежда, неизменная. Я люблю все подробности, которые пишешь о себе, - особенно некоторые.
Я думаю, я пробуду в Эмсе вплоть до дня рождения Феди, включительно.
541. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 (20) - 9 (21) июля 1874. Эмс
Понедельник 20/8 июля/74.
Милый друг мой, дорогая Аня, сегодня получил твое письмо, и хоть не успею отправить сегодня ответ, но всё равно начну его. Благодарю, во-первых, что пишешь чаще. Это прекрасно. А то ждать было мучительно. Отправив тебе последнее письмо (в среду, кажется), я очень тосковал о том, что ты писала о своем здоровье, и рад был, что Шенк хоть на время отложил питье вод. Что ж, если швальбах так враждебно действует, - так и оставить его. Но Шенк велел, как ты пишешь, только погодить, а там опять начать; не видит ли он признаков действия вод? Может быть, эта тоска твоя, раздражительность - больше ничего как действие вод. На меня здесь кренхен точно так же действует, и хоть теперь мне только скучно и тоскливо, как в каторге, но все-таки я не так раздражителен, как был еще недавно. А если б только рассказать все другие действия на организм! Лихорадка моя прошла на другой же день, как я отправил тебе последнее письмо, и я уже больше не потею совсем, хотя жара ужасная. Из того, что прошло лихорадочное состояние без малейшего приема лекарств, и заключаю, что лихорадка была не простудная, а просто действие вод. Пишешь тоже, милочка Аня, жена моя, о других припадках. Хотя тоже у меня в этом роде: сначала были ужасные желания, потом вдруг всё прошло, и я обратился в мумию; потом опять началось, хотя едва, но, однако же, с ночными последствиями, что очень дурно, ибо все-таки действует на грудь. Что касается собственно до леченья, то боюсь сглазить, а кажется, что лучше: дышать легче, хрипу и одышки очень мало, даже вот уже дня три по утрам, когда просыпаюсь, мало очень кашля. Однако ж скверно то, что иногда простужаюсь: чуть только на потную грудь капельку ветерка, и вот уже здесь и простудился и прокашлял вечер или день (редко дольше, быстро проходит). Теперь мне остается дней 9 или 10 принимать (по последнему решению доктора). Что-то будет? Не заживет ли и в самом деле? И, однако же, если я пробуду даже до 1 августа (нов<ого> стиля), то все-таки я пил кренхен в сложности всего только 4 недели (5-ю неделю кессельбрунена, я думаю, нельзя считать). А Кошлаков сказал: шесть недель! Вся важность теперь в двух вещах: во-1-х, долечиться, а во-вторых, не перелечиться.
Кроме того, надоело здесь до того, что лучше, думаю иногда, не долечиться. Говорят же здесь иные пациенты, что с одного разу никогда не вылечиваешься радикально, если даже и сильно действуют воды, а главное 2-й раз, то есть на будущее лето приехать на 2-й курс, тогда, дескать, болезнь искореняется окончательно. Однако шутка это сказать! Мало ли что выдумаешь; и подумать только об этакой муке. Ах, Аня, как мне здесь всё ненавистно. Какие подлые немцы; а русские, может, еще хуже немцев. Эмс, большею частию, каждые две недели переменяет своих жителей: остаются не более 1/3 старых, а другие уезжают, так что вдруг начинаешь примечать, что совсем пошли другие физиономии. Если б ты Аня, знала, какие здесь противные теперь физиономии; прежде был еще остаток публики, бывшей при императорах, а теперь - это бог знает что такое. Я всё стараюсь ни с кем не знакомиться, хотя есть которые гоняются, чтоб со мной познакомиться (из русских, например). Кроме того Эмс страшно дорогой городишко. Я очень много плачу, и если б ты знала, как всякий из этих немцев считает тебя за доходную статью, как безо всякого стыда приписывает на счете то, что ты никогда не брал, надеясь, что ты не проверишь! Но обо всех этих мелких подробностях расскажу после, если только будет стоить потом припоминать о такой пакости.
Вторник 21 июля.
Твои анекдоты о детишках, дорогая ты моя Анька, - меня просто обновляют, точно я у вас побывал. Лилины "добрые люди" меня ужасно развеселили: я читал твое письмо в саду, только что получив с почты и выбрав уединенную скамейку, чтоб прочесть, и расхохотался так, что и сам не ожидал. А знаешь, в воспитании наших деток есть большой недостаток: у них нет своих знакомств, то есть подруг и товарищей, то есть таких же маленьких детей, как и они. А все-таки, хоть ты и пишешь письма, а я об детях беспокоюсь страшно. Почему Федин жир не понравился Шенку? Находит он это опасным, что ли? Впрочем, во всяком случае, скоро вас всех увижу. Теперь не худо чаще писать уже хоть по тому одному, чтобы знать поскорее, когда нужно прекратить письма. Полагай наверно, что к 1-му августа отсюда выеду, а ведь бог знает: может, и до 7-го августа велит остаться Орт. Излечение хоть и заметно, а все-таки идет довольно медленно. Правда, до 1-го числа еще 9 дней, даже 10, но всё же мне как-то не верится, что можно в этот срок получить облегчение окончательное, потому, н<а>пример, что вот хоть сегодня, н<а>прим<ер>, с утра кашель усилился, потому что в воздухе очень сыро и понизился барометр, хотя дождь и не идет. Невероятно кажется воображению, чтоб всё это так вдруг прошло, хотя и действительно получилось облегчение. Опять-таки, если долго лечиться, то выдержит ли организм? Мне здесь только что рассказали про одного больного, который принял ванн 20 (я ванн не принимаю) и почувствовал чрезвычайное облегчение; но доктор, обрадовавшись, прописал ему еще 10 ванн и тем вдруг ослабил его так, что всё прежнее лечение было парализовано, и он уехал больнее, чем приехал. Орт особенно расспрашивал меня (и спрашивает каждый раз), не начинаю ли я чувствовать слабости, потери сил? Я в последний раз отвечал ему, что ничего такого не чувствую, но не знаю, правду ли я сказал? Я уже давно чувствую как бы беспрерывную усталость, хотя пью, ем, сплю и хожу по-прежнему. Здешние воды, говорят, очень сильны, и я понимаю, что Орт боится расстроить организм и тем потерять все результаты леченья.
На днях встретил здесь Штакеншнейдера, того самого, который прокурором в Харьковском окружном суде. Он только что женился в Харькове, в мае месяце, и поехал с женой месяца на два за границу (это как мы, помнишь, только мы не на два месяца). Он очень простодушный и откровенный молодой человек, очень неглупый, был у меня и рассказал мне, что были они в Париже и там - поистратились, но так, что приходится очень и очень рассчитывать, как добраться до дому. Но в Швейцарии, дней 5 тому назад, в Цюрихе, одна медицинская знаменитость, которую он просил осмотреть свою немного заболевшую грудь, осмотрев его, испугался и велел настоятельно, пока они здесь за границей, не потерять времени и хоть две недели да полечиться кренхеном. (Сюда многих присылают недели на 2 или даже на 10 дней.) Они стоят в тесной квартирке, впрочем, ходят в лучший table d'hфte обедать. Ей лет 18, и она очень недурна собой (hautes couleurs) - совсем русская, и оба они ругают ужасно немцев. Я у них не был и норовлю нарочно отдать визит в тот час, когда по расчету их не будет дома. Дело в том, что мне всё это скучно, всякое знакомство, всякое новое лицо скучно. Нет, Аня, голубчик, я себя, ей-богу, по праву считаю выше всей этой среды - не нравственными достоинствами, конечно (об этом богу судить), а развитием: что их веселит, то мне скучно, разговоры их, мысли их - для меня бесцветны и мелки, тон их - низок, образование совершенно ничтожное, самостоятельности никакой, зато чванство и грубые выходки. Я не про Штакеншнейдеров говорю, а про всю эту здешнюю шваль, я русских, и немцев. Я до того иногда раздражителен, что хоть и даю себе слово молчать, но не могу иногда удержаться. Давка у Кренхена, где раздают воду в стаканы (ты отдашь свой стакан, и тебе из-за баллюстрады возвращают его наполненный), ужасная. Хуже всего хлопочут и теснятся женщины и, кто бы мог подумать, - старики немцы. Отдает стакан и толкается, и рвется вперед, и руку протягивает, и весь дрожит. Почти каждый день я кому-нибудь из этих немцев не удерживаюсь и читаю наставления: Mein Herr, man muss ruhig sein. Sie werden kriegen. Man wird nicht verzeihen. И вообще я считаюсь (я слышал это) между некоторыми пьющими (1) немцами очень желчным русским - и, как ты думаешь, главное за то, что я не даю обливать себя водой (как случилось раз) и сверх того не даю класть себе сзади, на мое плечо или спину, руку с стаканом сзади меня ожидающего. Немцы до того грубо воспитаны (все), что если он стоит сзади кого бы там ни было в ряду и ждет очереди, то так как он держит в руке стакан и от нетерпения беспрерывно подымает его, чтоб показать, что он ждет, то, чтоб не держать стакан на весу, он и кладет обыкновенно свою руку с стаканом на плечо впереди стоящего, даже хоть на даму. Я этого раз не позволил и прочел одному немцу наставление, что он дурно воспитан. Немец вспыхнул и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. Я ответил ему, что, чтоб быть вежливым, для деликатного человека всегда найдется место. Тем и заключился спор. Поверь, Аня, что измучившись 1 1/2 часовой прогулкой (при питье вод), когда придешь домой и пьешь в 9-м часу сквернейший в мире кофей, но с ужаснейшим аппетитом, то, вспомнив иногда об утренней какой-нибудь встрече, так и захохочешь. Ну, а в другой раз ужасно досадно и серьезно: нельзя же всё приписывать действию вод - есть и вещи сами по себе очень досадные, независимо от действия вод.
В другой раз на днях, в table d'hфt, рядом со мной, одно многочисленное русское семейство, заметил я, ищет моего знакомства. Ну и пусть. Но я ни слова еще не сказал, а мне, встречаясь, все вдруг начинают кланяться. Отец семейства (егоза ужаснейшая) полез заговаривать о литературе. Нечего было делать, я сел на третий день обедать на другом конце залы и, уж кажется, явно сделал, потому что прежнее место давно уже считалось моим. Что ж ты думаешь, он-таки пришел ко мне на новое место, разговаривать. Есть, впрочем, и порядочные русские.
Но, впрочем, я всё тебе пишу о таких пустяках. Скучно мучительно, вот что главное! Клянусь, до сих пор я не знал, что такое скука. Перекрещусь, выехав из Эмса. Но, кстати - куда выеду из Эмса? Здесь у докторов за правило взято послать. хоть на неделю, после конца курса, подышать чистым воздухом: в баварский Тироль, например, или даже на Комо. Но я, очевидно, до того истощу здесь финансы, что хоть на прямое у меня на всё достанет, но заезжать куда-нибудь уже нельзя будет. Не хватит кармана.
Анька, милая, радость ты моя, об которой мечтаю, обнимаю тебя крепко-крепко. Будь здоровее, будь веселее (отчего ты хоть в преферанс не играешь, как в прошлый год) и ходи за детьми. Детишек благословляю и целую. Напоминай им обо мне. Скажи им, что я только об них и думаю. Ну, прощай. Пошел дождь (при 25 град<усах> тепла), и хоть почта и близко, но не знаю, как туда попаду. Еще раз обнимаю тебя и целую всю, как ты и вообразить себе не можешь.
Няне и всем поклон.
Твой весь Ф. Достоевский.
Я здесь очень похудел - всем телом: действие вод.
(1) далее было: человеком
542. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
14 (26) июля 1874. Эмс
Эмс. 26/14 июля. Воскресенье.
Бесценный друг мой Аня. В прошлом письме своем ты обещала писать во вторник, и так как в таком случае письмо твое должно было прийти непременно вчера, в субботу, то я был чрезвычайно поражен, что оно не пришло. Мало того, сегодня, в воскресенье, заходил утром в 8 часов на почту (почта из Берлина приходит и (1) в 10 часов вечера), думая, что вчера поздно могло прийти твое письмо, но опять-таки услышал: "Nichts da". Признаюсь, я в большом волнении, и дай бог, чтобы с вами со всеми ничего не случилось. Ночью даже худо спал, думая, что ты захворала, а потому и не могла написать. Воображаю тоже, не случилось ли какой беды с детьми, и ты не хочешь писать, чтобы не испугать меня. Ах, Аня, если ничего не случилось, то худо с твоей стороны, голубчик, обещая наверно и точно писать, сманкировать. Если б ты знала, как на меня это всё болезненно действует! Вот я тебя теперь упрекаю, а сам думаю: "А что, если она теперь больная лежит". У нас здесь, в Эмсе, такое проклятое заведение, что по воскресеньям, с 9 часов утра, почта заперта и открывается лишь вечером, на одно какое-то мгновение. И вот уже я здесь 5 воскресений, а ни разу не мог застать это мгновение, потому что точного часу не назначено; придешь вечером - говорят: "Сейчас была отперта, а теперь уж до завтра". Это у них такой порядок при таком огромном числе посетителей! Так что я теперь вдвойне в тоске. Может, и сегодня не получу письма от тебя, если даже оно и придет. Что же, если не получу и завтра и послезавтра? Тогда телеграфирую. Пройду сегодня на телеграфную станцию узнать, нет ли телеграммы. Вообще весь день для меня сегодня будет мученьем, вплоть до того времени, как получу от тебя что-нибудь.
Если б получил вчера, то вчера же и отправил бы тебе ответ. А сегодня, так как почта будет заперта, то не знаю, удастся ли еще отправить. Кроме того, что мне, прежде отправки, хотелось бы сначала и твое письмо получить, на случай если в твоем письме будет что-нибудь, на что надо будет настоятельно-скоро ответить. О себе скажу, что леченье мое идет ни то ни се. Вот уже 10 дней прошло, как Орт назначил мне усиленный против прежнего прием вод, предвещая успех. В результате, хоть и есть действительно облегчение, то есть - все-таки меньше перхоты, легче дышать и проч<ее>, но хрипота в известном (больном) месте остается, и больное это место в груди окончательно не хочет зажить. К тому же у нас, последние 4 дня, дожди, а утром туманы и холода. Усиленье хрипоты приписываю, конечно, этой сырости (сегодня, например, ясный день, хотя утром был страшный туман, и мне несравненно легче), но уж одно то, что по-прежнему сырость имеет такое влияние на грудь, показывает, что болезнь не прошла и что, перестань я пить кренхен, и всё опять воротится. В результате думаю так: нельзя, чтоб я не вынес какой-нибудь (и может, значительной) пользы от леченья в Эмсе, но эта польза очень-очень похожа на ту пользу, которую я вынес зимой от леченья сжатым воздухом, то есть что получил решительное облегчение, что без лечения сжатым воздухом, может, лежал бы и иссох от лихорадок и дизентерии, но тем не менее полного излечения не получил. Так, верно, будет и здесь. Вчера ходил к Орту и объяснил ему, что до срока, положенного им самим в прошлый раз (9 дней назад) для моего лечения и излечения, с надбавкой лишней недели и проч<ее> (о чем я писал тебе), - остается всего 3 дня (срок выходил во вторник) и что я прошу его посмотреть меня. Он осматривал и слушал, и, кажется, по виду его я заключил, что результат не совсем благоприятен. Он сказал мне, чтоб я еще остался в Эмсе неделю, так чтоб было ровно 6 недель моему пребыванию в Эмсе, и опять-таки весьма утвердительно обещал результат благоприятный. Я остаюсь, таким образом, примерно до 3-го или 4-го августа, а там уж и не знаю, набавит ли он мне еще неделю или нет? Думаю, что нет. Этим Ортом я всё время не совсем доволен; он обращается как-то легкомысленно и лечит точно наугад. Штакеншнейдер болен, кажется, еще больше меня и приехал сюда всего только на 3 недели, так как буквально не может пробыть дольше, и его доктор, Гроссман, которого мне здесь многие хвалили за его старательность и чрезвычайную внимательность к своим больным, - Гроссман назначил ему разом и кренхен, и пульверизационное лечение горла (здесь всех этим лечат), и минеральные ванны. Я же еще вчера приставал к Орту, не прибавит ли он еще чего к лечению моему, и он отвечал, что ничего не надо. Штакеншнейдер удивился, услыхав, что Орт даже горло мое не рассматривал никогда. Мне давно уже говорили, чтоб я сходил к Гроссману. И вот я вчера утром, перед Ортом, пошел к Гроссману. Тот, выслушав, что я лечусь уже 5-ю неделю у Орта, наотрез отказался меня выслушать: "У вас, дескать, есть доктор, так чего же вы ко мне приходите". Вот какие у них здесь нравы. Он, из camaraderie, из ремесленной своей чести, отказывает больному, тогда как больной имеет полное право не доверять своему доктору, а он обязан помогать всякому приходящему. Больной, таким образом, не смеет даже доктора переменить.
Таким образом, я пробуду здесь, от сегодня, еще неделю и, может быть, 1/2 недели следующей, а там, конечно, уеду, тем более что более 6 недель никто и никогда здесь не брал курса. Если не вылечился в такой срок, как 6 недель, то оставаться долее бесполезно. Таким образом, думаю, голубчик Аня, что по получении этого письма, если захочешь мне сейчас ответить, то ответить можешь (и я даже прошу тебя непременно написать), ибо очень может быть, что письмо еще успеет дойти. На всякий случай напиши его покороче. К тому же ведь я же оставлю здесь адресс на Петербург poste restante, и письмо это непременно нам воротят, прошу же я непременно написать потому, что, может быть, останусь и дольше, как решит Орт; я же пойду к нему не раньше понедельника или вторника после будущей недели, то есть дней через 9 от сегодня, чтобы получить полнее результат по отбытии всего назначенного им срока.
Чтоб заключить о себе, скажу еще, что вообще здоровье мое здесь чрезвычайно укрепилось, хоть я и не потолстел вовсе. Все отправления мои (сплю, ем и проч.) превосходны, каких уже много лет не было, и даже силами я гораздо крепче, чем когда приехал сюда, бодрее, меньше устаю. Штакеншнейдер находит, что я цветом лица несравненно лучше, чем как он помнит меня в Петербурге. Всё это я приписываю не эмскому климату, который ужасен, а решительно действию кренхена (вот почему всё еще надеюсь, что он и груди поможет, потому что здесь самый явный признак успешного лечения это тот, когда весь организм параллельно исправляется). Что же до скуки моей здесь, то она безмерна, неисчислима. Я не знаю, куда деваться от нее. Считаю, что это даже не натурально, а болезненно. К Эмсу я чувствую отвращение, ненависть, злобу. Теперь я вижусь лишь с одним Штакеншнейдером, да и то у источника; мы пьем и прохаживаемся вместе. Он, по-моему, прекрасный и препростодушный человек. Молодая женка его больше сидит дома и даже немного больная (ногами). Они звали меня, и я раз у них был. Они очень экономят, хотя и получили деньги. Да и я не знаю, как сэкономить, потому что деньги очень выходят, несмотря на то, что все расходы мои ведутся точно и правильно. Обедаю я теперь дома (мне приносят из отеля, за талер), чтоб не обедать за табльдотами, где почти везде, в залах, сквозной ветер. Дома же очень работаю над планом, об этом ничего не пишу. Но если выйдет план удачный, то работа пойдет как по маслу. То-то как бы вышел удачный план! А выйдет ли? Мне бы хотелось написать что-нибудь из ряду вон. Но одна идея, что "От<ечественные> записки" не решатся напечатать иных моих мнений, отнимает почти у меня руки. Но об этом не упишешь в письме. Вообще думаю о будущем очень. Думаю и о том, чем будем жить: задача большая. Выручал бог до сих пор, как-то будет дальше. Подлинно на одну только милость его надеюсь.
Голубчик ты мой, скоро, может, увидимся. Как я мечтаю об этом! Письмо это продержу как можно долее, в надежде, что придет сегодня от тебя. Ах, кабы пришло, а то не поверишь, как я боюсь. Обнимаю тебя и детишек, благословляю их. Мне всё снятся дурные сны, брат, отец, а их явления никогда не предвещали доброго. Ты знаешь, я этому давно уже принужден верить, по грозным фактам. Целую тебя крепко, стал мечтать об тебе больше, а это тяжело. Скажи что-нибудь от меня детишкам. Живы ли, здоровы ли они, мои ангелы? Всем кланяйся, няне особо. Твой всегдашний и неизменный
Ф. Достоевский.
5 часов вечера. Сейчас отперли почту, и от тебя нет ничего! Господи, что же это с вами случилось! Но если ты больна, почему же Александр Карлович не может уведомить; а слово дал. Аня, Аня, если б ты знала, как я теперь буду мучиться! Мне и без того до того тошно, что хоть руки на себя наложить от тоски! Но что, если в самом деле беда, а не одна твоя забывчивость! Господи, да хоть бы какое-нибудь уведомление, хоть несчастное, только б не эта неизвестность!
(1) было: иногда
543. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
16 (28) июля 1874. Эмс
Эмс. 16/28 июля/74.
Милый друг мой Аня, вчера, в понедельник, то есть 15/27-го, получил твое письмо от 7-го июля, с деньгами; выходит, что письмо твое (помеченное воскресеньем) шло 8 дней. Согласись сама, что так как ты обещала написать во вторник и письмо должно было прийти в субботу, а я не получил ни в субботу, ни в воскресенье, ни даже в понедельник утром (8 дней), то и был как сумасшедший; я вообразил, что и бог знает что с вами со всеми случилось. С воскресенья на понедельник (может быть, отчасти и от беспокойства) у меня был припадок, то есть каких-нибудь две недели спустя после бывшего недавно, так что теперь у меня очень тяжела голова, хотя припадок, сколько судить могу, был далеко не из самых сильных. - Письмо это пишу тебе наскоро, чтоб уведомить поскорее о получении твоего письма и поспеть на здешнюю почту. Удивила ты меня присылкой 50 руб., Аня; но ведь я тебе, кажется, уже писал, что у меня не хватит денег съездить в Париж, и я ехать и не располагаю уже давно. Если б был в Париже, то, конечно, купил бы тебе твою матерью, и мне очень странно, что ты в своем письме стараешься уверить меня, что ты тоже имеешь право на эти деньги. Да, разумеется, имеешь; мне-то уже не следовало этого писать.
Я, по крайней мере, весьма часто упрекаю тебя, что ты, при деньгах, не делаешь себе ничего нового (шляпки, н<а>прим<ер>, и проч.). Но если б я и побывал в Париже, то, признаюсь, (1) ужасно боялся бы не угодить покупкой, потому что в этом деле понимаю мало. Ты пишешь: если не фай, то 2 костюма суконных; но я уж совсем не знаю, какое тут сукно надо купить. Ты пишешь, что ни в каком другом городе, в Германии, не покупать, надеясь на французскую дешевизну. А вон Штакеншнейдеры только что из Парижа, где кое-что купили, и говорят, что в Париже вовсе не дешевизна; даже, напротив, с тех пор как уменьшилось во Франции повсеместно производство, всё даже вздорожало. Впрочем, повторяю, мне в Париж проехать будет трудно, за недостатком денег, а потому, наверно, не поеду. Деньги же твои постараюсь не истратить. В Берлине, мне кажется, товару очень много, много и чистого парижского, и не знаю, слишком ли дороже, чем в Париже.
Сегодня вторник 16/28, а когда я отсюда отправлюсь - не имею понятия. Пробуду неделю, положенную Ортом (срок выйдет на следующей неделе), а там, надо полагать, он наконец меня и отпустит. Сколько приглядываюсь, почти никого уже не остается из той публики, которая была во время моего приезда, все кончили курс и выбрались. Один я решительно всем глаза намозолил. Если уж в шесть недель не вылечился, то вряд ли можно взять количеством. Говорят здесь, что воды не сейчас оказывают действие, а потом, зимой, скажутся. Дай-то бог. Здесь мне еще в начале замечали, что 3-я неделя леченья вообще всем благоприятна, а на 4-й опять начинает становиться хуже. Точь-в-точь так было и со мною. На 3-й неделе кренхена я иногда чувствовал себя точно как бы совсем был здоров и возмечтал о совершенном излечении. А на 4-й неделе стало, видимо, хуже. Правда, портили мое лечение припадки; от припадка как-то сжимает грудные мускулы, и вчера, н<а>пример, сейчас после припадка у меня ужасно усилилась хрипота. Погода у нас тоже не лекарственная; вот уже дней 6 тарабарщина страшная: то солнце, то ветер, то дождь (в день раза три), то туман. А сырость мне пуще всего. Если б эмские воды да не в таком климате, право бы, они всех излечивали. Здесь теперь особенно наехали русские. Штакеншнейдеры скучают, как и я, но им, конечно, веселее жить, так как все-таки они вдвоем. Я же один как перст. Иногда, особенно после обеда, тоска, с которой ничто не может сравниться, а вечером и тошно, и грустно, и вдобавок ветер или дождь. Во все шесть недель ни разу барометр не стоял на хорошей погоде, так что если и были хорошие дни, то непременно завтра же надо было ждать перемены. Сама m-me Штакеншнейдер всё сидит дома; она больна ногами, простудила еще в детстве, и ревматизм; хоть она и недурна собой и, кажется, порядочный человек, но все-таки странная охота жениться на больной женщине. - Других знакомых я почти не имею, с иными только кланяюсь. Немцы же здесь несносны, нестерпимы. Княжна Шаликова мне уже написала письмо из Рейхенгалля. Остальные разъехались. Задача для меня, отпустит ли меня на будущей неделе доктор иль нет? Если б ты знала, как мне здесь тяжело, то поняла бы, что я об том только и забочусь, когда отсюда выеду.
Твоему письму я пуще потому обрадовался, что узнал, что вы живы и здоровы. Если б вчера не пришло оно, то вчера же послал бы телеграмму, с тем и шел. Напишу тебе, во всяком случае, еще письмо (а может, и два). Расцелуй и поздравь за меня Федичку, три года - экой большой человек! А ведь я видел его, когда ему было три минуты. Рад ужасно, что и твое здоровье (по письму твоему) лучше, а то я об тебе здесь-таки думал. Заботы, Аня, лежат впереди! За работу надо садиться, а я всё еще над планом сижу. Стал ужасно на этот счет мнителен. Как бы только удачно начать! Думаю, что падучая оставит меня в покое хоть в 1-е месяцы работы. А что, если я слабее стал для работы, то есть слабее материально, так что и работал бы, да голова долго уж выносить не может, как прежде бывало? До свидания, ангел мой, обнимаю тебя крепко, детишек благословляю, целую. Ведь вот опять скоро в город, и опять деткам за двойными рамами сидеть. Всем поклон, Ал<ександру> К<арловичу>, батюшке, няне. Карточку Гамбетты привез бы, да где достать? Еще раз обнимаю тебя, люби меня тоже, люби в самом деле, только бог один видит, как я тебя люблю.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) далее было: твое поручение
544. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
17 (29) июля 1874. Эмс
Эмс. 17/29 июля/74.
Бесценный друг мой Аня, приписываю сегодня несколько слов ко вчера отправленному тебе письму, в ответ на твое, полученное мною вчера после обеда, уже после того, как отправил тебе вчерашнее письмо. Ты, верно, и не воображала, что твои оба последние письма придут почти в одно время. Но таков наш российский почтамт, - который делает, что хочет, что вздумается ему, и на который нет закона. Задержать 4 дня лишних письмо потому только, что оно страховое! (Не в Германии же его задержали!) Ты пишешь, что рада моему оздоровлению, а в результате - я вовсе не вылечился, разве что легче немного, а каково-то будет зимой. Впрочем, у меня всё еще продолжается припадочное состояние (третий день припадка). Эти припадки очень расстраивают грудь (сдавливают там что-то), и, сверх того, вчера и сегодня здесь у нас, в проклятом Эмсе, - дождь как из ведра. У нас и до того было 5 дней дождя, но вчера, и сегодня это черт знает что такое. Кренхен ли или климат, но только здесь все почти очень потеют. Каково же при поте быть в такой сырости? Поневоле простужаешься. Благодарю, что не забываешь писать мне об детках: только об них и думаю, их и во сне вижу. Но прошу тебя, Аня, не давай мне больше комиссий. Вообще женщины думают, что если уж поехал куда, так у него вдесятеро больше времени, чем у другого человека. Ты, н<а>прим<ер>, пишешь, чтоб я зашел в Петербурге к Мих<аилу> Мих<айлови>чу спросить насчет тех 400 руб. по векселю Голубевой. Но, друг мой, я нахожу твое распоряжение весьма дурным. Кроме того, что я в Петербурге буду лишь мимоходом, жить в нем не могу, да и не хочу - я просто могу не застать Мишу; тогда оставаться лишний день в Петербурге, что ли? Это всё легко говорить. К Мише я, конечно, зайду, хотя и не обязуюсь выжидать его, но я удивляюсь, почему ты не хочешь написать Мише? 30 июля срок, и если ты даже думаешь, что и ответу от Миши не дождешься, то всё же надо бы ему написать, чтоб напомнить, чтоб показать, что мы не забыли, и, кроме того, нехорошо оставлять такую сумму в его руках, а потому напоминание может подействовать охранительно. Не то чтоб я не доверял ему, но ведь... Написать же тебе надо всего 4 строки счетом. А я почему еще знаю, когда буду проезжать через Петербург? На будущей неделе я пойду к Орту, и что он скажет, так и будет. Если он настоятельно велит остаться еще неделю, то я останусь. Велел же Кошлаков 6 недель кренхена; а я пью кренхен всего еще 5-ю неделю. - Не нравятся мне тоже твои распоряжения о сю пору насчет писем в Париж и в Берлин. Но я еще, может быть, здесь промедлю. Если же буду проезжать через Берлин наскоро (потому - что мне там делать?), то будет хлопотливо нарочно бегать на poste restante за письмом. Что же до Парижа, то я, как ни рассчитываю, заключаю, что мне в нем не быть, - денег нет. Так наше письмо там и останется на веки веков. Ты пишешь: "Это на случай того, если ты уедешь 16 июля"; но если я и писал об этом когда-то, то ведь не наверно же, да и тогда прямо говорил, что завишу от доктора. 16-е июля было вчера, а я не только не уехал, но, может, еще 10 дней здесь пробуду.
Впрочем, не прими с моей стороны за ворчанье. Я только хочу сказать, что ты слишком скора и не принимаешь в соображение многих посторонних обстоятельств.
Не прими тоже этой писульки за письмо. Я просто приписываю ко вчерашнему. Вчера мне было очень, очень скучно. Здесь время тянется как-то мертвенно. Кое-что составил в плане, но и сам не знаю, доволен или нет. Мне всё думается, Аня, что с осени начнется для нас очень скучное, а может, и тяжелое время. Впрочем, в припадке, в дождь и в скуке, как здесь - не будут мерещиться красивые картины.
Теперь если здесь и кончу когда-нибудь лечение, то сколько останется переезду - господи создатель! До Берлина, до Петербурга, до Старой Руссы дни и ночи не спи! Вообще очень некрасиво время.
До свидания, голубчик, целую тебя очень и детишек. Я Любочку всю ночь во сне видел. И что это, в самом деле, у меня так загостилась падучая, Эмс что ли способствует климатом? Это очень может быть; в этом подлейшем месте, наверно, заключены все гадости. Обнимаю тебя.
Твой весь Ф. Достоевский.
Детишек целуй и говори им обо мне.
545. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
20 июля (1 августа) 1874. Эмс
Эмс. 20 июля/1 августа. Суббота. 74.
Получил вчера, милый друг мой Аня, письмецо твое, на которое и спешу тебе ответить, хотя всё еще не имею ничего написать определенного, так как к доктору пойду лишь во вторник. Думаю наверно, что он меня, на сей раз, отпустит и я в среду же, если не во вторник, и выеду из Эмса - вероятнее всего в Петербург, хотя еще сам не знаю, может быть, и проеду куда-нибудь для прогулки поближе, потому что Эмс наскучил до смерти. Тем не менее всё еще это не наверно (хотя я и думаю, наверно). Он может еще предложить мне остаться неделю, и тогда я, разумеется, останусь, в случае если он будет говорить особенно настоятельно. А про Париж, - я как ни считаю, всё до такой степени выходит в обрез, что вряд ли с такими финансами благоразумно бы было рискнуть на поездку. Если в Берлине остановлюсь, то посмотрю тебе фая (смотр не беда). Там товар продается с настоящей парижской пломбой, и, как уверяют люди, можно купить не дороже парижского, потому что в Париже умеют слупить с путешественников и, как рассказывают, заставят непременно купить не дороже, а больше, чем нужно; это тамошняя, говорят, манера. Разумеется, если худой товар и дорого, то я не куплю. Я к тому, что товару в Берлине бездна. - Хоть и получишь это письмо и хоть очень вероятно, что я выеду в половине будущей недели, но всё же обращаюсь к твоему благоразумию и советую не принимать буквально: Орт всё может переменить. Если переменит, то, разумеется, уведомлю. Но если оставит еще на неделю, то я последние излишки мои из оставшихся денег принужден буду здесь прожить. Вот уж прошла почти неделя, назначенная в последний раз Ортом, а что пользы? Скрип в груди (от припадка ли или от ненастья) не проходит. Одним словом, хоть и есть облегчение от всего лечения, но болезнь остается. Вся надежда, что лечение скажется, говорят, еще впоследствии, зимой. Ну там что еще будет.
Благодарю тебя, милая моя, что об детишках пишешь: я Любочку как будто вижу перед собой. Соскучился я по них ужасно. Сегодня ночью видел тебя во сне и очень жалел, проснувшись, что тебя со мной нет. Видел тоже и Любочку: она плакала и что-то говорила мне. Очень я на их счет стал мнителен, чуть три дня, и я уж задумываюсь, не случилось ли чего. Сегодня, в первый день, кажется, после припадка, освежилась совсем голова. Если б не эти припадки, право, мне леченье помогло бы больше. Одно что несомненно, - то, что я, во всем остальном, чувствую себя несравненно здоровее прежнего: силы, сон, аппетит - всё это превосходно. Хоть этот выигрыш приписываю эмским водам и тому, что 6 недель аккуратно вставал в 6 часов. Штакеншнейдер уверяет, что он никогда не видал у меня такого свежего лица, как теперь. Во время последних дождей и туманов здесь многие простудились. Несомненно, простудился и я. С некоторой заботой помышляю о том, как мне придется возвращаться, и, главное, заботит меня дорога из Петербурга в Ст<арую> Руссу: еще, чего доброго, придется ждать парохода, возиться с озером. Как грустно, что нечего и не на что привезти вам гостинцу. Все-таки, я думаю, к августу или в начале нашего августа я в Руссе буду, так, как и предполагал. Боюсь, как мы жить будем в Петербурге, то есть о средствах; всё об этом думаю. Как будем нанимать квартиру? Вот тоже забота! - Приготовил я здесь 2 плана романов и не знаю, на который решиться. Если в августе вполне устроимся, то в конце августа примусь писать, и знаешь ли, о чем думаю: хватит ли сил и здоровья для таких каторжных занятий, какие я задавал себе до сих пор? А что вышло: романы оканчивал, а здоровье все-таки, в целом, расстроил. Если здоровье будет такое же, как в первую половину прошлой зимы, то будет не совсем хорошо для работы.
Хоть Эмс и начал понемногу пустеть, но русских в нем тьма сколько. И какой он скучный в дождь, всё в тумане, совершенный ноябрь. (Жалею, что не имею шерстяных носков для езды ночью по Новгород<ской> дороге и по озеру в случае ненастья.) Дай бог, чтоб в Руссе застать хорошую погоду. Хорошо бы приехать тоже в Петербург не к воскресению или в праздник, чтоб можно было застать людей. Штакеншнейдеры тоже уезжают на следующей неделе, в Гатчино, но я постараюсь поехать не с ними вместе. Кстати, выходит, что во Франции самая высокая плата за дорогу: из Эмса в Париж 70 франк<ов> без поклажи, и что всего хуже - вторые классы даже и не существуют в прямом сообщении. По крайней мере, на дебаркадере здесь продаются до Парижа особые билеты mixte, то есть по Германии во 2-м классе, а по Франции в 1-м. Штакеншнейдеры прокутились и экономят ужасно, а между тем по Франции ехали в 1-м классе, уверяя, что французский 1-й класс хуже немецкого 2-го, потому что как сельди в бочонке напиханы и сиденья ужасно устроены. Езда уж слишком сильная, оттого антрепренеры дороги и куражатся. - Кстати, Штакеншнейдеры мне положительно сказали, что фай в Париже уже не считается модной матерьей и что теперь им пренебрегают, говорят, что он ломок, дает складку и в складке вытирается, а что модная матерья из черных теперь другая и называется драп и что на нее все накинулись и все берут. Они мне показывали этот драп: очень похожий на фай, но более на прежний пудесуа глясе.
Хоть и скоро увидимся, а всё об вас думаю с заботой, как бы только не случилось чего дурного. А там, Аня, опять жить на ура, или, вернее, как бог пошлет. И что всего хуже - всё еще есть долги, ничего и скопить нельзя. Хоть бы на три годика хватило моего здоровья, авось бы как и поправились. Но обо всем этом подробнее поговорим и повздыхаем при свиданье. А теперь что-то скажет Орт. До свиданья, бесценный друг мой. Ты одна в моей душе и в моих мечтах. Расцелуй и прибереги детишек, а я весь ваш всегда и везде, обнимаю вас крепко и душевно.
Ваш Ф. Достоевский.
Все поклоны как следует.
Р. S. Сегодня утром встало было яркое солнце, а теперь опять ветер, и немцы, и облака. Грустно здесь.
546. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
11 августа 1874. Старая Русса
Старая Русса 11 августа/74.
Милостивый государь
Виктор Феофилович,
Две недели назад, в бытность мою проездом в Петербурге, когда Вы так обязательно обещали мне собрать по газетам процесс Долгушина и К°, - я не успел зайти к Вам за газетами, буквально не имея минуты времени. Сим же спешу предуведомить, что на днях зайдет к Вам в редакцию одна дама, которую я просил об этом, и если процесс у Вас уже был для меня собран, то не откажите вручить ей №№. Князь советовал мне читать по "Москов<ским> ведомостям", да и сам я знаю, почему там интереснее. Итак, прошу убедительнейше или по "Московским", или, если уж нельзя, то по "Голосу". №№ эти мне капитально нужны для того литературного дела, которым я теперь занят, и если Вы, многоуважаемый Виктор Феофилович, всё еще так добры, что не откажетесь содействовать, то капитально меня одолжите, а я за то, честное слово даю, не останусь в долгу перед "Гражданином".
В случае если бы Вас, во время прихода этой дамы, не было дома, оставьте газеты кому-нибудь в редакции для передачи по ее спросу.
Я остаюсь на всю зиму (для усиленной работы) в Старой Руссе, но, однако же, три-четыре раза в зиму буду наезжать в Петербург, дней на десять и более. Первый приезд мой состоится около сентября, в половине. Передайте князю мое глубочайшее уважение, равно Александру Устиновичу и всем, кого встретите из наших.
А засим примите уверение моего совершенного уважения, с которым пребываю
Ваш слуга Ф. Достоевский.
547. П. А. ИСАЕВУ
10 сентября 1874. Старая Русса
Старая Русса 10 сентяб./74
Любезный друг Паша,
Письмо твое получил сегодня, 10-го, и сейчас же спешу тебе ответить. Посылаю тебе 20 руб. Извини, что не посылаю всех тридцати, но в данный момент совершенно того не могу. Рад, что хоть этим могу тебе быть капельку полезным. С удовольствием узнал тоже, что Тришины тебе выдали наконец 25 р. В приезд мой из Эмса в Старую Руссу, около 30 июля, я пробыл двое суток в Петербурге, и хотя был завален делом, - так что много не сделал и до меня касающегося, - но непременно заехал бы к тебе, если б знал твой точный адресс: так мне хотелось тебя видеть, особенно после рассказов Тришиных. Но Миша не мог мне сообщить твоего точного адреса. Поздравляю тебя, голубчик Паша, с дочкой Машей. Равномерно прочел с большим удовольствием то, что ты пишешь о Верочке, - что она поздоровела, с зубками, и даже начинает ходить. Желаю от души всем вам счастья - тебе, супруге и деткам, тебе же желаю побольше удачи.
Пишешь, что имеешь место, хоть и маленькое. Тришины пишут, однако же, что 50 руб. жалованья. Видишь, друг мой: если такое место уже имеешь, то и держись за него терпеливо, хотя бы на том основании, что лучше, сидя на месте, хотя бы, и маленьком, искать большего и лучшего, чем искать, не имея совсем места. То, что ты пишешь о неприятности своего положения в последние месяцы от недостатка средств, было мне очень тяжело узнать, и верь, что я о тебе много думал. С своей стороны благодарю тебя сердечно и за добрые твои чувства ко мне, выраженные в твоем письме.
Мы остались на зиму в Старой Руссе по общему соглашению с Анной Григорьевной (которая тебя благодарит за твой привет и желает тебе всего лучшего). В будущем году, примерно в мае, ей надо будет, по давнишнему совету докторов, съездить за границу, в Швальбах, на железные воды, от малокровия. Таким образом, пришлось бы нанимать в Петербурге до мая, подниматься, хлопотать и проч. В Старой же Руссе и климат лучше, и для детей лучше, и вдвое дешевле. Мне же надо работать, нужна, стало быть, большая отдельная от детей комната. В Петербурге нанимать такую квартиру стоит 1000 руб. Здесь я имею 7 больших комнат, меблированных (весь этаж), за 15 руб. в месяц, дрова стоят два рубля сажень, говядина, дичь и проч. втрое дешевле петербургского. Чего же было думать? И хотя придется, по делам, быть раза три в зиму в Петербурге, дней на 10 каждый раз, но и при этом, по расчету денежной выгоды, чуть не вдвое выйдет против петербургского. Но главная выгода, кроме денежной, как я сказал уже, в том, что больше уединения для работы, и в том, что детям здесь здоровее и привольнее. Ты не ошибся, Федя очень вырос, да и Лиля поправляется. Передал им твой поцелуй, за который благодарю тебя.
Итак, до свидания, Паша. Буду в Петербурге - наверно увидимся. Заеду к тебе. Сам же останавливаться буду в Знаменской гостинице. Буду или в начале октября, или уже в декабре к рождеству.
Крепко жму тебе руку.
Твой любящий тебя Ф. Достоевский.
548. H. A. НЕКРАСОВУ
20 октября 1874. Старая Русса
20 октября. Старая Русса/74.
Многоуважаемый Николай Алексеевич,
Получать "От<ечественные> записки" для меня, в настоящую минуту, не только соблазнительно, но и почти необходимо. За этот год я читал всего только первые четыре №. Далее, в мае, хотел было подписаться, но отложил до оседлого времени. Теперь я здесь сижу прочно, не выеду всю зиму, а потому и весьма благодарен Вам за предложение получать журнал теперь же.
Безо всякого сомнения, я, как автор, ничего ровно не могу сказать Вам об успехе или неуспехе работы (то есть хотя бы и с моей одной точки зрения). Пишу-то я пишу, а выйдет то, что бог даст. При этом постараюсь явиться с январской книжки. Но во всяком случае уведомлю Вас заранее, еще в ноябре, в конце, о ходе дела. Работу же пришлю (или привезу) ни в каком случае не позже 10-го декабря.
Благодарю за пожелание здоровья и настроения. Признаюсь Вам, что здоровье досаждает мне более настроения: два припадка сразу падучей, от этого очень неприятное настроение, и именно в данный момент.
Доброго и Вам всего желаю: и здоровья, и начинаний. Не готовите ли чего к 1 №? Очень бы приятно именно к 1 №.
Ваш весь Федор Достоевский.
549. П. А. ИСАЕВУ
4 ноября 1874. Старая Русса
4 ноября/74.
Любезнейший друг Паша, твое длинное письмо получил вчера и, по просьбе твоей, отвечаю немедленно. Если б я и хотел тебе изо всех сил дать просимое тобою, то ни в каком случае не мог бы в настоящих моих обстоятельствах, ибо нет у меня денег, и так сложилось, что до напечатания моей работы в "От<ечественных> записках" неоткуда будет получить. Далеко не уверен, проживу ли на имеемые деньги даже и до половины декабря, а с чем в Петербург отправлюсь - сам не понимаю. Из редакции "От<ечественных> записок" я взял весной 2000 руб. и теперь никоим образом не могу брать вперед, да если и мог бы - не захочу, ибо есть известные отношения, которые надо всегда иметь во внимании.
Анна Григорьевна была в Петербурге, там имела письмо от Надежды Михайловны (насчет доктора Сниткина и новорожденного твоего ребенка). Надежда Михайловна снесла-таки его в Воспитательный. Анна Григорьевна не только не могла быть у нее, но даже Федора Михайловича, приехавшего из Курска, по очень важному делу не могла видеть, даже Мишу не видала, которому надо было кое-что поручить. Она половины дел не сделала, потому что так случилось, что никак не могла остаться лишний день в Петербурге.
Между тем Надежда Михайловна не имела ни малейшего понятия, куда ты девался, да и сам ты это подтверждаешь в своем письме. Не стыдно ль тебе так поступать: мог бы и должен бы был уведомлять домашних чаще. Время у тебя есть; написал же мне всю свою биографию - значит, есть время.
Я рад, что тебе удалось место получить, но уверен, что через три-четыре месяца сойдешь и опять куда-нибудь переедешь. Если сделали, то ведь ради моих просьб - постарайся же и сам за себя сколько-нибудь. Вся важность - благоразумие в поведении: имей его и не возносись. Я рад, что Перцов меня помнит; но ты мое имя все-таки употребляй потрезвее.
Посылаю тебе ввиду жестокого твоего положения 25 руб. Постарайся их, если можно, все отослать к Надежде Михайловне, не покупай себе запонок, портмоне и проч., и перетерпи серьезно до генваря. А я (если могу только, но изо всех сил постараюсь) пришлю еще в декабре капельку; но вот и всё, что могу сделать, хоть зарежь.
Ради бога, не бери взаймы у Софьи Александровны. Передай ей, что я целую ее руки и обнимаю ее душевно. Напишу непременно ей; слишком накопилось, что сказать. Сам я так занят, что гораздо хуже каторги, и только боюсь припадков от напряжения.
Елене Павловне мой нижайший поклон.
Если б она тебе хоть капельку тоже дала взаймы (до генваря), то, может быть, ты бы и дотянул до генваря.
Марье Александровне, Вере Михайловне и всем, если увидишь, поклон. Спасибо за карточку.
Твой в<есь> Ф. Достоевский.
Эти 25 рублей точно отрезал от себя ножом - до того я теперь в безденежье, да и хуже всего, что не в Петербурге, где всё же легче достать в самом крайнем случае, чем здесь.
Как несообразен с здравым смыслом вексель на имя Анны Николавны! Ну не всё ли равно, что на мое, и неужели бы я с тебя мог судом требовать хоть и через Анну Николавну? Смешно, право.
Дос<тоевский>.
Будь здоров. Пошли Надежде Михайловне, и то, что я в декабре пришлю (если пришлю), тоже пошли, и из жалованья своего посылай, а сам извернись как-нибудь ввиду предстоящего и недалекого успеха. У всякого в жизни бывают дни, что надо претерпеть. Я пять лет сряду терпел и ждал, да почище твоего, а тут только 3 месяца! И того меньше. Надежда Михайловна может переехать в генваре в Москву.
За карточку Верочки спасибо. (1)
(1) приписано на полях
550. П. А. ИСАЕВУ
11 декабря 1874. Старая Русса
Старая Русса 11 декабря/74.
Любезнейший Паша, если я не отвечал тебе до сих пор на твое письмо от 12 ноября, то единственно потому, что мне было совершенно некогда. Я, по складу моих способностей, не могу отрываться от дела, когда усиленно работаю, тем более для дел хлопотливых, запутанных, где надо долго и много рассуждать и всячески объясняться, чтобы достигнуть хоть какого-нибудь толку. Если же притом заране уверен, что никакого толку не достигнешь, то, само собой, руки отваливаются.
Ты возвратил мне 25 р., посланные тебе с желанием от всего сердца помочь тебе. Если Анна Григорьевна прислала тебе неприятное для тебя письмо, то смешивать нас обоих в этом деле ты не имел никакого права. Ты имел дело со мной, получал деньги от меня, а не от нее, тем более что я о письме ее к тебе не знал ничего. И ты очень хорошо знал сам о том, что я не знал ничего: иначе как же мне понимать первую страницу твоего письма, где излагаешь, что уверен и продолжаешь быть уверенным в моих добрых и искренних чувствах к тебе? Если уверен в моих чувствах, то, стало быть, не смешиваешь моих чувств с предполагаемыми тобою дурными чувствами к тебе Анны Григорьевны. А если так, то зачем ты мне выслал 25 р. обратно? Если выслал, значит, именно смешиваешь наши чувства вместе и предполагаешь в нас один умысел. А в таком случае твоя первая страница выходит ложь и т. д. и т. д. Кафимский узел. Да и кто разберет путаницу у нелогических и отчасти дурно развитых людей, каков ты.
Но пусть ты сделал одну только нелогичность. Чем, скажи, ты обиделся? Анна Григорьевна мне своего письма не показывала, и я всего его не знаю. Но невозможно же и ни быть возмущенным, хотя бы только со стороны (а я тебе не сторона) тем, как ты обращаешься с своими детьми. Имеешь ли ты понятие о воспитательном доме и о воспитании новорожденного у чухонки, среди сора, грязи, вони, щипков и, может быть, побой: верная смерть. Друг мой Паша, я тебя не укоряю, хотя и не могу оставаться хладнокровным. Ведь не отдал же я тебя, всего только пасынка, куда-нибудь в ученье, в люди, в сапожники, а держал, воспитал, учил, да и теперь о тебе старался, писал за тебя письма или ходил просить о тебе бог знает каких людей - что для меня нож вострый иногда. Между тем ты, столь щекотливый даже относительно меня и моих, об тебе всегда старавшихся, столь щепетильно наклонный требовать исполнения долгов относительно тебя, - сам слишком беспечен относительно своих нравственных обязанностей, человеческих обязанностей - и относительно детей своих, и относительно отца. Ну к чему ты теперь так разобиделся, так защепетилился? Уж во всяком-то случае ты должен бы был взять в соображение всю сумму наших взаимных отношений, начиная с твоего детства и до сих пор. Я не кто-нибудь для тебя, чтоб со мной тебе так щепетилиться. Да и об Анне Григорьевне ты бы мог в письме своем ко мне удержаться от таких резких выражений, как например: "...на присланное супругою Вашею письмо, в котором она, выходя из всяких границ приличий, наговорила мне оскорблений..." и т. д.
Посылаю тебе карточку Верочки. Если ты хотел радикально разорвать со мною, то пусть судит тебя собственное сердце; если же нет, то продолжай уведомлять иногда о себе; я в судьбе твоей всегда принимал искреннее участие. Впрочем, ничего не навязываю, как хочешь.
Тебя любящий Ф. Достоевский.
551. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
17 декабря 1874. Старая Русса
Старая Русса, 17 декабря/74.
Милая Аня, у нас всё благополучно. Детки пока еще очень умны, поселились в гостиной, наставили стульев и играют. Я встал в 2 часа - никто не будил, видно, слишком утомился от излишне ревностного с тобой прощания. Детишки кушали телятину, молоко, сухари и ездили кататься; потом пошли снег отгребать, всего гуляли примерно минут 40. Я нашел, что это возможно. Где-то ты теперь, доехала ли до Новгорода? Буду ждать телеграммы. Главное, не насилуй себя и не напрягай излишне в Петербурге: у тебя много времени, имей в виду главнейшее в делах, то есть некоторых кредиторов (Варгуниных). Не забудь и про нас: все-таки нам очень нужны деньги, а до некоторого времени я отношения мои с Некрасовым даже и благонадежными считать не могу. На почту понесу, как ты сказала, незапечатанный конверт, но вряд ли будут какие спросы "Мертвого дома". Да и в Петербурге теперь развал, не до того. Предчувствую, что у тебя с Пантелеевыми выйдут неприятности, и если будут какие сделки с купцами, то вряд ли ты их уладишь. До свидания, обнимаю тебя и целую горячо.
Твой весь Ф. Достоевский.
Не торопись излишне: лучше окончи дела, если б даже что и замешкалось.
552. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
18 декабря 1874. Старая Русса
Старая Русса. 18 декабря/74.
Милая Аня, сегодня утром меня разбудили (1) в 9 часов твоей телеграммой, чему, впрочем, я был рад. Благополучно ли доехала, теперь, в эту минуту, ты уже, может быть, видела и Ивана Григорьевича, и Пантелеевых (с которыми, конечно, побранилась). Ради бога, Аня, не тревожь себя и действуй спокойнее, не кидаясь, без отчаянья, а пуще всего береги здоровье и больше спи и непременно исполни всё то, что я говорил тебе насчет докторов. У нас всё благополучно, детки здоровы. Сегодня погода мягче, и я отправил их, впрочем, в 2 часа только, к батюшке и дал на извозчика. Они ждут игрушек. У Феди я спросил вчера: "Где теперь мама?" Он подумал и с глубокомысленным видом отвечал: "Не знаю". Вчера во время папирос стали они танцевать, и Федя выдумал новое па: Лиля становилась у зеркала, а Федя напротив у дверей, и оба в такт (причем Лиля была очень грациозна) шли друг другу навстречу; сойдясь (всё в такт), Федя целовал Лилю, и, поцеловавшись, они расходились, Федя к зеркалу, а Лиля на его прежнее место и т<ак> далее. (2) Они раз 10 повторили эту фигуру и каждый раз, сходясь, целовались. Было очень грациозно.
Писем никаких, вряд ли и будет. Некрасов, верно, просто отдал печатать; но пришлет ли корректуры? Хорошо, если б все наши дела уладились. До свидания, Аня. Только 20-го разве получу от тебя что-нибудь с некоторым изложением обстоятельств. Но лучше расскажи, приехав, больше интересу, а мне присылай разве простой перечень да уж очень выдающиеся происшествия. До свидания, обнимаю тебя крепко.
Твой сердечно тебя любящий и по тебе тоскующий
Ф. Достоевский.
Детки тебя целуют.
Не беспокойся об нас, у нас пока всё хорошо.
(1) далее было: утром
(2) далее было: до бесконечности
553. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
19 декабря 1874. Старая Русса
Старая Русса. 19 декабря/74.
Милая Аня, пишу тебе вот уже третье письмо. Надеюсь, что сегодня хоть несколько строк получу от тебя. У нас все здоровы и всё благополучно. Детки гуляют и играют. Сегодня погода довольно теплая, но несколько сырая; но гуляли много. Ведут себя прекрасно; Федя немножко слишком буянит, но очень невинно, Лиля очень мила. Заспорили о лопатках, и так как Федя не хотел ей дать свою поиграть, то она объявила, что он "сестру не любит". А Федя отвечает мне: "Что она говорит, я ее день и ночь люблю". Потом из кабинета слышу ужасный плач Лили. Вошел: она, рыдая, жалуется, что Федя не захотел сидеть у ней на коленях, как у няни. "Если ты только у няни сидишь, так пусть же она тебе сестра и будет". Я примирил тем, что посадил Лилю, а Федю к ней на колени, и, действительно, просидели с минуту.
Я послал тебе вчера письмо Черенина. Неважно спрашивает: 5 экземпляров! Все они боятся отдавать должные деньги, и, наверно, у него не 6 экземпляров "Бесов" продано, а больше, так что он, чтоб только деньги не отдавать, и не спросит еще "Бесов". Стало быть, давать на комиссию не совсем выгодно, Да и предчувствую очень, что "Мертвого дома" не много разберут.
Теперь, в эту минуту, ты, должно быть, ужасно хлопочешь, ходишь и ездишь. Не торопись, не рви, а главное, береги здоровье. Мне всё мерещится, что ты там простудишься и что-нибудь схватишь. Хороша ли погода? Непременно будь у докторов.
Вчера прислала свое письмецо Прохоровна, которое я и послал тебе. Ради Христа, отыщи ее (1) и дай ей что-нибудь к празднику, но не менее 3-х рублей. Пожалуйста, Аня.
Я здоров. Дети здоровы и спят хорошо. Скучно без тебя очень, очень. Обнимаю тебя и целую, детки тоже. Твой тебя любящий
Федор Достоевский.
Береги здоровье.
(1) в подлиннике ошибочно: его
554. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
20 декабря 1874. Старая Русса
Старая Русса. 20 декабря/74.
Милая Аня, вчера получил твое сонное письмецо строк в 10 я был очень доволен, что ты хоть доехала благополучно. Главное, здорова. Как-то ты проводишь время? Жду тебя не только с нетерпением, но и с любопытством. Авось кое-что порасскажешь. Деточки, слава богу, здоровы совершенно, только чтоб не сглазить. Мне они не мешают; я сплю по утрам подолгу. Хоть нынче день и не особенно холодный, и не ветреный, но сыроватый, инейный. Я их, однако, отпустил гулять к батюшке и дал на извозчика. Лиля премилая, Федя тоже, но немного отбился от рук, няню не слушается и шалит; по ночам спит очень хорошо, так же и Лиличка. Ждут тебя и вчера говорили, что тебя очень любят. Вчера, в обед, зашел батюшка (Георгиевский) и просидел с часок, пока не пошли на почту. Увы, из книгопродавцев никто почти не откликается. По-видимому, "Мертвый дом" сядет, разве потом, медленно и исподволь по библиотекам разберут и кое-какие любители. Не очень-то нас ценят, Аня. Вчера прочел в "Гражданине" (может, и ты уже там слышала), что Лев Толстой продал свой роман в "Русский вестник", в 40 листов, и он пойдет с января, - по пятисот рублей с листа, то есть за 20000. Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! Нет, уж слишком меня низко ценят, а оттого, что работой живу. Теперь Некрасов вполне может меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления: он знает, что в "Р<усском> вестнике" теперь (то есть на будущий год) меня не возьмут, так как "Русский вестник" (1) завален романами. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки! Не знает ли что Поляков о нашем деле? Кабы хоть какие-нибудь деньги поскорее и на всякий случай получить! А то, пожалуй, останемся как раки на мели. От Некрасова всё еще нет никакого уведомления.
До свидания, Аня, обнимаю тебя; получишь это письмо не ранее 22-го, и, кто знает, может быть, уже тебя не застанет. Это письмо от меня, стало быть последнее; написать завтра - значит, сильно рисковать, что тебя не застанет. Так и знай и не беспокойся. За детей тоже не беспокойся, я за ними смотрю и особой тягости это мне не составляет. Пожалуйста, не теряй и не бросай зря мои письма в Петербурге, где ты остановилась, чтоб не прочли другие. (2) Кланяйся Михаилу Николаевичу от меня и брату, если застанет письмо. Что Анна Николавна? Не уехала ли с Ив<аном> Григорьевичем? Ей тоже поклон от меня.
До свидания. Береги в Петербурге здоровье; всё пишут в газетах про тиф. Берегись, ради Христа.
Твои все: Я, Лиля и Федя.
Ф. Достоевский.
Сейчас на почте от тебя письма не получил. Что такое? Всю ночь промучаюсь!
(1) было: журнал
(2) текст: чтоб...... другие. - вычеркнут, вероятно, А. Г. Достоевской
1875
555. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
4 февраля 1875. Новгород
Новгород. 4 февр<аля> 75.
Милая Аня, ровно в 6 часов пополудни мы приехали в Новгород. Эти клячи летели как ветер и на обеих станциях отдыхали всего по 40 минут. Дорога порядочная, но я на последней пряжке прозяб неестественно, и именно подошвы ног. В моих калошах претонкая подошва. До такой боли прозяб, что хоть кричи. Впрочем, и руки и спина тоже прозябли. Остановился в гостинице Соловьевой хорошенько погреться и напиться чаю. Мне дали № 75. Сижу и читаю "Голос" и пью чай. Тимофей вез превосходно и старательно. Хочет обратно везти меня и поджидать. Это бы прекрасно было. Посылаю тебе одеяло и шейный платок (шарфик), который не нужен. Твердо надеюсь, что ты мне завтра напишешь. Целую тебя и всех троих детишек, Федю, Любу и Неизвестного. Предстоит длиннейший и скучнейший переезд. До свиданья, голубчик, обнимаю тебя.
Твой весь Ф. Достоевский.
Поклон Анне Николаевне.
556. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 февраля 1875. Петербург
Петербург. 5 февр<аля> 75.
10 часов утра.
Милый мой голубчик, Аня. Сегодня в 8 часов прибыл в Петербург благополучно. В тех и других вагонах проспал, скрючившись неестественно, почти всю дорогу, так что все-таки не совсем расстроен нервами, хотя немножко устал. Тимофею я дал одеяло и шарфик для доставки тебе, он вез хорошо, но обещался за мной заехать в гостиницу Соловьевой, чтоб довезти меня к воксалу, и не заехал, так что я чуть-чуть не опоздал. Зато у Соловьевой два часа проспал в №. Теперь, здесь, сижу в Знаменской гостинице, в 48-м №-ре и готовлюсь одеться и пуститься по мытарствам. За № 2 р. цены против летних, сами говорят, что увеличены, и гостиница во всех отношениях ветховата, но все-таки, может быть, даже лучше иных других. Денег со мной 32 руб., и, однако, сегодня же надо купить сапоги, потому что мои до того дорогою разорвались, что даже нехорошо, если зайти в них к Некрасову и Мещерскому. Одним словом, я совершенно здоров и только об вас и думаю. Тоскую очень. Лилю и Федю побольше поцелуй. Я видел во сне, что Федя влез на стул и упал со стула и расшибся, ради бога, не давай им влезать на стулья, а няньку заставь быть внимательнее. Incognito также люблю. Одним словом, всех Вас крепко обнимаю. Завтра напишу. Пиши, пожалуйста. И так как теперь меня нет, то отдыхай, ради бога, голубчик мой. Чуть заболеешь или дети - тотчас дай знать. Анне Николаевне мое уважение.
Твой Ф. Достоевский.
557. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
6 февраля 1975. Петербург
6-го февраля/75. Петербург.
Милая Аня. Вчера первым делом заехал к Некрасову, он ждал меня ужасно, потому что дело не ждет; не описываю всего, но он принял меня чрезвычайно дружески и радушно. Романом он ужасно доволен, хотя 2-й части еще не читал, (1) но передает отзыв Салтыкова который читал и тот очень хвалит. Сам же Некрасов читает, по обыкновению, лишь последнюю корректуру. Салтыков сделался нездоров очень, Некрасов говорит, что почти при смерти. У Некрасова же я продержал часть корректуры, а другие взял с собою на дом. Мне роман в корректурах не очень понравился. Некрасов с охотой обещал вперед денег и на мой спрос пока дал мне 200 руб. Хотел бы отправить тебе хоть 75 и сделаю это завтра или послезавтра, но решительно вижу, что нету времени. Я был у Симонова и взял билетов на неделю, сеансы от 3 до 5 часов. Это такое почти невозможное время, самые деловые часы! И вместо того, чтоб дело делать, я должен сидеть под колоколом. Затем заехал в редакцию "Гражданина" и узнал к чрезвычайному моему огорчению, (2) что князь накануне, 4-го февраля, уехал вдруг в Париж, получив телеграмму, что там умер брат его флигель-адъютант. Пробудет же, может быть, с месяц. Таким образом, у меня в Петербурге почти никого не останется знакомых. У Пуцыковича же узнал, что Sine ira и "С.-Петербургских ведомостях" вообрази кто! - Всеволод Сергеевич Соловьев! Затем был у Базунова, его не застал и взял "Русский вестник". Затем после обеда в 7 часов поехал к Майкову. Анна Ивановна уехала в театр. Он же встретил меня по-видимому радушно, но сейчас же увидал я, что сильно со складкой. Вышел и Страхов. Об романе моем ни слова и видимо не желая меня огорчать. Об романе Толстого тоже говорили немного, но то, что сказали - выговорили до смешного восторженно. Я было заговорил насчет того, что если Толстой напечатал в "Отеч<ественных> записках", то почему же обвиняют меня, но Майков сморщился и перебил разговор, но я не настаивал. Одним словом, я вижу, что тут что-то происходит и именно то, что мы говорили с тобой, то есть Майков распространял эту идею обо мне. Когда я уходил, то Страхов стал говорить, что, вероятно, я еще зайду к Майкову и мы увидимся, но Майков, бывший тут, ни словом не выразил, что ому бы приятно видеть меня. Когда я Страхову сказал, чтоб он приходил ко мне в Знаменскую гостиницу вечером чай пить в пятницу, то он сказал: вот мы с Аполлоном Ник<олаевичем> и придем, но Майков тотчас отказался, говоря, что в пятницу ому нельзя и что в субботу можно увидеться у Корнилова. Одним словом, видно много нерасположения. Авсеенко в "Русском мире" обругал "Подростка", но Майков выразился, что это глупо. Статьи "Русского мира" я не видал.
Корректур было много, лег спать я поздно, но выспался. Теперь уже два часа, надо не опоздать к Симонову, а меж тем надо и заехать в "Гражданин" за твоим письмом.
Сейчас принесли еще корректуру - все 2 последние главы, их уже Салтыков не читал, и мне надобно перечитывать со всеми подробностями, так что сегодня, кроме бани, никуда не пойду. До свидания, милая, обнимаю тебя и детишек, не претендуй на деловитый слог письма - времени нет и не знаю, будет ли впредь.
До свиданья.
Твой весь Ф. Достоевский.
Вообрази, Порфирий Ламанский умер от того, что закололся в сердце кинжалом! Его, впрочем, хоронили по христианскому обряду.
(1) вместо: не читал - было: не дал
(2) было: изумлению
558. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 февраля 1875. Петербург
Петербург, февраля 7/75.
Милый друг, Аня, я всё занят ужасно и времени у меня ни на что недостает. Вчера навалили корректур видимо-невидимо, и еще не продержанных начисто. Меж тем во весь день нельзя было заняться ими. Написав к тебе вчерашнее письмо, пошел к Пуцыковичу, где письма от тебя не застал. Затем вдруг, воротясь в гостиницу, получаю повестку от участкового пристава явиться 7-го (то есть сегодня) в 9 часов утра для объяснений по паспорту. Предвидя, что в 9 часов утра мне нельзя, я тотчас поехал в участок; никого не застал, сказали - вечером. Чуть было не опоздал под колокол. Симонов всё просит меня дать осмотреть ему грудь, но для этого надо заехать к нему за полчаса раньше, а я и сегодня предчувствую, что опоздаю. Из-под колокола приехал в гостиницу обедать. Эта Знаменская гостиница ужасно обветшала, а цены огромные. Чуть сел обедать, пришел Пуцыкович и принес от тебя письмецо. (NB. Таким образом твои письма получаются у него чуть не ввечеру). Посидел с Пуцыковичем, пока обедал; я нахожу, что это чрезвычайно порядочный человек. Затем полетел в участок. Там продержали часа два. Пришел наконец паспортист: "У вас-де дан вам билет на жительство; но он временный, а по закону вы должны были давно обменить его на постоянный паспорт. Конечно дело; но я стал спорить. Помощник пристава (с Владимиром в петлице) начал спорить тоже: Не дадим вам паспорт, да и только; мы должны наблюдать законы. - Да что же мне делать? - Дайте постоянный вид. - Да где я его теперь возьму? - Это не наше дело. - Ну и в этом роде. Но дурь, однако же, в этом народе. Это всё только, чтоб перед "писателем" шику задать. Я и говорю наконец: - В Петербурге 20000 беспаспортных, а вы всем известного человека как бродягу задерживаете. - Это мы знаем-с, слишком знаем-с, что вы всей России известный человек, но нам закон. Впрочем, зачем вам беспокоиться? Мы вам завтра иль послезавтра вместо вашего паспорта выдадим свидетельство, так не всё ли вам равно. - Э, черт, так зачем же вы давно не говорили, а спорили!" Затем поехал в баню. Воротясь и напившись чаю, сел за корректуры и просидел до 5 1/2 утра. Наконец повалился спать. Вдруг слышу в соседнем №, который был пустой, хохот, женский визг, мужской бас и так часа на три: только что приехал какой-то купец с двумя дамами и остановился. И вот я лежу и не сплю, наконец заснул капельку и пробудился в 1-м часу, но спал всего часа четыре. Чувствую раздражение нервов и даже озноб. Затем пить чай, тебе писать письмо, одеваться, заехать в редакцию за письмом и успеть попасть к Симонову к 2 1/2 часам. Но где же попасть?
До свидания, Аня, обнимаю и целую детей. Сегодня опять, стало быть, ни одного дела не сделаю, но зато кончены корректуры и сегодня (1) ночью, может, высплюсь. Роман Толстого читаю только под колоколом, ибо иначе нет времени. Роман довольно скучный и уж слишком не бог знает что. Чем они восхищаются, понять не могу.
До свидания, Аня, милая, обнимаю тебя и всех детишек.
Твой весь Ф. Достоевский. (2)
Историк Костомаров лежит в тифе. Всеволод Крестовский лежит в тифе. Симонов говорит, что тиф теперь совершенно действует как зараза, вроде чумы, и редко когда так бывало. Но не беспокойся, милочка Аня, за меня. Нас бог бережет, твердо верую, а тебя люблю крепко. Твой.
(1) далее было начато: высп<люсь>
(2) далее было начато: По соо<бщению>
559. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 февраля 1875. Петербург
8-го февраля 75. С.-Петербург.
Милая Аня, вчера от тебя письма не было, если и сегодня не будет, то буду очень беспокоиться. А у меня и без того много досад и расстройств. В нынешнюю ночь лег раньше, в третьем часу, но так как не спал прошедшую ночь, то заснул только разве в четвертом часу. И вот в 7 часов соседи, купец с двумя дамами, подымают опять визг, хохот, самый громкий разговор, доходящий до крику. Отделяется же не стеной, а одной лишь дверью. Я вскочил, оделся и немедленно потребовал другой №. Оказался свободным только один, в 3 р. в самом низу, я немедленно переехал и лег, но уже заснуть не мог. Две ночи, таким образом, не спал, расстроен, даже руки дрожат. Меж тем переехать отсюда тоже не могу: паспорт всё еще не выдают, а куда я денусь без паспорта? Предстоит ехать к Трепову.
Вчера опоздал в три часа к Симонову и не мог быть на сеансе. Эти часы, от 3-х до 5 у Симонова, совершенно парализуют всю мою деятельность. Они всё время берут, и я еще ни одного дела не начинал. Утром должен тебе письмо писать и кое-какие делишки, потом куда я успею до 3-х? Здесь же в гостинице всё так медленно исполняют. Закажешь чай и раньше получасу не подадут. Опоздав, заехал к Кашпиреву, просидел у него с час. Затем поехал к Соловьеву: он очень был рад и кое-что мне рассказал. Жена его больна (от беременности) и не выходит. Однако же он мне ее вывел. Она ужасно молоденькая, имеет вид девочки, с очень большим ртом и с очень выпуклыми глазами; но недурна, пока девочка. Года через три-четыре подурнеет ужасно. И вот он на всю жизнь с женой дурной собою. Он получает жалование, хорошую плату в "С.-Петербургских ведомостях" и даже в "Пчеле" печатает свою повесть. Денег получает много и в этом смысле спокоен и обеспечен. Живут они еще пока от жильцов, но у них две порядочные комнаты и превосходная (очевидно, его собственная) мебель, картины и фотографии на стенах и проч.
Затем обедал у Вольфа, воротился домой, и в 9 часов пришел Страхов. Он мне искренно и положительно говорил, что Майков ни в каких слухах обо мне не участвовал, да и есть ли слухи, он хорошо не знает. "Подросток" ему не совсем нравится. Он хвалит реализм, но находит не симпатичным, а потому скучноватым. И вообще он мне сказал чрезвычайно много очень дельного и искреннего, что меня, впрочем, не смущает, потому что я надеюсь в следующих частях доказать им, что они слишком ошибаются. В "Биржевых" (или в "Новом времени" - Страхов не запомнил) (1) он читал на днях статью о "Подростке". Довольно длинную. В ней не то что хвалят, но говорят, что до сих пор многие принимали типы Достоевского (2) отчасти за фантастические, но, кажется, пора разубедиться и признать, что они глубоко-реальные и проч. в этом роде. В "Голосе" об "Отечественных записках" принято никогда ничего не печатать.
Теперь час пополудни, сижу с расстроенными нервами, поеду к Симонову, потом, может быть, в участок, вечером заеду на малое время к Корнилову, чтоб только деньги отдать. Деньги страшно выходят, а я еще ничего не купил. Не понимаю, почему ты не пишешь? Эти предстоящие разъезды к Пантелееву, к Полякову и проч. мучат меня одною мыслью о них! А между тем когда я успею это всё сделать? ужас! До свидания. Целую тебя и детишек.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) в подлиннике: не запомнит далее было: за
560. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
9 февраля 1875. Петербург
Петербург. Февраля 9/75.
Голубчик мой Аня, вчера вечером получил твои два письма разом. Вероятно, 1-е письмо пролежало лишний день в Старой Руссе на почте. Скажи в почтамте, чтоб этого не делали, а то я напрасно буду беспокоиться. Известие о провалившемся потолке меня очень тревожит: во-первых, могло убить детей, а во-2-х, уверяю тебя, она не до мая будет ждать, а до апреля, когда ей будет уже не так страшна угроза, что мы съедем ввиду летних жильцов. Да иначе и не может быть, потому что ихняя переделанная квартира, близ самого парка, должна пойти не менее 200 руб. в лето. Пиши мне непременно каждый день, Аня: без известий о тебе и о детишках я не могу пробыть в здешней тоске. Вчера только что написал и запечатал к тебе письмо, отворилась дверь и вошел Некрасов. Он пришел, "чтоб выразить свой восторг по прочтении (1) конца первой части" (которого еще он не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед (2) началом печатания книги). "Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе". "И какая, батюшка, у вас свежесть (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой). Такой свежести в наши лета уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него же читал, только в прежнем лучше" (это Некрасов говорит). Сцену самоубийства и рассказ он находит "верхом совершенства". И вообрази: ему нравятся тоже первые две главы. "Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава" (это та самая, где он спрягался у Татьяны Павловны) - "тут много происшествий чисто внешних" - и что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понравилась мне самому эта восьмая глава и я многое из нее выбросил. Вообще Некрасов доволен ужасно. "Я пришел с вами уговориться о дальнейшем. Ради бога, не спешите и не портите, потому, что слишком уж хорошо началось". Я ему тут и представил мой план: то есть март пропустить и потом апрель и май вторая часть, затем июнь пропустить и июль и август третья часть и т. д. Он на все согласился с охотою "только бы не испортить!". Затем насчет денег: вам, говорит, следует всего без малого 900; 200 руб. вы получили, стало быть, следует без малого 700; если к этому прибавить 500 вперед - довольно ли будет? Я сказал: прибавьте, голубчик, тысячу. Он тотчас согласился. "Я ведь, говорит, только ввиду того, что летом, пред поездкой за границу, вам опять еще пуще понадобится". Одним словом, в результате, то, что мною в "Отеч<ественных> записках" дорожат чрезмерно и что Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения. Просидел у меня часа 1 1/2, так что я опять чуть не опоздал к Симонову. Весь вчерашний день я был совсем как больной от расстроенных от неспанья нервов. Деньги, полагаю, что получу завтра или послезавтра. Тогда, Аня, и вышлю то, что по расчету должно остаться у нас, то есть около 1000, а до тех пор как-нибудь займи хоть у батюшки. Потому что не только у меня времени нет выслать эти 75, которые я обещал, но даже и не из чего, потому, что деньги идут в ужасающих размерах. Вчера вечером был у Корнилова и отдал ему 45 р. по 10 взносу в Славянский и в "Любителей" и 25 р. от неизвестного (пари). Корнилов принял меня удивительно ласково и внимательно, очень меня расспрашивал, ходил со мной и рассказывал, рекомендовал и знакомил. (Между прочим, познакомил с своим старшим братом. <нрзб.>) (3) Было человек до 20 разного народу (Майков не пришел). Был Страхов и просил зайти к себе вечером в понедельник. (4) Дело в том, голубчик Аня, что за неимением достаточных денег ни у кого (по делам) и быть не могу. Но пуще всего (5) лечебница Симонова: она пришлась в такие часы (от 3 до 5), что всё мое время парализует. Конечно надо вставать раньше (часов в 9) и ложиться раньше. Но меня в 2 последние ночи измучили, я спал по 4 часа в сутки и менее. Нынешнюю ночь думал наверстать и лег вчера в 2. Но нервы до того расстроены, что часа 1 1/2 не мог заснуть, ночью беспрерывно просыпался, и хоть встал в 11-м часу, но все-таки настоящих семи часов не спал. С завтрашнего с понедельника надо как-нибудь приняться за дело.
Совсем забыл про иные твои распоряжения, например, надо ли дать сколько-то денег Полякову или нет. Впрочем, думаю, всё обделаю, не беспокойся. Я только об вас беспокоюсь. До свидания, ангел, люблю тебя и чувствую и сверх того нужду в тебе ужасно большую. Целую детишек и благословляю. 15-го-то думаю уехать отсюда, наверно, а то так бы и раньше. Обнимаю тебя, голубчик, будь здорова и уведомляй о каждой мелочи. Всем поклон.
Твой весь, тебя целующий муж,
Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: вто<рой>
(2) далее было: последней
(3) фраза густо зачеркнута А. Г. Достоевской
(4) было: вторник
(5) далее было: то
561. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
10 февраля 1875. Петербург
Понедельник, 10 февраля/75.
Милый брат Коля, я приехал в Петербург по кое-каким моим делам и желал бы с тобой видеться, но хоть и буду на Петербургской у Эмилии Федоровны, а все-таки в твой дом не хотел бы вступать. И поэтому не заедешь ли ко мне. Я живу в Знаменской гостинице, № 6. Но бываю дома не иначе как от 11-ти до 12-ти утра. Пробуду в Петербурге дней 5; до свидания, голубчик.
Твой брат Федор Достоевский.
562. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 февраля 1875. Петербург
Понедельник, 10 февраля/75.
Голубчик мой, Аня, вчера я от тебя письма не получил. Да ты бы писала и подавала с вечера на почту, чем по утрам-то. Пишешь, что и от меня не получила. Я сам кладу в кружку каждый день и каждый день пишу, но они неровно выбирают, иногда после двух, а иногда и до двух. Вчера был в лечебнице. Лечебница парализует все мои дела, отнимает весь день, пересекает его глупейшим образом надвое. Из лечебницы после обеда поехал к Полякову и отдал ему 50 р. Он мне не сказал ничего нового. Есть в виду какие-то покупщики, да что он поедет с Коршем великим постом в именье и проч. Я попросил его что знает написать тебе. Потом заезжал к Прохоровне, а потом домой, чтобы раньше выспаться и поправить нервы. Не тут-то было: в залах гостиницы праздновалась свадьба купцов-лавочников, сотня пьяных гостей, музыка, конфетти. Я лег в 2. Но до 5 1/2 не мог заснуть, потому что по нашему коридору бродили и кричали (1) забредшие сверху пьяные. Я вскакивал, отворял двери и ругался с ними. Теперь голова болит - мочи нет. Если б только не действие сжатого воздуха, который успокаивает нервы, то, думаю, что у меня от бессонницы и от раздражения наверно бы был припадок. До свидания, голубчик, целую тебя, детишек и всех. Скажи детям, что Прохоровна им кланяется и любит их, а об Феде над его карточкой плачет. У ней и Федя, и Лиля висят на стене. Всем кланяюсь. Как только получу от Некрасова деньги, сейчас поеду к Пантелееву и т. д. Как хотелось бы поскорей домой. Здесь мое здоровье хуже во многих и других отношениях. Целую тебя и детей.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: сверх<у>
563. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
11 февраля 1875. Петербург
Петербург, 11 февраля/75.
Милая Аня, вчера так от тебя и не было письма. Да уж не пропадают ли мои письма? Я, однако же, каждый день пишу. Вчера ничего почти не сделал, был только у Симонова и вечером у Страхова. Страхов знает о моем неудовольствии на Майкова и, кажется, передал ему, потому что Майков прислал мне письмо и приглашает сегодня, во вторник, к себе обедать. Но я еще вчера вечером его видел у Страхова. Было очень дружелюбно, но не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов; они оба со складкой. Так и быть, обедать у него сегодня буду, но и только. Сегодня утром зашел ко мне брат Коля и теперь сидит у меня, пока я пишу.
От Некрасова всё еще не получил, а самому пойти напоминать как-то совестно. Но если сегодня не получу, то непременно пойду завтра. Жду с нетерпением, наконец, твоего письма и прошу непременно писать каждый день, подавай с вечера. Очень целую детей, хочу об них известий. Ужасно мне здесь скучно. Новостей никаких. Целую тебя очень и благословляю детей. До свидания. Обнимаю всех вас.
Твой весь Ф. Достоевский.
564. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 февраля 1875. Петербург
Петербург. Среда 12/75.
Милая Аня, получил от тебя письмо от 10 (понедельник) очень напуганное. Не беспокойся обо мне, ради бога; если я чем чувствую себя нехорошо, то это нервами, потому что в гостинице, и не на своем месте, и со всеми этими предстоящими хлопотами - не могу выспаться. Не пугайся же, всё устроится, а я, разумеется, ни одного лишнего дня не буду. Лечебница Симонова взяла всё мое время и не дает мне кончить ни одного из дел. Спешу написать тебе, и пойду сейчас к Некрасову, и, если можно, возьму денег. Пишешь, чтоб я прислал: клянусь, у меня нет ни одной свободной минуты. Получу от Некрасова - всё пришлю, разом; а до тех пор займи у священника. Вчера, как сидел у меня Коля - вошел Корнилов (значит, отдать визит), был чрезвычайно мил и просидел больше получасу. Вот деликатнейший человек. Затем, после Симонова (1) поехал к Майкову обедать. Это дело вот в чем: я Страхову, у Корнилова, выразил часть моей мысли, что Майков встретил меня слишком холодно, так, что я думаю, что он сердится, ну а мне всё равно. Страхов тогда же пригласил меня к себе в понедельник, а пригласительное письмо Майкова было вследствие того, что Страхов ему передал обо мне. (2) Майков, Анна Ивановна и все были очень милы, но зато Страхов был почему-то очень со мной со складкой. Да и Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне Некрасова - сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня, это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением "Эпохи", и прибежал только после успеха "Преступления и наказания". Майков несравненно лучше, он подосадует, да и опять сблизится, и всё же хороший человек, а не семинарист. Сейчас от Майкова, вечером, зашел к Сниткиным. Александр<а> Николаевича не было дома, жены его тоже, но я просидел у жены Михаила Николаевича, и потом пришел он из Воспитательного, и я чрезвычайно приятно провел у них время до 11 часов, в разговорах. За тальмой схожу еще раз.
Если в субботу не выеду, то хотелось бы ужасно в воскресенье. До свидания, милая, многого не пишу, потом расскажу. Обнимаю тебя крепко и целую, ты мне очень нужна. Детишек всех обнимаю очень, целую и благословляю. Твой тебя крепко любящий
Ф. Достоевский.
Здесь вышел один колоссальный анекдот об известных нам лицах, расскажу как приеду.
Паспорт до сих пор еще не получил, но не беспокойся.
(1) после Симонова вписано
(2) далее было начато: Стр<ахов>
565. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 февраля 1875. Петербург
Среда 12/75. Петербург.
Сегодня вечером получил из редакции твое письмецо от 11-го, милая Аня, и сегодня же вечером пишу ответ, хотя отошлю завтра и сам поеду отдавать в большой почтамт. Посылаю тебе, голубчик мой, девять сот 900 рублей. Никогда я предположить не мог, чтоб ты так зануждалась и написала мне такие отчаянные просьбы о присылке денег. Но, друг мой, ведь ты сама же говорила, что всегда можешь занять у батюшки или у Анны Гавриловны. Я же так рассуждал, что заем на 2 на 3 дня, при таких верных деньгах, которые я получаю, не может нисколько повредить твоей чести. Это мелочность! Я же писал уже тебе давно, чтоб ты заняла. Я, конечно, мог и из выданных мне Некрасовым 200 отослать тебе, но ей-богу же! не было времени ни капли, чтоб самому ехать посылать. Мало того: нет (1) иногда времени даже в редакцию "Гражданина" заехать. Ну ты представь себе, я съездил к Некрасову, взял сегодня у него деньги, заезжаю домой, чтоб положить их в чемодан, и вдруг входит Владимир Ламанский, сам, услыхавший от кого-то, что я в Петербурге. Неужто мне прогнать его? Вот я с ним и остался. И так каждый час. Притом же я всё не могу выспаться, и у меня расстроены нервы до муки, до ада. А главная причина всё та же: что я никак не воображал, что ты будешь стыдиться попросить пустяки у таких добрых знакомых, - тем более, что сама мне про это говорила! Не то, конечно бы, прислал, потому что на столько-то у меня всегда было, и уж конечно я мог поручить Пуцыковичу. Симонова лечебница всё парализует! У меня весь день уходит, но завтра последний сеанс. (2) Между тем дел бесконечное множество. Сегодня был у Эмилии Федоровны. Завтра постараюсь быть у Пантелеевых или где-нибудь, где нужнее. Обнимаю тебя крепко, не сетуй же на меня. Некрасов дал 1600, из них 1000 или без малого вперед, потому что нельзя еще дать точнейшего расчета. Сосчитаемся вперед. У меня в руках 700 с лишком рублей. Деньги идут неестественно, и я здесь ужасно трачусь. Целую детей. В субботу думаю, что никак не выеду: Ламанский звал в субботу, а Некрасов в субботу же хочет везти меня к Салтыкову (а я очень хочу завязать это знакомство). Кроме того, не был у Кони, не был у Порецкого и не сделал почти еще ни одного денежного дела. Одним словом, в письме ничего толком не опишешь, вряд ли и в воскресение выеду, хотя ужасно бы желал, чтоб в понедельник быть вечером у вас. Ужасно хочется поскорее к вам, изо всей силы буду стараться. Послезавтра, в пятницу, напишу наверно, но если скажешь Тимофею, чтобы ждал меня в понедельник в Новгороде, то, кажется, это будет верно. Целую тебя и детишек триста тысяч раз, твой весь
Ф. Достоевский.
Ты не поверишь, как ты меня расстроила и огорчила этой просьбой денег. Да неужели это так стыдно занять, Аня! Я и не воображал ничего подобного. Ведь мы не воры и не мазурики, и это доказали.
Сегодня Некрасов встречает меня словами: "А у меня для вас давным-давно готовы деньги". Между тем я деликатничал и всё не шел, ожидая, что он сам привезет или пришлет. Если б не зашел, то он и еще три дня бы не подумал прислать.
Сегодня встретил у него книгопродавца Печаткина. Боюсь, что передаст другому Печаткину кредитору, и тот меня здесь разыщет. (3)
У Бунтинга не был, сапогов даже себе еще не успел купить.
Целую тебя ужасно, и ручки и ножки и всю. Люблю тебя и желаю ужасно увидеть.
(1) было: не было
(2) было: билет
(3) вместо: Печаткину...... разыщет. - было: Печаткину и тот меня разыщет.
566. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 февраля 1875. Петербург
Петербург, 13 февр./75. Четверг,
Милая Аня, сейчас послал тебе деньги, но в почтамте сказали, что сегодня не пойдет, стало быть, завтра, в пятницу, ты бы не получила от меня письмо, и потому пишу тебе, сидя у Миши, в Обществе взаимного кредита. Итак, обнимаю тебя, всё благополучно, а деньги получишь в субботу.
Целую детей.
Твой весь Ф. Достоевский.
567. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 февраля 1875. Петербург
Петербург, февраля 13/75. Четверг.
Милая Аня, давеча я послал тебе девять сот рубл<ей>, и, вероятно, получишь их вместе с этим письмом, которое пишу с вечера, потому что завтра утром не будет времени писать. Кроме того, так как в почтамте сказали, что денежное письмо пойдет завтра, в пятницу, то я в Взаимном кредите написал тебе строк 6, сидя у Миши. После того был у Симонова и у Пантелеева. Ему я передал твое письмо, но он знать ничего не хочет и настоятельно требует другого расчета. Он хочет 2 векселя Надеина, а Кожанчикова тоже оставляет у себя. Одним словом, путаница. В субботу зайдет ко мне; я, выслушав его, думаю, что нечего его долго тянуть, и хочу отдать ему оба векселя; про те же 54 экземпляра, которые проданы, но деньги не получены, он говорит, что и не может получать. Клейн ему положительно не платит. Он составит счет, я, по возможности, удовлетворю его в субботу, а затем я скажу, чтоб он всё тебе сам написал. В случае же, если я не отдам векселей, то он говорил даже, что будет задерживать продажу экземпляров. Таким образом, я и не знаю теперь, как разделаюсь с Варгуниным; ясно, что нельзя будет опять всего заплатить; денег у меня вовсе не так много, чтоб всем отдать. Затем зашел к Всеволоду Соловьеву и затем к Сниткиным, которых никого не застал дома (одни в театре, другие в гостях) и взял твою тальму у одной из дев. Завтра и послезавтра предстоит страшно много хлопот и визитов. Каждый день у меня на извозчиков до 3-х руб. Вчера вечером был у Эмилии Федоровны. Думаю выехать в воскресенье непременно. Так и скажи ямщикам. Лучше, если будет Тимофей. Сейчас же вечером получил и твое письмо из редакции. Если напишешь в пятницу, то, конечно, я получу еще твое письмо, но более писать нечего. Постараюсь непременно приехать в понедельник, в Федины именины (барабан и посуду Лиле непременно купи и не дари, держи в тайне, потому, что мне здесь решительно нельзя будет купить игрушек, разве какую мелочь). Голубчик мой, у меня страшно расстроены нервы, ужасно боюсь припадка. Никак не могу выспаться, вот беда. Буквально сплю не более 5 часов; непременно будят утреннею вознёю в коридоре. Ты видишь сны, а со мной еще хуже. Обнимаю тебя крепко и целую, детишек тоже, очень. Всех вас люблю и благословляю.
Твой весь Ф. Достоевский.
Разве какой-нибудь самый непредвиденный случай, но непременно выеду в воскресенье.
568. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
14 февраля 1875. Петербург
Петербург. Пятница 14 февраля/75.
Милая Аня, сейчас получил твое письмо от четверга и решительно поставлен в самое затруднительное положение и беспокойство. Ты решила почему-то наверно, что я выеду в субботу, и пишешь, что в субботу вышлешь ямщика. Я же не могу выехать раньше воскресенья ни за что. Теперь уж я знаю, что в воскресенье выеду наверно. Вчера же, высылая тебе письмо с деньгами, я узнал в почтамте, что ты получишь его только в субботу. В нем я написал уже почти наверно, что выезжаю в воскресенье. В том же письме, (1) которое я написал вчера из Общества взаимного кредита, в 6 строк, я кажется забыл написать, что выезжаю в воскресенье. Итак, ты получишь в субботу мое извещение, что надо выслать ямщика в воскресение, а он уже выслан тобою за день, в воскресенье, подождет поезда, увидит, что я не приехал, и поедет преспокойно назад, а я в понедельник сиди без лошадей. То-то будет история! Одним словом, я в беспокойстве ужаснейшем. Да и как можно высылать, не подождавши моего извещения.
Сегодня езжу и бегаю и живу, как в аде. В целые 2 недели ни разу в театр не сходил. Жил самым подлейшим образом, бегал по комиссиям или сидел в лечебнице. Завтра черт знает сколько еще хлопот. Сегодня был у Тришина, у Варгунина, у Бунтинга, в Гостином дворе и в заседании Славянского комитета. Обо всех подробностях потом. Процентов у Варгунина насчиталось 156 р<уб>. Он даст счет. Скажи (2) детям, что при везу игрушек. Денег идет бесчисленно много, не знаю даже как быть. Авось в понедельник вечером буду у вас. Обнимаю тебя тысячу раз и целую. Детей благословляю и целую, скажи, чтоб ждали меня в понедельник. Нервы у меня расстроены очень. Множество еще визитов и дел не сделано. Обнимаю тебя крепко, люби меня.
Твой весь Ф. Достоевский.
Это письмо пишу в полночь и пошлю завтра в субботу в полдень, - стало быть, это письмо будет последнее. Обнимаю тебя, Аня. Скоро поцелую уже взаправду. И как мне детишек увидеть хочется!
(1) вместо: В том же письме - было начато: То же письмо
(2) вместо: Скажи - было: Напиши
569. П. А. ИСАЕВУ
23 февраля 1875. Старая Русса
Старая Русса, 23 февраля/75.
Любезнейший Паша, посылаю тебе, по просьбе твоей, 30 р.; извини, что никак не могу выслать всех пятидесяти. Причем считаю нужным предупредить тебя, что и впредь не в состоянии буду, в настоящем положении моем, помогать тебе. Следственно, и не рассчитывай. Ты пишешь, что тебе "даже непонятно теперь, когда ты уже действительно на месте", как мог ты прожить это время и чем. А между тем тут же прибавляешь, что задолжал Елене Павловне сто рублей. (Сто ли, не больше ли? Но, сделав такой долг, конечно, можно было прожить.) При этом замечу тебе, что я нисколько не намерен заплатить за тебя Елене Павловне. Уж не уверял ли ты ее, что я за тебя заплачу? Ты просишь адресовать тебе письмо в Банк, а не к Елене Павловне: не потому ли, что боишься показать ей, что получил деньги? Хоть я и не хочу вредить тебе ни в чем, но, право, следовало бы уведомить Елену Павловну с моей стороны, что долг твой я не могу гарантировать. И вообще мне желалось бы знать правду. Ты обманул меня в первом письме, написав, что уже получил место; между тем пишешь, что только теперь действительно на месте; но на месте ли, не обманываешь ли и этот раз? И наконец, чем же ты из 75 р. заплатишь Елене Павловне? А если действительно на месте, то разве ты на нем удержишься: ты мигом войдешь в амбицию и оставишь место, не рассудив, что на такие места и без того по 100 кандидатов имеется и что ими надо дорожить. Но ты и представить себя не можешь иначе как на 150-200 рублях жалования! Миша, в Петербурге, 5 лет сидит на 75, но ценит и держится крепко, и вот только теперь получил 20 рублей прибавки и получает 95. Но ведь Миша и Павел Александрович - разница! Я по опыту говорю, ты просишь у меня 150 р. и, когда я посылаю тебе 25, фыркаешь из-за обиды (на меня-то!) и отсылаешь мне их назад: понятно, как ты фыркать должен там, где ты служишь, если уж на меня фыркаешь. Отослав 25 р., ты разрываешь со мной и даже после письма моего (1) не пишешь, отговариваясь делами (которых у тебя не было, ибо ты только теперь поступил на службу). А между тем, не говоря уже о наших отношениях (то есть отчима к пасынку) вспомни, что и все люди, покровительствовавшие тебе и сделавшие для тебя всё, что ты имеешь (Майков, Ламанский, Порецкий и проч.) - все эти люди делали всё это лишь для меня и по просьбе моей. Ты же, фыркая на меня, даже и не подумал, что я могу наконец потерять терпение: "Когда надо, напишу ему, и опять для меня всё сделает" - вот как ты, вероятно, думаешь обо мне. Если ты теперь написал мне, то наверно потому, что тебе понадобились деньги. Молчал же ты единственно потому, что изволил обидеться (на меня-то!) и пресек со мной сношения. Я не так прост, чтоб не понять этого, зная твой характер. В письме своем ты пишешь Анне Григорьевне свой поклон. Замечу тебе, друг мой, что это чрезвычайно неприлично с твоей стороны; такой поклон, после твоей выходки, как ни в чем не бывало - есть непозволительная бесцеремонность. В том письме своем, при котором отослал мне 25 руб., ты позволил себе выразиться (мне в лицо) насчет письма Анны Григорьевны в выражениях дерзких ("верх неприличия" и проч.). И после того, как ни в чем не бывало, ей же поклон! Ни поклонов, ни извинений твоих ей не нужно; это знай твердо. Переменят об тебе мнение лишь тогда, когда ты поступками своими заставишь уважать себя как хорошего человека. Какими поступками? Это я скажу тебе. На первый случай - вот тебе два поступка: 1) если действительно ты на месте, то удержись на нем и будь доволен 75-рублевым жалованием (предупреждаю тебя: ей-богу, не буду более просить за тебя никого!). 2) Не должай более Елене Павловне и старайся ей возвратить хоть помаленьку. Нельзя пользоваться до такой огромной суммы добротой этой деликатнейшей и добрейшей женщины. Да и чем ты отдашь ей - не понимаю! И потому прекрати жить в долг, если в самом деле имеешь жалованье: на это жалованье еще можно прожить. Смотри же, Паша, сделай мне это одолжение: это слишком важно. Ты оставляешь долги везде, где поселяешься, и их не платишь. Неужели и Елену Павловну ждет та же участь. Согласись, что если б ты, достав место, хранил его, не фыркав и не бросав его из-за твоего дурного характера, то имел бы чем жить и не делал бы долгов.
Один из главных доброжелателей твоих, благороднейший Порфирий Иванович Ламанский умер; знаешь ли ты это?
Желаю тебе всего хорошего и, главное, стать наконец хорошим человеком.
Твой Ф. Достоевский.
Р. S. Очень сожалею, что ты всё нездоров. Старайся выздороветь, особенно от лихорадочных припадков. Если к твоим неудачам привяжется наконец и нездоровье, то что же тогда будет?
(1) вместо: после письма моего - было: на письмо мое
570. П. А. КОЗЛОВУ
1 марта 1875. Старая Русса
Старая Русса, 1-е марта/75.
Милостивый государь,
Простите мою забывчивость, по которой и не выставляю Вашего имени-отчества.
В сборнике Вашем принять участие я готов бы со всею охотою, но успею ли? Я задавлен работой по печатающемуся в "Отеч<ественных> записках" большому моему роману, и так будет вплоть до осени. Если успею, то доставлю что-нибудь непременно, но во всяком случае к самому позднему сроку, то есть не раньше августа.
Двух-трех листов доставить тоже ни за что не могу. Вещица может быть в один печатный разве лист, немного менее или более листа.
Не понял я хорошо, что Вы пишете об условиях: 350-400 руб. за лист или за всю статью? Так как Вы предполагали 2-3 листа, то, если за всю статью, стало быть, ценили ее в 150 р. за лист. Но, в этом случае, я согласиться не могу. За роман в сорок листов я получаю с Некрасова сплошь по 250 р. с листа. А потому и не могу взять за один лист менее 350 р. с листа.
Будет ли в Вашем альманахе критическая статья (обзор литературы за год)? Этим чрезвычайно бы выиграло издание, особенно при хорошей статье. Всего более нужна теперь в литературе критика, и всего более ее ищут и читают.
Если Вам угодно будет всё что я здесь изложил, то сообщите; и тогда уже я Вам пришлю мою фотогр<афическую> карточку.
Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.
Федор Достоевский.
Старая Русса, Новгородской губернии. По Ильинской улице, в доме Леонтьева.
571. А. H. ОСТРОВСКОМУ
2 марта 1875. Старая Русса
Старая Русса, 2 марта/75.
Милостивый государь Александр Николаевич,
Александра Павловна Орлова, жительница Старой Руссы и желающая получить здесь, при летнем сезонном театре, место агента со стороны Общества драматических писателей, просила меня, как живущего в Старой Руссе и уже три лета приезжающего на здешние воды, засвидетельствовать о ее способностях к искомой ею должности и ее характере. Сим с удовольствием свидетельствую о моем глубочайшем уважении к личности и характеру Александры Павловны, которую имею честь знать уже три года. Здешний же летний театр ей особенно известен, так как сама она, артистка в душе и нуждаясь в средствах к жизни, неоднократно и удачно исполняла на нем роли, но безо всякого контакта с антрепренером и к составу труппы не принадлежала, К сему прибавлю, что Александра Павловна женщина уже известных лет, живет одиноко и независимо и бесспорно пользуется глубочайшим уважением всего старорусского общества.
При сем прошу принять уверение в совершенном моем уважении и таковой же преданности.
Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский.
572. H. A. НЕКРАСОВУ
20-23 марта 1875. Старая Русса
26 (1) марта 75. Старая Русса.
Многоуважаемый Николай Алексеевич,
Вот как я располагал, при самом строгом расчислении:
К 25-26 выслать Вам листа 3 второй части, а засим дослать еще к 1-му и 5 апреля, - всего думал выслать до 5 листов, то есть первую половину 2-й части; и выслал бы. (Причем замечу, что 2-я половина 2-й части, то есть на майскую книгу, была бы несколько менее первой, то есть в 4 или 4 1/2 листа.)
Это до Вашего письма. Но, получив письмо Ваше, вижу, что у Вас в сроках 25-го числа каждого месяца заключается нечто сакраментальное и действительно могущее Вам вредить, если не поспевать к этому роковому сроку. И потому на Ваши оба предложения отвечаю следующее:
Если разбить на три книги, то для эффекта романа (то есть собственно для меня) будет не совсем выгодно. А потому вот на чем остановился:
К 25-26 марта вышлю Вам не менее 3-х листов и затем, никак не позже 29-го, еще немного, всего от 3 1/2 до 4-х листов (то есть на 4-ую книгу). Затем к 25 апреля вышлю неуклонно уже окончание 2-й части.
Таким образом оставляю всё на Ваше решение. То есть, если не захотите ждать до 29-го марта - напечатайте только то, что получите к 26-му. Точно то же может повториться и к 25 апреля.
Мне же, напротив, желалось бы, чтоб Вы подождали этот кончик до 29-го. Признаюсь Вам, что и это решение для меня тяжеленько, не в смысле срока, а в смысле эффекта.
При 5 печатных листах, то есть как я сам проектировал сначала, кончилось бы несравненно любопытнее и яснее. Но нечего делать, наверстаю во 2-й половине 2-й части. Впрочем, не тужу. (2)
Переждать же еще месяц, то есть не печатать совсем и в апреле, мне кажется, вышло бы неловко.
При сем еще раз Вам повторю, что говорил лично: не думайте, что я гоню и спешу; напротив, сам себя упрекаю в излишней кропотливости. Почти весь роман написан уже начерно, и я только редактирую, так сказать, уже написанное.
Чрезвычайно бы желал узнать от Вас (по получении Вами к 26-му), как Вы поступите? Мне бы желалось, как выше сказано: к 26-му и к 29-му и потом окончание 2-й части к 25 апреля.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
(1) описка Достоевского
(2) далее было начато: Дели<ть
573. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
6 апреля 1875. Старая Русса
Старая Русса, 6 апреля (1)/75.
Милая Аня, всего только 5 часов с тех пор, как ты уехала, и нового у нас, конечно, немного. Я проспал еще часа 2 и освежился, детки же ведут себя превосходно, играют и не плачут; к ним пришла Фиса. Конечно, ты до Шимска уже доехала, но как-то далее будет? До твоей телеграммы буду в беспокойстве. Как-то не верится, чтоб ты скоро кончила в Петербурге. К тому же, к твоему возвращению наверно будет и распутица, и Шелонь пройдет. Ну что, в самом деле, если мы и Святую встретим без тебя? Очень будет тяжело. Думаю, как-нибудь присесть поскорее за работу. В "Отеч<ественные> записки" не ходи: сам сегодня пошлю в редакцию письмо.
Боюсь я за тебя и за всех неизвестных, боюсь, что заболеешь и выйдет что-нибудь худое. Беспокоюсь очень. Обнимаю тебя и целую, детки тоже.
По крайней мере цели достигни. Подействуй на Ив<ана> Гр<игорьевича> как-нибудь убедительнее, заручи его чем-нибудь: пусть действительно что-нибудь сделает и построже, не жертвуя судьбою детей как легкомысленный человек. Каждый кузнец будет бить его детей при такой матери. В аренду непременно, и пусть сам едет в именье без малодушного глупого стыда. Только нам в аренду ввязываться не знаю хорошо ли?
До свиданья, Аня, обнимаю еще раз и целую. Об нас думай, шляпку купи.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) было: марта
574. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 мая 1875. Петербург
Петербург, 12 мая/75.
Милый голубчик Аня, я только что приехал, теперь 10 часов. Остановился в Знаменской гостинице и в том же 6-м номере. Дорога была прескверная, ни капли не заснул, в Чудове ждали часа два, а поезд был хуже, чем когда-нибудь: все места до единого заняты, духота, теснота. Телеграмма твоя здесь получена, но никто еще не взял ее. Впрочем, в эту минуту не пришли еще почтовый и курьерский поезда (10 и 11 часов утра). Я, однако, в 11 часов уже отправлюсь по моим мытарствам. Завтра напишу, вероятно, побольше. Здесь хоть и солнце яркое, но холодно, зелени совсем почти нет. Что детишки? Целуй их крепко, Лилю и Федю. Постараюсь поскорее прибыть к вам: как уехал от вас, так и грустно ужасно. Вас, милостивая государыня, ужасно люблю и считаю великолепнейшим существом. Обнимаю и целую тебя, милая, крепко. Детишек тоже.
Твой весь Ф. Достоевский.
Смотри за детками, голубчик, ради Христа.
575. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 мая 1875. Петербург
Петербург, 13 мая/75. Вторник.
Милый друг, Аня, запоздал и не знаю, получишь ли это письмо завтра. На железной дороге в ящике вынимают (1) лишь от 12 до 1 часу. Вчера прибыл и остановился в Знаменской гостинице (№ 16) Иван Григорьевич и Ольга Кирилловна, но утром я их еще не видел, а увидел только вечером, уже и 8-м часу, потому что в 11 часов вышел из дому. Был у Некрасова, взял корректуру на дом и взял у него 300 р., обещался прийти ко мне сам в среду (завтра) вероятно, чтоб говорить об деньгах, о которых я еще не начинал говорить. Пишу всё без подробностей, потому что всего не упишешь, затем был у Мещерского, просил к себе в среду. Очень расположен. Затем у Полякова. Этот почему-то и сам хотел бы не закладывать именье и прежде меня это высказал, так и решили. Затем зашел в гостиницу и виделся с Ив<аном> Григорьевичем одним без Ольги. О подробностях после. Копию письма Ольги он не получил и о письме ее едва знал, а ее сам разыскал в Москве. Затем заказал себе платье. Затем пришел домой, и так как предыдущую ночь не спал, то был в таком состоянии, в каком даже никогда себя не чувствовал - так кружилась голова и были расстроены нервы. Затем сел за корректуры, но пришел Пуцыкович, сидел и говорил час. Затем пришел Иван Григорьевич, и потом, когда Пуцыкович ушел, сходил за Ольгой и привел ее. Я должен был, по уговору с ним, показать вид, что мне ничего неизвестно. Они же пришли ко мне судиться, то есть изложили всю свою историю под видом, что это случилось у них, по соседству, с какими-то помещиками, и, изложив свою историю, спросили моего мнения про разные вопросы. Затем, когда они ушли в 12 часов, я сел за корректуру, буквально едва держась на ногах, отсмотрел корректуру и лег спать в 2 часа, спал часов 10 и проснулся лишь в 1-м часу сегодня.
Об Ив<ане> Григорьевиче и об Ольге Кир<илловне> ничего не могу написать теперь, потому что тут такая путаница, что если б и на словах рассказывать, то и тут нельзя выразиться понятно. Сейчас опять приходил Ив<ан> Григорьевич, ничего у них не решено и, по-моему, положение их всех безвыходное. В денежном только отношении он, кажется, обеспечен, да и то только теперь, то есть сегодня утром. Я выеду в четверг, а в пятницу буду у вас в Старой Руссе. На мой положительный и неоднократный вопрос Ив<ану> Григорьевичу, будет ли Ольга жить в Ст<арой> Руссе, он отвечал, что ничего не решено, да и она, видимо, не хочет. Путаница непомерная.
Обнимаю тебя крепко. Детишек целую, Лилю и Федюрку etc.
Очень люблю тебя.
Тв<ой> Ф. Достоевский.
Не знаю, напишу ль тебе еще что-нибудь отсюда до четверга.
(1) было начато: от<крывают>
576. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
14 мая 1875. Петербург
Петербург 14 мая/75. Среда.
Милый друг Аня, теперь первый час; сижу дома и жду Некрасова, который обещался быть ровно в полдень и вот не приходит. Между тем дел набралась куча. Прислал карточку Корш, просит назначить видеться, и два раза уже был Казанский и не заставал дома. Хочет прийти в 3 часа, а я даже и к Пуцыковичу не могу сходить за твоим письмецом, потому что должен сидеть и ждать всех этих господ дома, Иван Григорьевич, кажется, сегодня с Ольгой (1) уезжают. Очевидно, в Старую Руссу не будет. У них ничего ровно не решено, и положение их дела хуже, чем когда-либо. Так что он сам не знает, что будет, и, кажется, он очень придавлен всем этим. На всякий случай пишу тебе для того лишь, чтоб в случае, если в пятницу не успею к 6 приехать, то чтоб ты не оставалась в неведении. Был у Майкова и был у Сниткиных. У Кони еще не успел побывать. Мочи моей нет. Не тревожься обо мне. А о вас всех я думаю и тоскую.
4 часа пополудни. Был Казанский, говорил об имении рязанском, ничего особенного, передам при свидании. Был Некрасов, с ним всё устроил, но деньги получу лишь завтра. Иван Григорьевич с Ольгой Кирилловной уезжают сегодня к себе в деревню, в Руссу не будут. До свидания, дела много, а ничего еще не устроил, и деньги только завтра. Обнимаю тебя и целую и всех троих.
Твой весь Достоевский.
(1) было начато: же<ной>
577. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
24 мая 1875. Петербург
Петербург, 25 (1) мая/75. Суббота.
Милый голубчик, Аня, я кое-как вчера приехал и не знаю только, успею ли уехать завтра, в воскресенье. Есть поезд, который, отправившись завтра утром в 11 часов, будет в Берлине в понедельник, то есть на другой день, в полночь. Это бы всего лучше, но предчувствую, что меня завтра задержат, и к тому же, может быть, в сегодняшнюю ночь не высплюсь. У Шармера все-таки задержали платье на сутки для последних поправок, а сегодня еще не принесли его, как обещали. Кроме того, они сами вызвались и взялись сшить мне жилет за 8 рублей к сегодня вечером или к завтраму утром. Но если завтра они принесут позже 9, то вот уж и нельзя отправиться, ибо поезд уходит в 11. Взял сапоги, был у Пуцыковича и у Мещерского. Майков к обеду не пришел и заранее отказался, отговорившись, что где-то обедает. Слишком ясно, что не захотел со мной видеться: я к нему и не зайду. Был у Кашпиревых, они очень радостно меня приняли и восторженно отзываются о "Подростке". Был у Корша: он на даче где-то, верст за 50, и бывает лишь в Петербурге по вторникам, середам и четвергам. Заходил в банк к Мише: ничего особенного, он готов не закладывать имения и ждать. Александра Михайловна подает (2) опять просьбу и хочет непременно тягаться, по указаниям судебной палаты. Поляков черт знает зачем едет в Рязанскую губ<ернию>.
Я вчера очень устал. Нынешнюю ночь хоть и спал хорошо, но надо бы часом или двумя больше. Здесь ясное солнце, но холодно. Здесь, Аня, все женщины, почти без исключений, надели черное и ходят во всём черном, что очень недурно <нрзб.> - мода, что ли, такая, не знаю. Скажи Федичке, что я очень, очень долго его видел с парохода, а Лиличку, как она мне кланялась. В самом деле, я видел и разглядел ясно, как вы все пошли с парохода. Аня, голубчик, ради бога, смотри за ними и сбереги их. А тебя люблю бесконечно, ты мне ночью снилась. Пиши о себе всё до последней подробности, не забудь бабку и баню. До свидания, голубчик, теперь уже напишу из Эмса. Очень вероятно, почти на половину шансов, что завтра не успею выехать и меня задержут, тогда завтра напишу отсюда. Квартир здесь пропасть, но все дороги. Купил Суворина (в дороге он утомителен), "Русский вестник" мне пришлют в Ems. Целую твои глазки и всех наших деток, твой вечный и неизменный муж
Ф. Достоевский.
Впрочем, изменный к лучшему.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии) Ее высокоблагородию
Анне Григорьевне Достоевской По Перерытице, в доме Гриббе.
(1) описка, следует: 24
(2) было начато: хочет подать
578. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27 мая (8 июня) 1875. Берлин
27 мая/8 июня/75. Берлин. Вторник.
Милый голубчик Аня, вчера в полночь приехал в Берлин и сегодня же уеду в Эмс, где буду завтра. Пишу для того, чтоб поскорее вызвать и тебя на ответ, хоть днем раньше; а то ты, пожалуй, всё будешь ожидать от меня из Эмса, а до тех пор не напишешь, а это слишком для меня долго. Из Петербурга выехал в воскресение в 9 часов утра, и совсем не выспавшись; очень измялся в дороге, хотя погода была хорошая, теплая. Денег не швыряю, а вышло уж много. Переезд сюда стоил сорок рублей за одно место. Выспался в Берлине ужасно плохо (всего 5 часов), не дали: стук, гам. Взял ванну. Цены здесь ужасные. В дороге чемодан исцарапался ужасно, я сам был свидетелем, до какой степени с кладью небрежны, особенно за границей Trager'ы.
Что-то с вами: думаю о тебе, о Федичке и о милой Лиличке беспрерывно, и о многом думаю и беспокоюсь. Пиши чаще, установи в корреспонденции правильность. Ради бога, будь весела. В Петербурге был у меня Коля, Корша не застал, у Майкова не был, видел Мишу. Был у Сниткиных, Михаил Николаевич только улыбается на мои и твои сомнения и говорит, что ты, по всем признакам, должна превосходно родить. Боюсь, чтоб тебя что не расстроило, ты такая была нервная в последнее время. До свидания, ангел мой, завтра, может, еще напишу. Люблю всех вас очень-преочень. Крепко обнимаю тебя, целую детишечек.
Твой весь Ф. Достоевский.
579. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
29 мая (10 июня) 1875. Эмс
29/мая/10 июня/75. Эмс. Четверг
Милый голубчик мой Аня, я приехал сюда вчера и сейчас пошел на почту и вовсе не нашел твоего письма, обещанного poste restante, что меня очень смутили, так что я теперь в большом беспокойстве. Утешаю себя только соображением, что ты, может быть, послала в субботу позже 9 утра, и оно пошло лишь в воскресение, а я уж в воскресение уехал из Петербурга и так как вплоть до Эмса ехал на курьерском поезде, то, несмотря на суточную остановку в Берлине, обогнал почту. Думаю, не придет ли что сегодня. Но если сегодня не придет, буду очень беспокоиться. Опять же, если ты, чтоб писать ко мне, положила ждать прежде от меня из Эмса и уже тогда отвечать, то не скоро же мне придется от тебя получить что-нибудь. Вот почему и послал тебе несколько строк из Берлина, чтобы вызвать тебя поскорей на ответ. И надо положить в письмах правильность: не дожидаясь взаимно писем, писать, например, в каждые трое суток. Теперь, например, я пишу в четверг, следующее письмо пошлю в воскресение, не дожидаясь ответа. Это, впрочем, не должно нарушать возможности писем и сейчас по получении письма, если что-нибудь случится, требующее немедленного ответа. Ходил вчера тоже на телеграф справиться, нет ли телеграммы (1) от тебя poste restante? И вообще в беспокойстве большом.
В Берлине я проскучал сутки, при гадкой ветряной и дождливой погоде. Купил зонтик и шляпу. За зонтик мне сказали в отеле, что я переплатил 2 талера. Я заплатил 10 талер<ов>, впрочем, шелк очень недурной. За шляпу заплатил 5 талер<ов>, рубашек не нашел купить и не купил. Портсигар забыл купить. Выехал из Берлина во вторник в 11 часов вечера. Дорогою хоть не много, да спал. Вчера день был горячий, жаркий, солнечный, а сегодня дождь как из ведра, так что не знаю, как и пойду. Эмс ужасно гадок при дожде. Мне весь день вчера было страшно тоскливо и скучно, а ночью опять не успел выспаться, не дают. Первый взгляд на Эмс произвел на меня самое гадкое, мизерное впечатление. Был у доктора: он нашел меня несравненно лучше, чем в прошлом году. Незажившая болячка увеличилась, но зато три другие, зажившие в прошлом году, не возвратились. Он меня раздел всего и тщательнейшим образом осмотрел и выслушал. Телом он нашел меня удивительно поправившимся за зиму (и, уж разумеется, оттого, что мы жили не в Петербурге). Он надеется на успех. Положили начать лечение с сегодня же, то есть с четверга. 2 стакана утром с молоком и 1 вечером, потом будет постепенно увеличивать. Сегодня начну после обеда и выпью один первый стакан, а завтра уж начну вставать в 6 часов утра. Если это лечение не поможет и я даром ездил, то я буду слишком несчастен, истратив столько времени (и в такое время) с вами в разлуке и столько денег.
Вчера же нанял и квартиру, не в "Hфtel d'Alger", там занято, а 2 дома дальше в "Hфtel "Lucerne"". Но не во 2-м, а в 3-м этаже, зато две недурные комнаты и с балконом. Нанял совершенно за те же цены, как в "Hфtel d'Alger", и на тех же условиях. M-me Bach (из "Hфtel d'Alger") предлагала мне у нее, в 3-м этаже, без балкона, и хоть и спускала капельку цены и очень желала, чтоб я переехал, но эта теперешняя квартира в Hфtel "Люцерн" несравненно лучше, не знаю только, спокойнее ли: есть сосед, который говорит и стучит слишком громко по утрам, (2) а вверху дряннейшая ученица на фортепьяно, выдержавшая меня 1 1/2 часа на дряннейшей школьной игре. Посмотрю, впрочем, если что, перееду к Бах, когда опростается у ней (скоро) моя прошлогодняя квартира. Теперешняя хозяйка моя M-me Moser высокая (на два вершка выше меня), сухая как щепка, рыжая немка, еще не старая, с официальными улыбками. Не знаю, уживусь ли.
Здесь русских очень немного еще, настоящий сезон здесь еще едва начался. Я встретил лишь Тачалова, священника, он здесь на одну минуту. Он же и сообщил мне, что никого нет. В Листе, издающемся от кургауза, есть имен 15 русских (всё русские иностранцы), да несколько незнакомых имен, из аристократии и из купцов. Есть граф Комаровский, славянофил, но я не знаком; старик, князь Вяземский, поэт, из Гомбурга, но я, верно, не познакомлюсь, и наконец, Аксаков из Москвы, но кажется не Иван Сергеевич, а может быть, другой, нигилист. Аксаковых теперь очень много. Тачалов не знает. Таким образом я здесь в самом полном уединении, и скучища, предвижу, будет невероятная.
Только бы от тебя письмо получить поскорее. Мочи нет, как тяжело действует неизвестность. Что-то детки? Пиши об них подробнее как можно. Вчера с мучением думал о тебе и о твоем здоровье и продумал весь вечер. Аня, голубчик, будь бодра, бог милостив, может быть, отлично всё устроится к лучшему. Обнимаю тебя всей душой. Об детках думаю беспрерывно. Поцелуй Лиличку лишний раз и скажи Феде, что маленькие лошадки (ослы и мулы) стоят у моста, оседланные в красные седла, хорошенькие, и их нанимают кататься девицы и маленькие мальчики и девочки, и что уж у меня спрашивали: зачем я не привез Федю? И я сказал, что привезу непременно на следующее лето. Скажи им, что я им непременно привезу гостинцу. Пиши мне, Аня, подробнее, как ты проводишь время.
Деньги здесь так и идут. Дорога стоит недешево, жизнь здесь тоже. Вчера купил клубники и вишен, чтоб заговеться на всё время, ибо всё это запрещено доктором. Желудок мой в дороге очень поправился. Странно, что у меня всегда поправляется желудок в дороге. Вчера я надел шармеровское платье в первый раз, и мне стыдно стало: удивительно, как я вдруг стал похож на модную картинку, ей-богу так. Сшито безукоризненно; шляпу я купил себе совсем другой формы и нахожу, что удивительно идет ко мне. Воображаю, каким фатом ты меня сочтешь за эти слова. Целую твои глазки и обнимаю тебя всю, ангел мой милый. Ты мне дороже всего на свете и таких жен, как ты, нет. Я, впрочем, это тебе говорил, но ты не знаешь, как часто я это чувствую. Главное, будь бодрее. А писать мне тоже не ленись. Всем поклон. Детишек целую тысячу раз. Чувствую себя ужасно изломанным с дороги; вчера, засыпая, страшно вздрагивал, что в последнее время случалось редко. Первую неделю кренхена - обыкновенно дурной сон, дурные сны-кошмары, страшная раздражительность и расстройство печени, так будет неделю или больше.
Государь сегодня должен отсюда уехать, мне так и не удалось увидать его. Император Вильгельм приехал. Вчера всё играла музыка под его окнами. В саду публики множество, всё нахалы и франты и множество хорошеньких дам, всех национальностей.
Что, если не получу и сегодня от тебя письма. Написал бы и вчера, но опоздал, ибо только до 3-х часов положенное письмо идет в тот же день. Обнимаю вас всех крепко.
Твой весь Ф. Достоевский.
Вообрази, вчера, только лишь приехал в 11 часов и остановился в отеле, приказал чай и ростбиф, мне принесли, а я сел на диван, капельку закрыл глаза и вдруг заснул на полтора часа. До того изломан.
(1) было: ответ<а>
(2) далее было: когда уходит
580. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
1 (13) июня 1875. Эмс
Эмс, 13/1 июня/75. Воскресение.
Милый друг мой, Аня, получил твое письмо еще в четверг и сегодня жду, по обещанию твоему, опять письма. Так хотелось бы тебя видеть и поцеловать. А я здесь скучаю смертельно, мучительски. Погода, с самого четверга, холодная и дождливая. Были два дня такого ветра, что я даже и нигде не запомню, целая буря. Дождь льет как из ведра, больше по утрам, к вечеру же проглядывает иногда солнце. Зато 13 и много что 15 градусов тепла, так что я постоянно надеваю пальто. Хотел было поберечь зонтик, но нечего делать, надобно защищаться от ливня. Здоровье мое порядочно, разумеется, от вод еще не ощущаю никакого действия. Да и пью я всего 3 стакана в день, в микроскопических приемах (по 4 унции воды). Хочу опять спорить с доктором; пойду к нему сегодня, по уговору с ним. Сон и аппетит хорошие, но вздрагиваю по ночам, и, кажется, будет падучая. Мои товарищи по соседству иногда гремят и топают, и боюсь, что не дадут мне спокойно работать, когда начну. Теперь же сижу больше дома и кое-что читаю. И рад бы ходить, да и требуется это лечением, но невозможно. Вот и в эту минуту дождь льет как из ведра. Из русских здесь никого знакомого, да и русских еще совсем мало. Аксаков этот верно из других Аксаковых, а не мой знакомый. А то всё по печатному листу прибывших какие-то Мясоедовы, Дундуковы да Веберы из России. Вообще из России множество немцев. Итак, у меня ни одного знакомого, предвижу, что и не будет. Повторяю, скука невыносимая. Обед мне приносят, за 20 грошей - довольно невкусный. Хозяин и хозяйка со мной очень предупредительны, а маленькие дети их (с Лилю и Федю) принесли мне вчера в подарок цветов. Надо бы им купить гостинцу, а здесь и гостинцу-то нет. Одним словом, скучно.
Что-то ты, Аня? Всё хочется поцеловать тебя, и ночью ты мне снилась. Думаю про вас всякую свободную минуту, а свободных минут у меня множество. Пиши подробнее о деточках. Милая Аня, как я горевал, что у вас бани не было, несмотря на мои просьбы! Во-первых, я бы желал, чтобы тебя та осмотрела, а во-вторых, мысль, что дети по 1/2 месяца без бани - ужасна. Это вредит развитию их тела, заклеивает его, не дает ему питаться воздухом; не одним только ртом питается тело. Так мне было грустно прочитать это в письме твоем, что я целый тот день думал, да и теперь думаю. Аня, голубчик, как-нибудь сладимся, сделаем так, чтоб у нас это как-нибудь устроилось с детьми.
Что тебе еще написать о себе? Здесь в Курзале всего из русских газет один только "Голос". Пуцыкович хотел мне высылать "Гражданин", но я не получил. Уговорился тоже у Базунова, что "Русский вестник" мне пришлют сюда. Сегодня в первый раз видел императора Вильгельма. Музыка здесь очень недурна, два больших хора, инструментальный и духовой. Но, главное, скука, скука и скука. Просто с ума думаю сойти. За занятия еще и не садился. А дождю даже и конца не предвижу.
Целую и обнимаю тебя сто раз, детишек тоже, поговори им обо мне, скажи, что я об них думаю и спрашиваю. Анечка, голубчик, не кричи на них нетерпеливо. Я верю, ангел мой, и понимаю, что в твоем положении тебе трудно, а она, должно быть, часто мучает тебя. Но, ради бога, смотри за нянькой. Всё-то я беспокоюсь и мучаюсь, и, признаюсь тебе, расположение моего духа очень мрачно. А всего пуще боюсь за тебя; что если лечение мне не принесет особенной пользы - зачем же я тебя оставлял в таком случае! Упрекаю себя и мучаюсь. До свидания, голубчик, крепко, крепко обнимаю тебя, перецелуй деточек. Поклоны всем, кому надо.
Твой весь Ф. Достоевский.
Не сердись на меня за то, что я написал о бане. Люблю тебя, как моего ангела, который меня хранит и дал мне счастье. Грустно мне, Аня, здесь без тебя.
581. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
4 (16) июня 1875. Эмс
Эмс 4/16 июня 75. Среда.
Голубчик мой Аня, получил твое письмецо от 28 мая третьего дня, ужас, как долго идет. Благодарю за письмецо, за то, что в бане были, и за известия о тебе и о детишках. Пожалуйста, разнообразь время, ходи в театр и гулять почаще и всеми силами бодрись, то есть сопротивляйся окислению. В твоем положении стоит только начать поддаваться и уступать разным давлениям, как втрое станет тяжеле. Главное, пиши почаще, срочно, непременно в три дня (по крайней мере) раз, а то я здесь бог знает что выдумаю. С детишками говори иногда обо мне. Федина песенка премиленькая. Лилю целую особенно. Я здесь, Аня, буквально мучаюсь. Ни единого знакомого (хоть бы Кублицкий приехал). Не с кем слова молвить. Русские есть, но все совершенно мне неизвестные, и наполовину всё русские иностранцы и русские купцы. Неужели так всё время останется, очень тяжело. Погода у нас сквернейшая. До вчерашнего дня был сплошь дождь и ветер, а вчера дождь шел всего только три раза в день. Поутру, в семь часов, тринадцать и 14 градусов, затем к двум часам возрастает до 24-х и потом вдруг, в какой-нибудь час, вихрь, и падает опять на 15 и на 14. Третьего дня я почувствовал, что простудился, а вчера был весь день страшнейший насморк, чихал в час раз по 200 и по 300 (без малейшего преувеличения) и испортил в один день 5 платков и целое полотенце, в которое принужден был начать сморкаться. К вечеру жар, головная боль и большая слабость, так что я даже и испугался; но сегодня утром встал несравненно бодрее, чем предполагал, ложась. Насморк хоть и продолжается, но впятеро меньше. Жару тоже нет, только немножко болит голова. Главное же ободрило меня, что аппетит всё тот же (прекрасный) и язык совершенно чист (то есть завтра буду совсем здоров). Вот почему и не пойду к доктору, а пойду в свое время, чтоб не платить лишних талеров. Затем скука адская, тоска невыразимая. Народу здесь очень много, по курлисту уже 5000 имен. До невероятности чванные, жеманные, нахальные и грубые рожи. Развлечений никаких, гулять негде (все полно гадостью). Я был в Духов день в русской церкви, народу много, больше, чем я ожидал, но все бог знает кто. Дамы жеманничают, садятся на стульях и падают в обмороки. При мне в церкви три упали в обморок (от ладану и от духоты будто бы), а небось на бале пропляшет всю ночь или такой наворотит обед, что и двум мужикам было бы в сытость. Гадко. Доктор прибавил мне три стакана утром, по 6 унцев, и 2 после обеда, по 4 унца. Про лечение еще нечего сказать. Сквернее всего то, что еще и не думал начинать работу: и тоска, и все эти хворости и свинства всякую охоту из меня вышибают. А другие-то думают, что я за границу веселиться поехал. Анна Гавриловна и Александра Павловна, кажется, это думают. Кстати, которой из них нужна карточка Гамбетты, я забыл? Гамбетту я еще не сыскал, да и не до него мне, да и не понимаю нетерпения, чтоб посылать в письме. Подождут пока привезу. Если не отыщу здесь, то в Берлине надобно нарочно поискать его; там-то найду. Голубчик мой милый Аня, все ужасаюсь взятых на себя обязательств: вижу, что как ни старайся я, но почти не будет времени писать. Между тем чуть выеду отсюда, то уж и совсем нельзя будет писать с дорогой, с переездом в Петербург и потом ввиду того, что последует. Просто прихожу в большую тоску. Да подумывай тоже и об том, Аня, как нам решить насчет квартиры в Петербурге: должен ли я там отыскать ее, проездом, или мы вместе приедем из Руссы, хоть в гостиницу, и потом уже найдем? Об этом нужно твердо и окончательно решить. Также и об служанках: недурно, если б поехала с нами Лукерья.
Написать тебе еще ничего не имею. Желал бы сегодня совсем выздороветь. Воду пью аккуратно. Встаю в 6 утра, а ложусь в 11-м вечера. Жить здесь не совсем дешево, но я особенно денег не бросаю. Целую и обнимаю тебя чрезмерно, но любишь ли ты-то меня, голубчик, вот вопрос! Я об вас думаю беспрерывно. Детей целуй и пиши мне об них подробности. Хорошо, кабы ты всякую подробность, которую мне пишешь о детях, вписывала бы и для себя, на память, в особую тетрадку. Для этого можно бы особую книгу купить. И как бы это было хорошо, как пригодится и им и нам, чрез много лет, если удастся еще пожить. У тебя была идея в этом роде.
Милая Аня, верь моей любви бесконечной, умоляю, береги себя и детей. Кстати, не подумай обеспокоиться моим насморком. Всё это вздор. А может, прочтя это, засмеешься и назовешь меня фатом. Я потому написал: не беспокойся, что знаю доброе, милое сердечко моей женки, без которой, увы, живу вот уже две недели. Аня, милая, люби меня и думай обо мне иногда, от мысли о том мне будет веселее.
Деток целую, всем поклон. Нет ли известий от мамы, от Иван<а> Григорьевича? Ах, Аня, как я боюсь, что у них там опять что-нибудь выйдет и на тебя это подействует. Проклятая Ольга Кирилловна, гадкое купецкое отродье!
Обнимаю вас всех и всех.
Твой весь Ф. Достоевский.
582. Е. П. ИВАНОВОЙ
5 (17) июня 1875. Эмс
Эмс 5/17 июня/75.
Многоуважаемая и любезнейшая Елена Павловна, пишу Вам из Эмса (близ Рейна), где лечусь от моей грудной болезни здешними минеральными водами. Послали доктора хором и предсказывали самый дурной исход, если не поеду (вроде как с П. М. Леонтьевым, покойником, который тем же самым был болен). В прошлом году мне Эмс помог ужасно, и, конечно, вижу теперь ясно, что если бы прошлым летом (1) не был в Эмсе, то наверно бы прошлою зимою умер. От этой болезни умирают иногда вдруг, от малейшей простуды, от насморка, если уж болезнь овладела до того организмом. Здесь я сижу, пью воду и скучаю до того, что боюсь с ума сойти. Не думайте, дорогая Елена Павловна, что я взял перо от скуки: у меня и без того работы как у каторжного с моим романом, который теперь пишу. А просто я давным-давно хотел уведомить Вас и напомнить Вам о себе, с тем чтобы вызвать и Вас хоть на самый маленький отзыв. Но писать? Когда я пишу? Я писем писать решительно не могу, и не от лени вовсе, - меня нельзя упрекнуть ленью, а потому что совсем не знаю, что в письме написать и даже как письма пишутся. Точно так же не писал с лишком год и Софье Александровне. При сем прилагаю к ней письмецо и очень прошу Вас ей сообщить, как только ее увидите. А вместе с тем попрошу и Вас это письмо мое к Софье Александровне прочитать. Писано оно мною по тому поводу, что услышал наверно о том, какие слухи обо мне в Москве (теперь уже узнал не от одного Ивана Григорьевича, а еще и из других источников). Софья Александровна, вместе с другими, слухам поддалась и меня обвинила. Бог с нею, если у ней так это легко делается и обвинить человека и разорвать с ним ничего ей не стоит. Узнав о ее мнении, я был очень печален, убеждать ее я не намерен, но раз протестовать надо, а затем уж как она хочет. Но я подумал тоже и об Вас и с удовольствием почувствовал в сердце моем, что Ваше мнение обо мне, то есть об чести моей, совести, об душе моей (2) и об моем сердце, для меня очень дорого: мне слишком бы не хотелось, чтоб и Вы обо мне что-нибудь черное подумали. А потому и прошу Вас взглянуть на письмо мое к Софье Александровне; а вместе и попрошу, если Соня рассердится на письмо мое, сказать ей, чтоб не сердилась, а подождала бы лучшего конца. Впрочем, как ей угодно; может быть, только мне одному так тяжело разрывать в клочки все прежнее, прочие же гораздо меня благоразумнее.
В Москве ли Павел Александрович Исаев? Я знал, что он у Вас проживал некоторое время в номерах. Не наделал ли Вам каких хлопот? Если можете и не забудете, черкните мне хоть что-нибудь о нем. Он, конечно, сердится на меня, что я ему не дал 150 р. взаймы, но у меня, во-1-х, не было, а во-вторых, я и в эту же зиму ему достаточно помог в разное время и недавно еще, проездом в Петербурге, заплатил его долг в 25 р. Впрочем, очень попрошу Вас, дорогая Елена Павловна, не сообщать ему, что я об нем спрашивал Вас. Ей-богу, я ужасно стал бояться людей. Пренебрегать то, что о нас думают и говорят люди и как они на нас клевещут - и можно и должно, но есть степень, где всё вместе обращается в большой вред. Впрочем, думаю, что Паша обо мне не говорит дурно (слишком было бы ему стыдно это), но жена его дело другое.
Всю эту зиму я прожил в Старой Руссе, где прошлым летом купались дети; там они и теперь остались. А остался я в Руссе, во-первых, потому что дела много взял на себя (писал роман) и полное уединение не только не могло мешать, но могло и способствовать работе, а во-вторых и главное, потому, что климат петербургский для меня решительно становится невыносим. Тем не менее непременно придется воротиться в Петербург на предстоящую зиму и опять пробыть в нем до лета. Но это, кажется, в последний раз, и если бог даст веку, непременно устроюсь где-нибудь не в Петербурге. Полагаю, что перееду окончательно в Москву; в Москве хоть или очень многое так же дурно (если не хуже) как в Петербурге, но все-таки климат-то лучше. А мне с моею болезнью в нем уже оставаться нельзя.
Здесь, в Эмсе, я нынешнее лето совсем один. Прошлым летом нашел здесь очень много русских знакомых или перезнакомился, нынче же, хоть и много русских, но ни одного знакомого лица. Посетителей вод, со всех концов земли, бездна, по листу курзала в настоящую минуту здесь 5000 фамилий. И всё это в самом тесном пространстве, хоть и в живописном, но в смертельно надоевшем мне ущелье между горами... Но не хочется об Эмсе и говорить. Я здесь всего еще 8 дней, а уж жду не дождусь, когда кончится мой срок, точно в остроге сижу. Пробуду же я здесь примерно до 5-го или даже до 8-го июля нашего стиля. Если захотите мне черкнуть хоть две маленькие строчки, то вот адрес:
Allemagne, Bad-Ems А M-r Theodor Dostoewsky Poste restante
А если и ничего не пришлете, то всё по-прежнему буду о Вас так же думать и вспоминать и за Ваше счастье богу молиться. А теперь крепко жму Вашу руку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
(1) вместо: прошлым летом - было: прошлою зимою
(2) было: моем
583. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 (19) июня 1875. Эмс
Эмс. 7/19 июня. Суббота.
Милый мой голубчик Аня, прошу тебя очень, еще раз, пиши мне аккуратно каждые трое суток, чтоб мне приходилось получать от тебя известия непременно в три дня раз - иначе пропаду с тоски по вас и скуки здесь. Сам тоже буду писать в три дня по разу аккуратно (кроме, разумеется, каких-нибудь самых экстренных случаев). Все-таки надеюсь получить от тебя что-нибудь сегодня, но не наверно. Теперь 11 часов, а почта откроется лишь в час (то есть после прихода почты и разбора писем). Что-то с вами? Эти 4 дня, что не получал письма, кажутся веками. Я же по-прежнему: скучно, грустно, гадко и смутно. Насморк мой прошел. В свое время был у доктора (хожу в каждые 5 дней по разу), он не нашел лихорадки. Но я, однако же, сильно кашляю, по вечерам потею, в груди хрип сильнее, чем зимой, и отхаркиванье тугое. Может быть, действие вод, а может быть, и просто от подлейшего здешнего климата. Это Петербург в своем роде. До третьего дня всё шел дождь, вчера же и сегодня хоть и солнце, но страшно холодно, по утрам 13 градусов и даже меньше, в три пополудни при солнце 15, - точь-в-точь как у нас в Старой Руссе, в середине апреля. Пью я по три стакана в 6 унцов утром и по 2 в 4 унца вечером. Но рана в груди всё продолжает сказываться. Впрочем, сегодня всего еще 8-й день лечения. Слишком горько будет, если не получу совсем облегчения и ездил даром, убив и деньги и время. В теперешней квартире моей не совсем хорошо: под окном, в спальне моей, в доме рядом - мастерская, слесаря и лудильщики встают раньше 5 часов и начинают стучать молотками. Два дня сряду пробуждался я в 5 часов утра. Я жаловался хозяевам; хозяин ходил просить, чтоб начинали работу в 6 часов, но зато днем опять-таки целый день без остановки тик-тик, одуреешь совсем и нервы расстраиваются. В "Ville d'Alger" рядом квартира опросталась - и вот не знаю, съехать ли мне или нет? Не решаюсь и колеблюсь. Между тем работа еще не начиналась. Я даже не понимаю, как я напишу что-нибудь. Положим, мне еще здесь пробыть недели 4, но что я сделаю один, без тебя, и притом я еще не готов прямо сесть и писать, не выделал плана в частностях. Но уж после этих 4-х недель (а может, и всего только 3-х), когда выеду отсюда, предвижу, писать уже нельзя будет: в Петербурге надо биться нанимать квартиру, приехав же к вам, тотчас опять собираться в путь - когда же работать? Всё тяжелые мысли и сомнения, и вечно один, сам с собой. Не поверишь, до какого исступления, до какой истерики мне здесь скучно. Ни одного знакомого липа, ни одного слова не с кем сказать, всё один и один нет, это невыносимо! Никогда в жизни не было у меня времени подлее. А вдруг к тому же пожалует припадок, и нельзя будет уж совсем писать! Ох, тяжела даже мысль об этом, а это, может быть, наверно будет.
Жду, что хоть что-нибудь напишешь, над чем можно будет пожить душой хоть минутку, то есть фактов и фактов, это главное. Вероятнее всего, что почтмейстер скажет мне сейчас nichts da.
Пуцыкович начал мне присылать "Гражданина". С Базуновым я уговорился о "Русском вестнике", чтоб прислали 5-ю книгу сюда, и вдруг здесь, из объявления о выходе ее в "Моск<овских> ведомостях", читаю, что без "Анны Карениной". Так что и тут скука. Однако каково же: я по крайней мере прервал роман у Некрасова, кончив 2-ю часть, а тут прерывают прямо на середине 3-й части. Не очень-то церемонятся с публикой. Нам будет предстоять, кажется, очень тяжелая осень в Петербурге, друг ты мой, Аня. Во-первых, твое состояние, тут же моя работа, деньги и решение на будущий год, - то есть что я стану делать, чем промышлять, издавать ли "Дневник" или не удастся? Обо всем этом думаю беспрерывно, и уже всю голову изломал на этом. Дети мне даже снятся ночью. Надобно для них работать, нельзя их без ничего оставить, - а как это сделать? Задача. Жду твоего содействия во всём. При том же, бог располагает. Но это еще далеко. Только бы нам поскорее увидеться. А и увидеться спешить - хочется нравственно, а действительные обстоятельства не позволяют: не написав хоть сколько-нибудь романа, нельзя домой ехать.
Деньги все-таки идут. Здесь не так-то дешево. Так или этак, а всё идут. Кормить меня стали (из отеля) плохо, и я там на время отказал, хочу поискать чего-нибудь получше. А то стали приносить сущую гадость. Вообще, 22 или 23 непременно надо начать писать уже начисто и успеть сделать план, иначе ничего не успею привезть в "Отеч<ественные> записки". Милый друг мой, целую тебя, как моего доброго ангела, без которого, вижу, что жить не могу. Без детей тоже жить совсем не могу.
Здесь, для меня по крайней мере, никаких происшествий. Всё глухо и мертво. У кургауза и в парке теснота и толкотня невыносимые (мне уже облили пальто из стакана кренхеном). Рожи нестерпимые. Слышится и русский говор, но всё черт знает кто. Какие-то Мясоедовы, Вараксины и проч. Вчера вечером ушел бродить за город, места хорошие, но грустные. Здесь теперь очень много цветов. До свидания, ангел мой, обнимаю и целую тебя до того, что и самой тебе бы надоело. Целую твои ручки и ножки. Смотри, смотри, ради Христа, за детками, умоляю, ангел мой. Благословляю детей и целую. Карточку Гамбетты отыскал, но старую и нехорошую; лицо ужасно глупое, но все-таки в письмо не вложу: возбудит подозрение на почте, распечатают, будут читать, и письмо пропадет или запоздает. Не большая беда, если и подождут, сам привезу. Здесь должен был пожертвовать 3 талера на русскую церковь и талер на глухонемых.
Сейчас ходил на почту и получил от тебя письмо, одну крошечную страничку и удивился: письмо помечено тобою от 31 мая (суббота); а штемпель на конверте от Старорусского почтамта (1) от 3-го июня! Неужели 4 дня лежало на почте? Непременно так, потому что, если б не так, то до 3-го июня ты бы наверно уже успела получить мое письмо из Берлина и что-нибудь мне об этом приписала; да и странно: я из Берлина написал во вторник, 27 мая, так что даже и в субботу, 31 мая, от которого ты пишешь, ты уже должна бы его получить. Итак, в результате твое письмо от 31 мая пришло ко мне 7-го июня! Прошу покорно! (2) Прошу тебя, расспроси в Старорусском почтамте и внуши им: что же это такое? Уж не читает ли кто наших писем! Смешно. Я привезу конверт в Старую Руссу. Ясно на нем отмечено, что письмо отправлено 3 июня. Клеймо С<анкт>-Петербургского почтамта от 4-го июня. Но как же это берлинское мое письмо не дошло? Если даже оно в среду пошло из Берлина, а не во вторник (как я положил), то в субботу уже должно было быть у тебя. И вот теперь уже я беспокоюсь. Это ужас. И эмское мое письмо должно было уже ко вторнику дойти к тебе: я его послал к тебе 29 мая отсюда (по нашему стилю).
Пишешь, что у тебя расстроены нервы, жалею тебя очень, ради бога, развлекайся, гуляй, ходи в театр. Не подражай мне в скучании!
Спасибо (3) за несколько строчек. Спаси бог тебя и детей.
Твой весь Ф. Достоевский.
А в почтамте поговори. Я сохраню конверт.
(1) вместо: от Старорусского почтамта - было: из Старой Руссы
(2) далее было начато: Если же
(3) далее было: очень
584. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 (22) июня 1875. Эмс
Эмс 10/22 июня/75. Вторник.
Письмецо твое, дорогая моя Анечка, получил я в воскресенье, то есть то, которое ты писала во вторник от 3-го июня и пометила, что в 7 часов утра. И, однако, оно в тот же день из Старой Руссы не пошло, потому что на конверте печать старорусская от 4-го июня, и это именно потому, что в почтамте у вас нарочно задержали письмо на сутки, для того, чтоб от 3-го успеть отправить прежнее письмо (от 28 мая), провалявшееся (1) в почтамте 5 дней. Если б они послали оба письма разом, то тогда явно бы изобличилась их небрежность. Пожалуйста, побранись с ними хорошенько, Аня, чтоб они не делали глупостей. Очень меня беспокоит то, что ты пишешь о своих нервах и о своей раздражительности. К чему же это приведет? Я здесь от всего беспокоюсь, потому что сам раздражаюсь ужасно. Ради бога, голубчик, не смотри мрачно, есть в тысячу нашего хуже, а нам еще и радоваться можно, хоть бы на деток. Мне так приятно было прочесть то, что ты об них пишешь. Но всё забочусь, и день и ночь об них думаю, и обо всех нас: всё хорошо, а вдруг случай какой-нибудь. Случайного я пуще всего боюсь.
Во всяком случае увидимся скоро. Не думаю, чтобы здесь я долго зажился. И хоть даже ничего не успею написать романа, все-таки приеду раньше. Не знаю, принесет ли этот раз мне какую-нибудь пользу леченье. Пока никакой пользы не вижу. Правда, сегодня всего еще десять дней леченью. Мокроты скопляется еще больше, чем в Старой Руссе, и ранка, чувствую это ясно, (2) не заживает. Да к тому же и климат совершенно во вред лечению. С последнего письма моего, до самого сегодня, дождь лил как из ведра, буквально не прерываясь: что будет хорошего лечиться в такой сырости, беспрерывно слегка простужаешься. Сырость и к тому же скука; я думаю, я с ума наконец сойду от скуки или сделаю какой-нибудь неистовый поступок! Невозможно больше выносить, чем я выношу. Это буквально пытка, это хуже заключения в тюрьме. Главное, хоть бы я работал, тогда бы я увлекся. Но и этого не могу, потому что план не сладился и вижу чрезвычайные трудности. Не высидев мыслью, нельзя приступать, да и вдохновения нет в такой тоске, а оно главное. Читаю об Илье и Энохе (это прекрасно) и "Наш век" Бессонова. Вислоухие примечания и объяснения Бессонова, который даже по-русски изъясняться не умеет, приводят меня в бешенство на каждой странице. Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это - одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!
Кроме этого, развлечений здесь никаких, ни малейших. Только и есть что два раза в день на водах музыка, но и та испортилась: редко-редко играет что-нибудь интересное, а то всё какое-нибудь попурри, или "Марш немецкой славы" какой-нибудь, Штраус, Оффенбах и, наконец, даже "Emspastillen Polka", так что уж и не слушаешь. К тому же мешает толпа, густая, пятитысячная, на теснейшем сравнительно пространстве, толкаются, ходят без толку, точно куры. Но в эти дни дождя еще теснее, все жмутся мокрые, с мокрыми зонтиками под какую-нибудь галерею, и главное все разом, потому что пьют воду, а не являться в определенный час нельзя, и вот в это время оркестр играет "Emspastillen Polka". Газет русских всего выписывается две. Я получил "Русский вестник" - весь наполнен дрянью. Русские хоть и есть, но еще не так много, и все, как и прежде, незнакомые. По курлисту прочел, что приехал Иловайский (московск<ий> профессор) с дочерью, - тот самый Иловайский, который председательствовал в обществе Любителей российской словесности, когда читалось, как Анна Каренина ехала в вагоне, и когда при этом Иловайский громко провозгласил, что им (любителям) не надо мрачных романов, хотя бы и с талантом (то есть моих), а надо легкого и игривого, как у графа Толстого. Я его в лицо не знаю, но не думаю, чтобы он захотел знакомиться, а я, разумеется, сам не начну. Всё надеюсь, не приедет ли еще хоть кто-нибудь, но тогда, бог даст, я буду уже сидеть за романом и мне времени не будет. Ах, что-то удастся написать и удастся ли хоть что-нибудь написать. Беспокоюсь ужасно, потому что один. Хоть я и дома, в Руссе, сидел один, но знал, по крайней мере, что в другой комнате детки, мог выйти к ним иногда, поговорить с ними, даже подосадовать на то, что они кричат - это придавало мне только жизни и силы. А пуще всего знал, что подле - Аня, которая действительно моя половина и с которою разлучаться, как вижу теперь, действительно невозможно, и чем дальше, тем невозможнее.
Ну вот и всё обо мне. Я раздумал съезжать и остался в Hotel "Luzern". Кстати, вот тебе на всякий случай мой адрес: Bad-Ems, Haus Luzern, Logements № 10, а M-r Dostoewsky. (To есть ты по-прежнему всегда пиши Poste restante, а это я тебе на всякий случай.) Все-таки хозяева эти довольно деликатные люди, как я вижу больше и больше. Под окнами стучат меньше, а дети хозяев 4-х и 3-х лет, девочка и мальчик, полюбили меня и приносят мне цветов. Эти хозяин и хозяйка (Meuser) имеют дом и землю, и хозяйка сама стряпает и варит кофей, а он - учитель в школе и дает уроки. Соседи мои весь день не дома и являются домой лишь чтоб спать, это один бравый, молодой и очень красивый немец из Берлина, купец, и один 19-летний подросток, француз m-r Galopin, весьма учтивый молодой человек. Внизу, в бельэтаже, прямо подо мной, приезжее немецкое семейство снимает три комнаты. Барыня, мать этого семейства, довольно толстая немка, до того рассеяна, что вместо 2-х лестниц всходит иногда 4 в 3-й этаж и попадает прямо в мою дверь, отворит ее с размаха и стоит, секунды на три, не узнавая, куда зашла. Потом крик: "Ah mein Gott! и бежит к себе вниз: так было уже два раза, раз утром, другой раз - вечером. Впрочем, я и сам точно так же рассеян: не далее как вчера вместо своего отеля Luzern'a вошел рядом в отель "Genz", взял с доски мой ключ, то есть 10 №, поднялся в 3-й этаж и начинаю отворять мой 10-й № (совершенно точно так же расположено, как и в "Luzern"), но хозяйка и служанка прибежали и объяснили мне, что я живу не здесь, а рядом в "Luzerne". Хорошо еще, что они уже узнали меня в лицо, то есть что я живу в соседнем "Luzern'e", a то, конечно, могли принять за вора.
Аня, милочка, пиши мне каждые три дня, и (3) пиши как можно больше подробностей. Писем я жду, как манны небесной. Не сердись на меня, ангел мой, что я в моих письмах хандрлив. Бог даст, сяду за работу и забуду хандру. А тут, пожалуй, и лечение пойдет успешнее. Сегодня солнце и тепло. От одной тоски знаю, что не избавлюсь, это по вас: всё боюсь, что с вами случится что-нибудь. Обабился я дома за эти 8 лет ужасно, Аня: не могу с вами расставаться даже и на малый срок - вот до чего дошло. Аня, милочка, всё думаю о будущем, и о ближайшем и об отдаленном одно: дал бы бог веку, и мы с тобой что-нибудь устроили бы для детей.
Голубчик, живи веселее, ходи, гуляй, отгоняй дурные мысли. Есть ли у тебя доктор? Надо непременно бы пригласить, чтоб ездил. Известия об Ив<ане> Григорьевиче ужасно характерны. Он несчастен в полном смысле слова; одного боюсь, что у него терпения недостанет. Но он, как и ты, Аня, исполнен чувства долга, знает, что обязан детьми, и наверно укрепится и не решится на что-нибудь. А с ней надо действительно построже: ее надо совсем бы бросить.
Обнимаю тебя и благословляю детей, всех. Аня, почему не назвать, если будет девочка, Анной? Пусть будет в семье вторая Нюта! Так ли? Я даже очень так хочу.
Еще раз обнимаю тебя и всех вас.
Твой весь Ф, Достоевский.
Всем поклон.
Снишься ты мне часто. Впрочем, начались сниться и кошмарные сны (действие воды). Ужасно боюсь припадка, слишком долго не было. Значит, если придет, то в месяц раза три, так всегда после долгого перерыва. Что тогда делать с романом?
(1) вместо: провалявшееся - было начато: пролежав<шее>
(2) вместо: ясно - было: по ощущению
(3) далее было начато: пр<исылай?>
585. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 (25) июня 1875. Эмс
Эмс 13/25 июня 75/Пятница.
Милый мой голубчик, Аня, милое письмецо твое от субботы (7-го июня) получил вчера, в четверг, и за него благодарю. Главное, за успокоительные известия, и что ты призывала доктора. Это особенно меня беспокоило. Мне всё тяжело было, что ты из этого во что бы то ни стало, до самого последнего времени, как бы хотела сделать тайну. За детишек тоже благодарю - и за то, что смотришь за ними и довольна ими, и за то, что их доктору показывала. Все-таки я от тебя получаю лишь в 4 дня раз письмо, а сам пишу в 3 дня раз. Последнее письмо я послал тебе во вторник. В тот же день вдруг над всем Эмсом повис туман, совершенно молочный, непрозрачный до того, что за 20, за 30 шагов различить было нельзя, и так висел сутки при 20 градусах тепла и безветрия - значит, духота и сырость, так что совершенно не знаешь, во что одеться - в легкое, простудишься от сырости, а в тяжелое - вспотеешь и опять простудишься. Так простояло сутки, и вдруг пошел дождь. С тех пор вот уж третьи сутки льет как из ведра. Когда я пишу из ведра, то понимай буквально. Это ливень, который у нас, в нашем климате, в сильную грозу продолжается лишь 1/4 часа. Здесь же третьи сутки - буквально без перерыва, с шумом льет вода - изволь жить, изволь ходить пить воду. Я всё платье промочил. Здесь почва каменная, и чуть солнце - ужасно быстро просыхает, но в эти три дня до того размокло, что идешь, как в каше, мочишь ноги и панталоны. Зонтик уже не защищает. Какая тут польза от лечения, когда у меня беспрерывная простуда, легкая, но простуда - насморк и кашель. Пророчат, что сегодня к вечеру разгуляется. Впрочем, насчет моего лечения я еще не знаю, что сказать, потому что, несмотря на климат, мне кажется, по некоторым признакам, что некоторая польза может быть. Я теперь уже пью maximum, по 4 стакана утром и по 2 после обеда. Но сама можешь представить, какая мне здесь тоска и до чего у меня расстроены нервы. Пуще всего мучает меня неуспех работы: до сих пор сижу, мучаюсь и сомневаюсь и нет сил начать. Нет, не так надо писать художественные произведения, не на заказ из-под палки, а имея время и волю. Но, кажется, наконец скоро сяду за настоящую работу, но что выйдет - не знаю. В этой тоске могу испортить самую идею. Припадка жду каждый день, но не приходит. Странно и то: мне кажется, что я начал телом худеть, чего не было прошлого года, хотя, очевидно, это действие вод. Впрочем, аппетит и пищеварение у меня хороши. Ну, вот и всё об моем здоровье.
Мне, главное, о тебе. Жду, что напишешь мне насчет найма квартиры. Полагаю, что я здесь не очень долго теперь пролечусь, следственно, и квартира будет нанята рано, то есть наверно еще в 1-й половине июля. Я бы очень желал поскорее к вам: по крайней мере хоть не так буду беспокоиться о вас, когда вы уже на глазах будете. Да и оживу я с вами. А главное, ты, Аня, будешь у меня на глазах в эту тяжелую пору, а здесь всё боюсь какой-нибудь случайности. Но роман, и когда напишу, сбивает меня с последнего толку. Опоздать нельзя, да и денег надо. Как-то у нас пойдет в эту зиму, Аня, что-то будет. От меня, однако, решительно все отвернулись в литературе; я за ними не пойду. Даже "Journal de St.-Petersbourg" похвалил было "Подростка", но, вероятно, кто-нибудь дал приказ ругать, и вот в последнем № прочел, что в окончании 2-й части всё вяло "et il n'y а rien de saillant". То есть всё, что угодно, можно сказать, упрекнуть даже за прежние эффекты, но нельзя сказать, что нет сальянтного. Впрочем, вижу, что роман пропал: его погребут со всеми почестями под всеобщим презрением. Довольно, будущее покажет, а я энергии на будущее не теряю нисколько. Только будь ты здорова, моя помощница, и мы кое-как справимся.
Я по-прежнему совершенно здесь один, знакомых никого. Русских приехало довольно но, все aus Reval, aus Livland, какие-то Шторхи, Борхи, а из русских имен - Пашковы, Панчулидзевы и проч. Всё незнакомые. Но странно: меня, кажется, знают. Давеча, у источника, обратился к какому-то джентльмену с самым пустым вопросом по-немецки, тот мне тотчас же ответил по-русски, а я и не знал, что он русский. Значит, он знал (1) уже обо мне, потому что тоже не мог бог знает с чего догадаться, что я русский. Я, впрочем, от всех удаляюсь. Жить мне гадко, нестерпимо. Хозяева готовят кофей и Abendbrod ужасно скверно; но обед я беру из другого отеля (1-й уже бросил), и приносят буквально вдвое лучше обед, чем из отеля "Goedeke". "Гражданина" мне прислали один номер и вдруг забастовали. Не стоит писать, чтоб высылали. Встречаю довольно часто императора Вильгельма на водах. Он очень прост и мил, красивый старик 80 лет, а кажется не более 60. Одевается по-штатски щеголем. В толпе сидела раз дама с стаканом, высокая и худая, лет 30, в черной очень измятой шали и в черном простейшем платье. Вдруг к ней подходит император, как к знакомой, проговорил с ней почти четверть часа и, прощаясь, снял ей шляпу и подал руку, которую та пожала как самому простейшему смертному, совершенно без особого этикетного реверанса. Это была какая-то герцогиня, из владетельного прежде роду, и богачка. А между тем казалась в толпе простушкой, и наши русские светские шлюхи, должно (2) быть проходя, посматривали на нее с пренебрежением, а тут вдруг все разинули рты.
Я сегодня видел во сне и Федю и Лилю, и беспокоюсь: не случилось ли с ними чего! Ах, Аня, я об них думаю день и ночь. Ну умру, что я им оставлю. Только бы кончить проклятую эту теперешнюю работу, а там бы предпринять что-нибудь. Но это всё при свидании. А теперь дай бог, чтоб насущное как-нибудь уладилось. Целую и благословляю Федю и Лилю и... Впрочем, что ты, Анька, пишешь о двойне? Ах ты! Впрочем, целую и двойню, и давай бог, а тебя целую тридцать пять раз, как говорит Федя. Пиши об себе чаще. Я. же буду уведомлять по-прежнему аккуратно в 3 дня раз.
Целую тебя миллион раз с детьми.
Твой весь Ф. Достоевский.
Поклонись кому следует. Не слышно ли чего об Иване Григорьевиче?
(1) было: знает
(2) было: должны
586. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
15 (27) июня 1875. Эмс
Эмс 15/27 июня/75. Воскресенье.
Милый мой голубчик Аня, письмо пошлю завтра, в понедельник, пишу же его теперь в воскресение, с вечера, для того, что по утрам теперь намерен работать, а писание писем уж конечно очень бы отвлекало меня от работы, и так всегда теперь будет. Письмо твое от понедельника (9-го) получил вчера, в субботу, (1) каждый раз, получая твое письмо, радуюсь хоть тому, что с вами ничего не случилось худого, но на другой же день, каждый раз, опять начинаю сомневаться и опасаться за вас. Скоро ли кончится моя здешняя мука - не знаю. Но вряд ли больше 2 1/2 недель здесь проживу, много трех. Лечение мне, кажется, идет на пользу, но бог знает, особенно при такой погоде; впрочем, вчера и сегодня, по крайней мере, дождь нейдет, хотя барометр упорно продолжает стоять на Regen und Wind. Про работу мою думаю так, что пропало дело: начал писать, но чтоб я поспел к 25 июля доставить в редакцию, то этого, видимо, быть не может. А не поспею доставить, тогда Некрасов рассердится и денег не даст в самое нужное время; да и роману плохо. Здесь же, в таком уединении и такой тоске, чувствую, что не напишется хорошо; кроме того, каждый день жду припадка. Голубчик мой милый, Аня, мне тебя недостает, вот что. При тебе всё пошло бы лучше во всех отношениях. Если б не было ежечасной, тяжелой думы об этой работе, может быть, мне было бы легче. Особенно тоска подступает ко мне всегда к вечеру; по утрам же легче; вот почему и выбрал утреннее время для работы.
Спасибо тебе за подробности о детях, они меня здесь ужасно оживляют. Непременно заведи такую книжечку и слова их записывай. Спасибо тебе тоже за то, что отгоняешь от себя дурные мысли и мечты насчет своего положения, как ты пишешь; только правда ли? Если ты и впрямь стала умнее и отгоняешь опасные фантазии, то зато я здесь об тебе думаю и опасаюсь за тебя день и ночь, и всё потому, что мы в разлуке. Кроме того, мечтаю о тебе и целую тебя день и ночь беспрерывно... Я стараюсь много ходить и утомлять себя, сплю даже мало, почти менее семи часов. Да как ходить здесь, когда вот только теперь, сегодня, чуть-чуть просохло. Развлечений же здесь никаких, да и не пошел бы я никуда и без того, если б и были. Всё кажется, что я время теряю, а в результате хоть и дома сижу, ничего не работается: едва лишь начал первую страницу, да и тем недоволен.
Пуцыкович прислал мне 2 №№ "Гражданина" разом. Ну, уж до чего дописался князь Мещерский в своем "Лорде-апостоле", так это ужас. А Порецкий уже окончательно с ума сошел на Толстом. Из развлечений была у нас здесь одна "Regatta", то есть попросту призовая гонка на здешней речонке лодок, на пари франкфуртцев с Кельном. Избрали же нашу речонку, потому, что здесь император, так чтоб потешить его и проехать мимо него. При этом, разумеется, нескладные немецкие хоры, похожие на рев, музыка, а пуще всего то, что дело происходило в проливной дождь, но буквально вся публика высыпала к перилам набережной и так простояла более 2 1/2 часов под сильнейшим дождем. Император же смотрел из окна вокзала. Публика здесь прескучная, всего больше немцев. Наших русских довольно, мужчины еще туда-сюда, но дамы русские ужасны. Пищат, визжат, смеются, наглы и трусихи вместе. По смеху уж слышно, что она смеется не для себя, а для того, чтоб обратили на нее внимание. Немки не таковы: та и захохочет, и закричит, и кавалера по плечу ударит чуть не кулаком, но видно, что она смеется для себя и не думает, что на нее глядят. И как бы наши русские, особенно grand mond'a, где-нибудь на Елагином острове осмеяли ее за манеры, да жаль, нельзя. Одна при мне закричала, подзывая кавалера: pst, pst, a как он подошел, шлепнула его по плечу. И вдруг слышу подле русские дамские голоса: "Это что еще, кто такая? что за манеры", и один русский вдруг отвечает им: "Это княгиня Tourn et Taxis" (то есть считается владетельным домом). Но наплевать на наших русских холопов. Газеты тоже русские не могу читать, ни на одну минуту не свободны, все читают русские. Один русский молодой человек держит в салоне "Голос" по целым дням, не вставая с места. Ждешь, ждешь и уйдешь.
Впрочем, мне нечего, решительно нечего здесь описывать. Вот не знаю только, когда мне уведомить тебя, чтобы ты перестала писать, чтоб не посылать писем даром, когда уже я уеду отсюдова. Впрочем, лучше не уведомлять: пиши до последнего раза. Уведомь меня, не забудь, насчет твоего решения о квартире: непременно ли я должен ее сыскать теперь, проездом по возвращении, или уже потом, когда мы воротимся и станем хоть в гостинице. Но до этого еще далеко, предстоят еще недели три муки и - работа, работа, ужас! Эта поездка в Эмс была ужасна во всех отношениях, и хоть бы я здоровье-то отсюдова вывез.
Ты пишешь о деньгах, что идут; идут и у меня, голубчик, а они, однако, нам ух как нужны. Ну, а насчет няньки и кухарки как ты думаешь? Ведь не одним же нам с детьми в Петербург возвращаться.
Всё боюсь, что ты получишь какие-нибудь дурные вести об Ив<ане> Григорьевиче и затревожишься. Ну, до свидания, ангел мой бесценный, будь здорова (и не снись мне по ночам, сделай одолжение). Обо мне не беспокойся, как-нибудь перемелется. Детишкам обо мне напоминай. Помнят ли они меня в лицо? Спроси, пожалуйста, Федю, какой я собою. Бедные в середине лета принуждены будут в Петербург воротиться.
Благословляю вас всех, люблю, целую и жду с бесконечным нетерпением, когда брошу проклятый Эмс и ворочусь к вам. Люблю вас всех четверых. До свидания, обнимаю, тебя. Поклон кому следует.
Твой весь Ф. Достоевский.
Р. S. Голубчик Анечка, прошу тебя очень, пошли немедленно хоть 3 рубля (не меньше) на моршанских погорельцев в редакцию "Московских ведомостей". Письмо же напиши так:
В редакцию газеты (2) "Московские ведомости".
Покорнейше просят принять прилагаемые три рубля на Моршанских погорельцев от Ф. Л. и неизвестного.
Ф. Л. и неизвестный, то есть от Феди, Любы и неизвестного, но лучше написать буквами: от Ф. Л. и неизвестного, чтоб не догадались, пожалуй, что неизвестный есть будущий.
Подписка же на моршанских погорельцев открыта по разным ведомствам и в редакциях всех почти газет.
Твой Д<остоевский>.
Еще раз всех вас обнимаю.
(1) было: пятницу
(2) было: журн<ала>
587. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
18 (30) июня 1875. Эмс
Эмс. (1) 18/30 июня. Среда.
Милый друг Анечка, письмо это пишу в среду, а пойдет оно завтра, в четверг, как я уже и писал тебе.
Только сегодня, в среду, получил я письмо твое, которое ты писала от 12 июня, в четверг, и которое, по словам твоим, должно было отправиться на другой же день, то есть в пятницу, стало быть, 13 числа. Между тем на конверте печатью старорусского почтамта помечено от 14-го числа, то есть оно пошло лишь в субботу, а получил я его не вчера, во вторник, как бы должен был получить, а лишь сегодня только, в среду. Ясное дело, что письма в старорусском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский. Непременно, Аня, говори, кричи в почтамте, требуй, чтоб в тот же день было отправлено. Это черт знает что такое!
Письмо твое, разумеется, прочел с наслаждением и рад, что все здоровы, тем более, что всегда перед письмами начинаю очень беспокоиться о тебе и о детях. Жаль только, Аня, что ты ничего мне не пишешь об очень важном деле, несмотря на неоднократные мои запросы: именно, как мне нанять квартиру в Петербурге. 1) Непременно ли я должен нанять ее, проездом, и 2) Что мне будет делать, если квартира долго не наймется? Уведомляю тебя, Аня, что мне время теперь очень дорого, что в Петербурге, если я уже очень долго заживусь, я не в состоянии буду и нанимать квартиру и писать в то же время роман. А главное, если я очень заживусь, более недели в Петербурге, то что мне тогда делать? И не лучше ли нам всем вместе нанять квартиру уже возвратясь? Если остановимся и в гостинице, то столько же переплатим за № (если не гораздо меньше), сколько переплатим за квартиру за время, пока еще она будет стоять пустою и пока-то мы двинемся из Старой Руссы. Я, конечно, готов пробыть два или три дня в Петербурге, но желал бы не больше. Во всяком случае, прошу тебя (и наконец настоятельно) обратить внимание на этот вопрос мой, который я уже неоднократно задаю тебе, и написать мне наконец твое решение. Если на это письмо ответишь тотчас же (с понуждением на почте отправить его тотчас же, а не через день или через два), то очень успокоишь меня. Ко всем моим, уже и так многочисленным беспокойствам беспокойство о найме квартиры и об житии для нас в Петербурге примешивается самым мучительным образом. По крайней мере одно из сомнений моих будет разрешено.
Я могу отсюда скоро выехать, но ты не сомневайся и продолжай мне писать. Я напишу, когда тебе перестать писать. А в настоящую минуту сам не знаю, когда выеду. Завтра, 1 <июля>/19 июня, будет ровно 3 недели моему здешнему лечению. Доктор же говорит, что более 4-х недель здесь почти не лечатся (да и совсем не надо). 5 же недель назначается только в самых исключительных случаях, ввиду особых соображений. Итак, через 8 дней, в следующий четверг, то есть по здешнему (2) стилю 8 июля, а по-нашему 26 июня, я могу и кончить лечение и уехать по-нашему 27 или 28 июня. Но только к тому времени доктор посмотрит грудь мою. Теперь же, когда не вышло курса лечению (то есть 4-х недель), решить этого нельзя, то есть о том, кончить или еще на неделю остаться. Очень может быть, что я останусь и еще на неделю, а в таком случае выеду отсюда уже не 27-го июня по нашему стилю, а около 5 июля. Итак, верно только то, что я далее 5-го июля по нашему стилю здесь не пробуду. (Значит, мог бы, правильным путем, быть около 10-го июля в Руссе, если не останавливаться в Петербурге.) Впрочем, повторяю, на 3 дня я готов остановиться. Можно и в три дня что-нибудь нанять: это ведь на счастье.
Что же касается до лечения моего, то я решительно не могу сказать ничего положительного об успехе. Кажется, будет облегчение. Сам же я здоров. Здесь скверно то, что лечат почти одни воды, а доктор не вмешивается и даже не укажет порядком. Докторов хоть и много, но все осаждены и так, что придешь и ждешь буквально по 50 человек очереди. А потому они говорят с больными наскоро, почти небрежно. Пример со мной: неделю назад я был у Орта и жаловался, что все простужаюсь и кашляю. Он осмотрел горло и велел мне в тот же день взять у источника стакан кессельбруннена (другой горячий источник) и прополоскать горло (это называется gargariser, gargarisation). Я исполнил и в тот же вечер почувствовал облегчение. 3-го дня прихожу к доктору и говорю: так как мне уже раз gargarisation кессельбрунненом принесло пользу, то нельзя ли мне постоянно полоскать горло, потому что у меня постоянно раздражено горло, уже несколько лет (как муха в горле), так не будет ли, дескать, облегчения? Он удивился на это и вдруг спрашивает: "Так вы один только раз и ходили полоскать, а ведь я же вам велел постоянно! Вот вы неделю потеряли! Непременно в день по 2 раза". Итак, я неделю потерял, но решительно по его вине, потому что он положительно не сказал, чтобы продолжать постоянно, а доказательство тому, что о полоскании 2 раза в сутки, и подробности о том, что наблюдать при этом, объяснил только третьего дня, а если б велел 8 дней назад, то я знал бы об этих подробностях еще тогда, потому что при гаргаризации они всеми здесь неуклонно наблюдаются и их непременно надо растолковать больному заранее, а он 8 дней назад ничего не растолковал о подробностях.
Таким образом, к лечению моему присоединилось и полоскание горла кессельбрунненом. Если в эту 4-ю неделю увижу пользу и поздоровеет горло, то рискну сам остаться еще на неделю (то есть до 5-го июля), потому что раздражительность горла - один из самых главных припадков моей болезни. Я и не знал, что на водах, тут же при источниках, устроено 2 кабинета, собственно для гаргаризации, мужской и дамский. В кабинете до 20 мест, вроде как в писсуарах, и все 20 человек полоскают горло разом. Такая музыка. А полоскает несколько сот больных.
Ну, так вот обо мне главнейшее. Что же до остального, то у меня нет совсем новостей и подробностей. Я здоров, и погода у нас дня три уже не дурная (хотя не жаркая). Я по-прежнему один. Знакомых никого. Сосед мой, немец, уехал в Берлин, а рядом со мною нанял один приехавший русский (имени его не знаю и знать не хочу). Русских множество - все незнакомы. Какой-то один господин Сорокин подскочил ко мне сегодня и уведомил, что видел меня у Лизаветы Атамаровны (Барановой). Я его совсем забыл. Пошел рядом и заговорил тотчас об литературе. Я очень рад был, когда он повернул в свое место. Что же касается до моей работы, то и не пишу тебе ничего о ней: всё стоит и не двигается, план только составил уже окончательный, а работа еще не начиналась. Ни страницы не написано. Что со мною будет - понять не могу. Сверх того боюсь припадка.
Подробности, которые сообщаешь о детках, - живят меня и радуют, но что ты, ангел мой милый, так мало пишешь о себе? Разве не знаешь, как я люблю тебя и как мне весело узнать хотя бы малейшее о тебе происшествие. Целуй детей, напоминай им обо мне, чтоб не забывали. Песни Лиличкины записывай особо в книжку, пожалуйста (это очень важно и нужно). То, что ты пишешь об Иване Григорьевиче, просто ужасно. Нет, с этой сукой надо поступать как с собакой, а не человеком. Она еще наделает ему неприятностей небось. Вот если б он решился наконец окончательно разойтись с ней (то есть отречься от надежды и намерения жить опять вместе), то тогда бы он мог поступить и спокойно и строго, и это бы могло ее наконец вразумить. Но увидим, что далее, только бы спас бог его голову. Не столкнулись бы как-нибудь с Кукарекиным? и что ему Кукарекин? Кукарекин (3) и бросит Ольгу, так та сейчас другого заведет. Боюсь, чтоб ты об них как-нибудь не беспокоилась и не тревожилась.
А об тебе и о двух я очень тревожусь. И почему два? Уж не имеешь ли ты какого намека от бабки? Как бы я желал быть с вами! А тут еще найти здесь столько душевного спокойствия, чтоб работать, роман писать - да разве это возможно!
Ну, до свидания, голубчик, следующее письмо напишу в субботу, а пошлю в воскресение. Обнимаю тебя крепко, целую тебя тысячу раз. Деток благословляю! Милые! Ты не поверишь, в каком я здесь заточении, Аня! Главное этого вообразить нельзя постороннему.
Твой весь Ф. Достоевский.
Музыка сегодня исправилась (с погодою, должно быть), играли две пьесы Бетховена - верх восхищения!
(1) вместо: Эмс - было начато: Старая Р<усса>.
(2) было: нашему
(3) вместо: Кукарекин - было начато: Он бр<осит>
588. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
21 июня (3 июля) 1875. Эмс
Эмс. 3 июля/21 (1) нюня/75. Суббота.
Милый мой голубчик Аня, пишу тебе это письмо сегодня после обеда в субботу, а пойдет оно к тебе лишь завтра, в воскресенье, по примеру последних двух писем.
Ты как-то писала, что к тебе мои письма запаздывают. Да и ко мне твои письма непременно запаздывают лишним днем. Сейчас получил письмо твое от воскресения, 15 июня. Ты в нем пишешь положительно, что завтра, в понедельник (то есть 16 июня), снесешь его на почту в своё время (то есть не опоздав ни часу) и что, таким образом, оно непременно должно отправиться ко мне в понедельник, 16-го числа. И вот на конверте печатью старорусского почтамта помечено, что оно пошло 17 июня (все конверты я сохраню). Ясное дело, что письма задерживают и читают. Разве брать в почтамте расписку, что письмо принято и будет отправлено такого-то числа? Да не дадут они такой расписки.
На это письмо мое еще отвечай мне сюда, в Эмс. Но на следующее письмо мое, которое пошлю тебе в среду, 27 июня/6-го июля, (3) уже не отвечай, потому что, как полагаю, оно уже не застанет меня в Эмсе. А я все-таки буду продолжать писать тебе в прежние сроки. Ты же мне (не медля, впрочем) напиши тогда письмо уже в Петербург, до востребования, чтоб я мог найти его, туда приехав. Да еще прошу тебя очень, если б с тобой что случилось, то все-таки отправь в Эмс телеграмму Hфtel "Luzern" а m-r Dostoewsky, № 10.
Из письма твоего, голубчик ты мой, замечу, что ты очень мучаешься разными сомнениями по случаю предстоящего события и точно собираешься умирать. Эх, Аня, как мне это тяжело! Я знаю, ты очень мужественна, но ты ужасно мнительна. Но случаи несчастных родов не только реже случаев заболевания горячкой или какой бы то ни было болезни, но даже реже случаев раздавления на улице лошадьми! Это положительный факт, спроси кого хочешь. Не пугайся же, друг мой, вспомни, что ты родишь в четвертый раз, а с теми, которые уже привычны рождать, еще реже несчастные случаи, чем с непривычными рождать. К тому же здоровье твое, благодаря тому, что мы долго жили вне Петербурга, улучшилось сравнительно с прежним. И потому прошу тебя очень, подумай об всем этом и постарайся ободриться. Впрочем, что писать об этом! Думаю, что за всеми задержками, начиная от сего числа, через три недели я уже буду вместе с вами: а тогда будем толковать (и тосковать, если надо) вдвоем. Я кладу на всё три недели, но полагаю, что это maximum, а что и очень может быть, что и раньше трех недель (от сего числа) свидимся. В следующий четверг, на будущей неделе, то есть 26 июня/8 июля, минет ровно месяц моему здешнему лечению, а в понедельник, послезавтра, то есть 23 июня/5 июля, пойду к доктору и спрошу его окончательного мнения: оставаться ли мне еще, на 5-ю неделю, или уезжать? Полагаю, что он оставит меня непременно еще на одну неделю, значит я тогда 3/15 июля кончу лечение и 4-го или 5-го выеду, затем со всем, с житьем в Петербурге, еще надо положить неделю, итак, значит, около 12-го июля (нашего стиля) я могу быть уже в Старой Руссе. Так я полагаю, но может случиться, что доктор и не оставит на 5-ю неделю. Здесь считают важным не перелечиться. Лишнее лечение считается даже во вред. Я здесь купил книжку об Эмсе и его водах, русскую, изданную в Петербурге прошлого года. В книжке этой, между прочим, высоко ценятся некоторые мнения моего доктора Орта об эмском лечении. Говорится тоже и о вреде слишком долгого и большого питья вод. Но особенно упоминается о мнении врачей (по свидетельству бесчисленных примеров), что часто весьма бывает так, что больные, кончив курс, не только не чувствуют большого или даже заметного облегчения, но, напротив, некоторые так чувствуют себя даже хуже в сравнении с тем, как приехали, и только впоследствии, несколько месяцев спустя, уж зимой, начинают чувствовать нередко огромное облегчение и благословляют судьбу, что съездили в Эмс. Я могу засвидетельствовать (4) несомненно, что то же самое случилось со мною после поездки в Эмс прошлого года. Не будет ли так же и в нынешнем году? А (5) если такова моя природа, то не тем ли объяснять, что я до сих пор, пролечившись уже 3 1/2 недели, особенного облегчения не замечаю никакого. Так, конечно, было со мной и прошлого года, сколько помню. Теперь же, правда, кашель, исключая беглых простуд, гораздо уменьшился, но хриплость груди почти та же. Впрочем, гаргаризация горла кажется приносит пользу. Одним словом: как решит Орт. Потребую от него послезавтра, чтоб он осмотрел меня как можно внимательнее.
В этой же книжке я вычитал ужасную вещь: именно - что необходимо вполне изменить свой прежний образ жизни во время лечения, строго соблюдать диету и не предаваться ни-ка-ким умственным занятиям, а не то не только не окажется пользы от лечения, но непременно происходит вред и болезнь, по многим опытам, несомненно ухудшается. Умственные же занятия, в диете, поставлены на первом плане, в смысле вреда. Каково мне! Это же говорил мне и Орт еще в прошлом году, но я мало обратил внимания. Но в прошлом году я вовсе не так работал, или, по крайней мере, заботился и тосковал, как в нынешнем. Значит, теперь только лишь я серьезно сел за работу - бросить ее? А Некрасов? А "Отеч<ественные> записки"?
Я решился и написал сегодня Некрасову письмо, где всё это изложил. Я очень извиняюсь и очень прошу его о следующем: 1) Чтоб позволил мне начать печатать не в августе, а с сентябрьской книжки. За это обещаю, что напишу хорошо (да и действительно, кажется, напишу хорошо, план вышел восхитительный, и недаром я здесь над ним сидел). 2) Если никак нельзя ему принять это предложение, то уведомил его, что более 2 1/2 листов на августовскую книжку доставить не могу, а главное - уничтожится всякий эффект. На этот вопрос мой я прошу его немедленного ответа, но не в Эмс, а в редакцию "Отеч<ественных> записок", где проездом через Петербург получу его ответ. Письмо адресовал в редакцию "Отеч<ественных> записок", с просьбою к редакции переслать прилагаемое к Некрасову письмо туда, где он теперь находится (конечно, они знают его адрес). Какой-то ответ будет, не знаю, но я все-таки работу здесь не оставлю, а лишь уменьшу занятия наполовину. Ну вот как я решил, уведомляю тебя об этом. Но заметь, что, во всяком случае, произойдет задержка в деньгах в самое нужное для нас время. Нельзя же взять вперед, если уже и без того забрано.
Сосед мой - русский жид, и к нему ходит множество здешних жидов, и всё гешефт и целый кагал, - такого уж послал бог соседа. Об здешних новостях решительно ничего не имею написать: всё по-прежнему, всё мне надоело, ни одного знакомого, всё та же пестрая многоязычная толпа. Два дня было жару, а сегодня опять дождь. Впрочем, я чувствую себя довольно бодрым, и желудок мой хорош, а это всё хорошие признаки. За известия о детях благодарю; ради бога, записывай их словечки и песенки в особую книжку; слишком прошу. Почему, Анечка, ты не хочешь, чтоб, если дочка, назвать Аней? Тебе не мило имя, так мне мило. Очень, очень прошу.
Расскажи деткам, когда меня ждать. Что им привезти только, не знаю. Напиши мне в Петербург и о квартире, то есть сидеть ли мне нанимать или нет? Если, н<а>прим<ер>, нет, а между тем вдруг представится в Петербурге удобная для нас квартира, то нанять ее или нет? несмотря на ранний срок?
Бедный Кублицкий. Это тот самый; хороший был человек. Он тогда был в заседании "Любителей словесности", когда читали о том, как Анна Каренина ехала в вагоне из Москвы в Петербург. Так и не дождался окончания "Анны Карениной".
До свидания, Аня, милочка, может быть, уже и до близкого. Целую тебя тысячи тысяч раз и всё буду тосковать о тебе, потому, что ты тоскуешь. Ах, мне надо быть с тобой поскорее. Целую деток и благословляю. Говори им обо мне. До свидания, милая, обожаю тебя.
Твой весь Ф. Достоевский.
Поклоны.
(1) было: 23
(2) к этим словам на полях примечание Достоевского: а не 16-го в понедельник, пошло 17 во вторник.
(3) описка, следует: 25 июня/7 июля.
(4) далее было: уже (5) было: Но
589. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23 июня (5 июля) 1875. Эмс
Эмс. 5 июля В <Старую> Руссу.
Staraja Russa Madame Dostoewsky. Ich bin ganz
gesund; warum fragen Sie. Schreibe alle drei Tage eincn
Brief. Dostoewsky.
590. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23 июня (5 июля) 1875. Эмс
Эмс 5 июля/23 июня. Понедельник вечером.
Письмо это пойдет завтра, во вторник, милая Аня, сегодня, в час пополудни, получил от тебя телеграмму. Она меня очень удивила и измучила. С чего ты взяла, что я болен? Значит, ты совсем перестала получать мои письма, то есть пропало одно письмо. Но чего же из-за этого беспокоиться? Поверь, бесценный друг мой, что со мной ровно ничего не может случиться. Последнее письмо я тебе отправил вчера, в воскресенье. Перед тем отправил в четверг (то есть предпоследнее), и затем, перед четвергом, отправлено было письмо в понедельник. То есть ровно 8 дней назад. Таким образом, три письма в 8 дней. Я пишу постоянно и аккуратно в каждые три дня по письму. Я ответил тебе сейчас же телеграммой, которая и пошла во 2-м часу. Теперь уж девятый час, и она уже должна дойти; но я продолжаю ужасно беспокоиться. Во-первых, телеграмма твоя была на немецком языке и дошла вся перевранная. Старая Русса названа Skraja Russe, имени моего и следа не осталось. Дошла единственно потому, что обозначено было Haus "Luzern" № 10. Таким образом, переврут (в Берлине) и мою телеграмму и что, если не дойдет в Руссу, или пошлют ее в Рузу? И вот если не дойдет до тебя телеграмма, мне и мечтается всё теперь, что в пятницу или в субботу ты вдруг отворишь мою дверь и вбежишь сюда ко мне в Hфtel "Luzern". Ты не поверишь, Аня, как это мучительно! Как можно лечиться в таком расположении духа. Давеча я помертвел, получив твою телеграмму, и упал на стул. Я написал в телеграмме: Ich bin ganz gesund, и теперь кляну себя, зачем написал ganz: ничего не стоит в Берлине перековеркать ganz в nicht gesund. Судя по тому, как переврана твоя телеграмма, всё возможно. Теперь всю неделю буду в страшном беспокойстве.
Я сегодня в 4 часа был у доктора после целой недели отсутствия и попросил его, ввиду истекающих через три дня 4-х недель моего лечения, подробно и серьезно осмотреть меня. Он осматривал меня долго, подробно и серьезно и нашел, что грудь в превосходном состоянии, всё зажило. Но осталась хриплость и затруднительность дыхания; он сказал, что это может пройти само собою и что если я хочу, то в четверг (ровно после 4-х недель лечения) могу уехать. Полоскание же горла кессельбрунненом хотя и произвело в эту последнюю неделю большие успехи, но горло всё еще раздражено, "так что если б еще неделю, с сегодня начиная, полечиться, то не было бы ничего дурного". Так и решили. Итак ровно неделю, начиная с сегодня, буду еще лечиться. Сегодня 5 июля/23 июня, а в следующий понедельник будет 11 июля/30 июня, и вот в этот следующий понедельник (то есть по нашему стилю 30-го июня) - ровно через неделю я и выеду отсюда. Итак, ты уже более сюда ко мне не пиши, а напиши мне сейчас с получением сего письма в Петербург, poste restante. В письме этом напиши: нанимать ли мне квартиру в Петербурге, несмотря на такой ранний срок, или не нанимать и сколько времени сидеть нанимать и проч.? Об этом настоятельнейше и уже в последний раз прошу тебя.
Ты понимаешь, что со вчерашнего письма, которое ты, верно, уже получишь перед этим письмом, со мной нового ничего не могло произойти, кроме того разве, что роман мой совсем не двигается и не пишется. Жду покоя, когда-то будет. А здесь до того тошно, до того тошно жить, что буду долго вспоминать этот адский месяц.
Не забудь черкнуть мне хоть что-нибудь в письме про детей. Если выеду 11-го/30, то значит в пятницу или даже в четверг могу быть в Петербурге. А если б не сидеть в Петербурге очень долго, то в понедельник, 7-го июля, мог бы уже быть в Старой Руссе. Это значит ровно через две недели.
До свидания, ради Христа, будь покойна; осталось так немного до свидания. Обнимаю и целую тебя и буду всё мечтать о тебе. Благословляю деток; поклоны. (Черкни, не надо ли что купить в Петербурге?) Скажи деткам, что скоро приеду.
Твой весь вечный и неизменный Ф. Достоевский.
Чуть что с тобой случится (не дай боже) в известном отношении, то тотчас же телеграмму ко мне сюда, до 30-го июня нашего стиля я здесь. С твоею нервностью, (1) пожалуй, и случится. Ах, Аня, как тяжела разлука в такое время!
(1) далее было: всё
591. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
25 июня (7 июля) 1875. Эмс
Эмс 25 июня/7 июля. Среда.
Милый друг Аня, письмо это пойдет завтра, в четверг. (1) Пишу тебе всего несколько строк, тебе же отправил письмо вчера, во вторник. Но вчера получил и твое письмо (писанное в среду, от 18-го, но которое пошло из Старой Руссы не в четверг, 19, а в пятницу, 20, судя по штемпелю почтамта Старой Руссы). В письме этом ты пишешь, между прочим, о найме квартиры проездом чрез Петербург и предлагаешь сама приехать, чтоб вместе со мной искать квартиру. Вот на этот-то пункт и спешу поскорее написать тебе. Приехать тебе ко мне - было бы сущею нелепостью в твоем положении. Ради бога, не приезжай и не думай; только напрасно измучаешь себя. Найду квартиру я сам, только больше 3-х или 4-х дней искать не буду. Надеюсь, что найду и в этот срок. Ты, видно, меня не так поняла прежде: я не предлагал тебе приехать ко мне в Петербург, чтобы вместе отыскивать квартиру, а я думал, что, уже собравшись из Руссы совсем в Петербург переехать, с детьми и со всеми вещами, стать в гостинице, в номерах или у родственников и тут-то вместе сыскать квартиру; об этом я и написал тебе в одном из моих последних писем. Но теперь я сыщу один. Во всяком случае, увидим, но ты во всяком случае не трогайся с места. В Петербург мне напиши до востребования. Я вчера написал тебе, что выеду в понедельник. Так и сделаю. (В субботу, впрочем, пошлю письмо.) В Петербург приеду и пятницу, но вернее что в четверг. Из Петербурга сейчас напишу тебе. Прошу тебя, голубчик милый, будь покойна во всех отношениях. Здоровье мое прекрасно, только бы нам поскорее свидеться. Предстоит длиннейший путь. Деток целую, скажи им, что скоро приеду. Благословляю и люблю вас всех.
Твой весь Ф. Достоевский.
(1) было: в среду.
592. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27-28 июня (9-10 июля) 1875. Эмс
Эмс. 9 июля/27 нюня. Пятница.
Милый друг, Анечка, пишу тебе еще несколько строк; пойдет письмо завтра, в субботу.
Я вчера получил твое письмецо от субботы (пошло оно из Старой Руссы на этот раз правильно, то есть 22-го, в тот же день, как подала в воскресение). Письмо это доставило мне много радости, я прочел в нем, как ты меня любишь, тем более, что вот уже несколько дней, и день и ночь, всё мечтаю о том, как сам тебя люблю. Бог даст, скоро свидимся и тогда наговоримся, а я в тебя влюблен более, чем накануне свадьбы. Теперь несколько нужных слов: я писал тебе, друг мой, что выеду в понедельник, но по некоторым соображениям я это отменил: выеду я не в понедельник (30), а в среду, 2-го июля. Впрочем, может быть, во вторник, но знай, что ни за что не позже среды. Таким образом буду в Петербурге или в пятницу или в субботу. Если поеду во вторник, то отсюда уже более не напишу, а прямо из Петербурга напишу тебе. Если же поеду в среду, то напишу отсюда несколько строк во вторник от 1-го июля. Таким образом, не получая от меня какой-нибудь лишний день писем - не беспокойся: значит, я в дороге. Побудили меня отложить отъезд на целых 2 дня главное две причины:
1) Что из письма твоего от субботы вижу, что всё было исправно, и письма мои хоть запаздывали, но регулярно доходили, а потому и не понимаю, что такое произошло, что в вторник (1) ты прислала мне телеграмму? Если я выеду в понедельник, то, может быть, и не дождусь здесь от тебя письма в объяснение (отсюда шнельцуг в 6 часов в 20 м<инут> утра) и буду дорогой беспокоиться, и потому останусь до твоего письма, которое, вероятно, придет в понедельник или во вторник. (Есть у меня и еще мысль страшная: не переврана ли телеграмма и вместо Sind sie wirklich Krank не было ли: Ich bin wirklich Krank?). Что, если так? Во всяком случае узнаю это здесь наверно и дождусь письма. А вторая причина замедления та, что все-таки я два дня лишних пропью воду и буду полоскать горло. Таким образом, будет всего 4 недели и 5 дней лечения. Это почти столько же, что и прошлого года, когда болезнь была хуже.
Ну, а теперь обнимаю тебя, голубчик, может быть, до петербургского письма. Но вернее, что еще напишу во вторник. Только, ради бога, ты, Анечка, не езди из Руссы в Петербург. Это безумие. Этого только и трепещу теперь.
Может, увидимся 8-го или 9-го июля.
Обнимаю тебя и целую несчетно. Деток тоже. Наконец-то я увижу их.
Твой весь Ф. Достоевский.
Выеду ни за что не позже Среды.
NB. В Петербурге у меня денег достанет, чтоб отдать за месяц вперед за квартиру.
Post scriptum.
10 июля/28 <июня>. Суббота.
Сейчас, в половину 12-го утра, только что я запечатал письмо, чтобы нести на почту, вошел почтальон и подал мне твое письмо от вторника (23 июня, день телеграммы). Так вот разгадка телеграммы! А я думал, что письма не доходят. Но только какая странность! И надо же было непременно подвернуться этому бегемоту, чтоб так напугать тебя. А я именно никогда не чувствовал себя лучше здоровьем, как в этом скверном Эмсе; припадки бог знает сколько времени не были, груди очевидно лучше, а телом совершенно бодр и свеж. Ах, голубчик, как это они тебя так испугали и огорчили! Утешаюсь одним, что ты получила вовремя телеграмму, но когда? Очень поздно. Ты выслала в 10 часов, это значит по-нашему в 8 (для телеграфа меридианов не существует). Стало быть, тащилась твоя телеграмма ко мне 5 часов (получил в час пополудни, отвечал в 2). А что, если мою телеграмму как-нибудь еще переврали! И кто эту глупость мог напечатать (конечно серьезно, а не в насмешку, да и к чему бы такая насмешка?). Ох, беда быть "великим человеком"! Голубчик милый, во всяком случае ты теперь можешь быть спокойна, но я-то неспокоен, не повлияло бы в самом деле на роды! Может быть, еще дождусь здесь от тебя последующих писем! Выезжаю же я по-прежнему во вторник или в среду, но если что-нибудь в письме напишешь о здоровье своем беспокойное, то, разумеется, немедленно выеду. До свидания, голубчик, обнимаю тебя и целую сто тысяч раз.
Твой весь Ф. Достоевский.
У нас стояли три жаркие дня, а сегодня буря, дождь, вихрь, холод. Барометр стоит на Sturm.
NB. Впрочем, очень может быть, что выеду и во вторник l-гo июля.
(1) было: в понедельник
593. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
1 (13) июля 1875. Эмс
Вторник. 1/13 июля 75. Эмс.
Пишу тебе, голубчик Анечка, последнее письмо отсюда, и пойдет оно сегодня же. Всё не соберусь выехать и отложил отъезд до (1) послезавтра, то есть до четверга (в 6 1/2 часов утра). Всё разные мелочи мешают, то прачка белья не несет, то бьюсь с укладкой чемодана: много вещей, трудно уложить. А, между прочим, захотелось хоть один лишний день еще полечиться. Завтра, в среду, будет ровно 5 недель моему лечению без одного дня. Я к тому, что действие вод в последнюю неделю оказывается столь ощутительным, что если б была возможность, то, ей-богу, я бы остался еще на неделю или, по крайней мере, до субботы включительно (то есть до 5-го нашего стиля). Особенно удачно полоскание горла. Мерзавец Орт! Он до того небрежен с больными, благо что у него собирается по 50 больных в приемные часы! Он еще прошлого года должен бы был мне сказать о полоскании горла кессельбрунненом, а он ни слова, от грубейшей небрежности. Но - ужасно меня взволновали вот эти последние события. А впрочем, думаю, что и 5 недель лечения довольно. К тому же здесь я беспрерывно простужаюсь. Вот уже 4-й день дождь, ветер, вихрь и холод. Сегодня утром в 7 часов термометр (2) показывал одиннадцать градусов Реомюра. От сырости у меня разболелись зубы, и я невыносимо страдаю. Я этому не мог бы поверить: все корни зубов, которые все у меня остались - заболели, как будто и впрямь зубов полон рот, а передний уцелевший зуб до того болит, что за ночь вспухла десна и теперь тяжело носить вставную челюсть. В четверг постараюсь наверно выехать. Не знаю, получу ли еще от тебя здесь письмецо и не перестала ли ты уже писать в Эмс, по моей же просьбе. Последнее письмо, в котором пишешь, что у тебя головная боль, меня сильно беспокоит. Бог знает, может, ты что и скрываешь. Ну до свидания, ангел мой, писать больше нечего, а надо. стараться поскорее увидеться. Тяжелая мне дорога предстоит. Да и роман меня мучает. Денег у меня, кажется, недостанет, если придется в Петербурге заплатить за месяц вперед за квартиру; впрочем, не знаю, но не беспокойся: в случае нужды прихвачу капельку у Тришиных (с тем, чтоб сейчас же по приезде отдать им). Представь, княгиня Шаликова третьего дня приехала-таки, вместе с племянницей, дочерью Каткова (16 лет), которой предписано пить воду в Эмсе. Пелагею Егоровну она оставила в Венеции, где та купается в море. Мы на лету только сказали несколько слов. Но вчера и сегодня я их не встречал, вероятно, так и уеду не встретив.
Милый Федя, милая Лиля! Как они меня любят! Наконец-то выберусь из этой подлейшей дыры и обниму вас всех. До свидания, целую вас бессчетно, в виде предисловия, а потом
Твой тебя обожающий муж Ф. Достоевский.
(1) было: на
(2) было начато: бароме<тр>
594. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
6 июля 1875. Петербург
Петербург. Воскресенье 6 июля 75.
Бесценный друг Аня, сегодня, в воскресенье, приехал я в Петербург в 7 часов пополудни, на скором поезде. Значит, тащился из Эмса с 6-ти часов утра четверга. Правда, ночь четверга и всю пятницу промучался от скуки в Берлине, а выехал из Берлина в пятницу в 11 часов вечера. В самую ночь отъезда из Эмса, с середы на четверг, произошел у меня припадок падучей, так что я спал всего в ту ночь не более 4-х с 1/2 часов. В Берлине же опять не выспался. Можешь себе представить, как в таком состоянии и духа и тела могла подействовать на меня дорога, особенно с Берлина до Петербурга. Я был очень расстроен нервами и думаю, что не совсем в здравом рассудке; да и теперь тоже, особенно, когда еще не выспался. Завтра придется идти нанимать квартиру, а мне так хотелось бы к вам и у вас отдохнуть. Ты Анечка, вероятно, поймешь, как я устал, а потому мне не до описаний дороги; пишу же теперь потому, что предчувствую, сколько завтра будет хлопот, так чтоб отправить письмо пораньше. Первым делом поеду в почтамт узнать, нет ли от тебя писем? Денег у меня меньше, чем я ожидал. Надо будет занять у Тришиных: это меня несколько беспокоит. Если не займу у Тришиных, то постараюсь как-нибудь найти на квартирный задаток. Потому расскажу, каким образом у меня так мало вышло денег. В дороге я встретил Писемского и Павла Анненкова, ехали в Петербург из Баден-Бадена (где теперь Тургенев и Салтыков). Я не вытерпел и заплатил Анненкову (то есть для передачи Тургеневу) 50 талеров! Вот что и подкузьмило меня. Но никак не мог сделать иначе: тут честь. И Писемский, и Анненков превосходно обошлись со мной, но мне, и голове и телу, было очень тяжело. Здесь в гостинице (в Знаменской) - встретили меня восклицаниями: "А мы читали в газетах, что вы опасно так больны!".
Обнимаю тебя, дорогая моя, может, скоро увидимся. Но на это письмо все-таки ответь мне на редакцию "Гражданина".
Только на это, а там не пиши. В случае же какой надобности телеграфируй в Знаменскую гостиницу мне.
Детей обнимаю. Крепко целую. Скажи им, что я приехал. Ах проклятая квартира, еще не видя ее, проклинаю. До свидания ангел мой. Твой весь Достоевский.
595. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
21 августа 1875. Старая Русса
Старая Русса, 21 августа 75.
Дорогой и многоуважаемый Алексей Николаевич!
Прости, что тебя беспокою. Я выслал 3 главы (всего будет 5 на сентябр<ьскую> книгу) 3-й части моего романа. Не знаю, в Петербурге ли Николай Алексеевич? Кажется, наверно нет, а потому, как к старому другу, обращаюсь к тебе: нельзя ли закинуть кому-нибудь хоть словечко, чтоб не поленились мне сюда прислать корректуры как можно скорее? Я думаю, что к 5-му сентября буду в Петербурге. Но выслать ничему не помешает... И вот что главное: нельзя ли как-нибудь, чтоб ничего не выкидывали? У меня каждое лицо говорит своим языком и своими понятиями. При том же "Странник", говорящий "от Писания", у меня говорит чрезвычайно осторожно, я сам держал цензуру каждого слова. Ради бога, Алексей Николаевич, если можешь, помоги в чем-нибудь хоть капельку.
Весь твой Ф. Достоевский.
596. П. Е. КЕХРИБАРДЖИ
7 ноября 1875. Петербург
Ноября 7/75.
Милостивый государь,
Я могу согласиться на Ваше предложение лишь под тем условием, что получу сейчас же, при подписании контракта, не менее 1000 р., а при выходе книги в январе оставшиеся 200 р. Мне не будет никакой выгоды иначе. Я и продаю издание в чужие руки единственно потому, что в настоящую минуту должен и принужден уплатить один долг и продажа издания "Подростка" представляет мне один из выходов из моего положения. Но для сего надо получить 1000 р. разом. Да и никогда со мной не было, чтобы при продаже моих изданий я деньги получал после.
Во всяком случае это мое последнее слово. За сим свидетельствую мое глубокое уважение.
Ф. Достоевский.
На конверте: Г-ну П. Е. Кехрибарджи
От Достоевского
597. Н. П. ВАГНЕРУ
4 декабря 1875. Петербург
Декабря 4 75.
Многоуважаемый Николай Петрович,
"Сказку Кота-Мурлыки" напечатать в "Отечест<венных> записках" не могут, и я уже взял ее из редакции. При свидании объясню подробнее причины, представленные мне Некрасовым, теперь же скажу одно: причиною всё тот же поднявшийся на Вас гам за статью о медиумизме. Так что сказку Кота (которую я доставил Некрасову тогда не лично, как и говорил уже Вам, а оставил ее, не застав его дома, у него на квартире и приложил тут же написанное мною у него письмо) Некрасов и не развертывал, а в том же виде, как была доставлена мною, (1) прочитав только письмо мое, тотчас же и отправил в редакцию до востребования автором: "Не либерально-де выйдет, если Вас печатать". Сказка у меня уже дня три. До свидания.
Я всё был (2) занят, но наконец кончаю. Очень бы желал с Вами повидаться. Крепко жму Вам руку, мой усердный поклон Вашей супруге.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
(1) далее было начато: тот<час>
(2) был вписано
598. M. А. и Е. А. РЫКАЧЕВЫМ
9 декабря 1875. Петербург
9 декабря/75.
Милостивый государь Михаил Александрович и милая и дорогая Евгения Андреевна,
Мне чрезвычайно приятно было получить Ваше письмо. На днях брат Андрей Михайлович писал мне из Ярославля и уведомлял о том, что Вы намерены посетить меня. Первый праздник будет в воскресенье, 14 декабря, а потому, если пожелаете, буду ждать Вас, - впрочем, ранее 2-х часов пополудни я никого не могу принимать, потому что занимаюсь по ночам, а просыпаюсь не ранее 1-го часу пополудни.
Без сомнения, я тоже Вас помню, милая Евгения Андреевна, хотя тому немало минуло времени, а Вы тогда еще были ребенком; но тем приятнее будет узнать Вас теперь, равно как и уважаемого Михаила Александровича. Жена благодарит Вас за внимание и кланяется Вам.
Примите уверение в моем глубоком уважении.
Ваш Ф. Достоевский.
599. А. М. ДОСТОЕВСКОМУ
10 декабря 1875. Петербург
Петербург, 10 декабря/75.
Многоуважаемый и любезнейший брат Андрей Михайлович, письмо твое, от 1-го декабря, я получил несколько дней тому и не мог сейчас ответить, потому что был завален занятиями; теперь же отработался и спешу ответить тебе с удовольствием. Если в твоем семействе, как ты пишешь, наблюдаются родственные связи, то уж я-то, кажется, от них никогда был не прочь, и если наши родные, сплошь почти, знать не хотят родственных связей, то уж конечно не по моей вине. И теперь еще живут здесь, в доме сестры Александры Михайловны, двое племянников моих, верочкиных детей, Виктор и Алексей, учатся в Путей сообщения, и вот уже Виктор 3 года, а Алексей год, как здесь, а ни разу у меня не были; я же в детстве их немало передарил им гостинцев и игрушек. Сестра же Александра Михайловна и Шевяков не удостоили и меня (как и тебя) уведомить об их супружестве. Да мало ли еще найдется. Вот ты, милый Андрей Михайлович, пишешь же, что мы с тобой 5 лет не видались, тогда как мы виделись зимой в 72-м году и ты был у меня и познакомился с моей женой (еще помню был недоволен, что сестра Александра Михайловна приняла тебя с некоторым недружелюбием). Этому всего три года или без малого три, а ты пишешь, что 5, стало быть, и ты можешь быть не тверд в воспоминаниях насчет родственных связей и разных отношений.
До тебя дошли слухи, что будто я негодовал на тебя, что сохранили (вы с Варей) на меня документы тетке в 10000. Но это неправда, и сплетням не верь. На этот счет я негодовал, но не на тебя, потому что, по смерти тетки, тебе самовольно нельзя было уничтожить такие важные документы. Я негодовал на покойника Александра Павловича, при котором было написано завещание; выключая же меня из завещания, в то же время непременно надо было напомнить тетке, что надо разорвать документы. Мог бы, правда, напомнить потом и ты о том же самом, тетке или бабушке, но я тебя не обвинял, потому что не знаю до сих пор, известно ли тебе было, до смерти ее, содержание ее завещания.
От Евгении Андреевны я получил третьего дня любезное письмо, в коем просят меня (она и муж ее) назначить им день для посещения и по возможности ближайший праздник. Я и назначил ближайшее воскресенье, 14-го декабря.
Пишешь, что приедешь с супругою на праздники в Петербург. Это очень хорошо, - вот тогда увидимся и переговорим. Я, дорогой мой, всегда и постоянно занят, а потому, если редко переписываемся, то в том нет никакого знака охлаждения сношений и проч. А с тобой мне совсем не из-за чего ссориться.
Здесь пропустили слух, еще два года назад, что это я, особенно, старался отбить наследство у наследников по завещанию. Напротив, не у них, а у Шеров, которые завели дело. Глупее сплетен как по поводу этого завещания и не было. Особенно тут старался Шевяков. Я же с самого начала объявил и Александре Михайловне и московским, что, отбивая у Шеров мою долю (по закону), хлопочу об их же интересах и, получив деньги, тотчас же разделю их между ними, а себе только возьму за издержки по ведению дел и ни копейки более. А меня же и обозвали грабителем, тогда как я, отдавая им то, что мне следует по закону - законное у собственных детей моих отнимаю.
Ты спрашиваешь о моих детях: детей у меня трое - двоих ты знаешь, а третий родился нынешнего лета в августе, и теперь жена его кормит. Я прожил прошлую зиму в Старой Руссе потому, что жена и дети каждое лето ездят туда на воды и берут ванны (я же, уже два лета сряду, езжу в Эмс, потому что грудная болезнь моя принимает весьма серьезные размеры). Возвратясь в конце лета в Старую Руссу, я рассудил, что, взяв большую работу в один из журналов, мог бы с особенным успехом начать и кончить ее в уединении, так и сделал, и остался в Старой Руссе в полном уединении на прошлую зиму, в том еще расчет, что весной и летом семейство и без того должно быть в Старой Руссе, а я опять ехать в Эмс; теперь же, ради дел моих, опять поселился в Петербурге и уже чувствую ухудшение здоровья.
Я едва помню твоих детей, но люблю их уже за то одно, что ты ими доволен. Нынче редко отцы довольны своими детьми.
Мой усердный поклон твоей супруге. Жена благодарит тебя за привет и шлет свой. А затем пребываю любящим тебя братом.
Ф. Достоевский.
600. H. П. ВАГНЕРУ
21 декабря 1875. Петербург
21 декабря/75.
Многоуважаемый Николай Петрович,
Несмотря на всё мое желание быть у Вас (Вы подзывали меня тоже, в один из вторников, кажется, познакомиться с Бестужевым-Рюминым) - не мог никак исполнить желание: у меня в доме заболели дети, сначала один, а теперь другая, скарлатиной - болезнь прилипчивая, а Вы человек семейный. Кроме того, нездорова и Анна Григорьевна, жабой, хотя и не злокачественной. Можете представить, в каком я нелегком положении.
Что у Аксакова? Будут ли, наконец, сеансы? Я готов обратиться к нему сам (когда у меня все выздоровеют, разумеется): не допустит ли он меня к себе хоть на один сеанс? Я против статьи Бутлерова, и она меня раздражила еще более. Я решительно не могу, наконец, к спиритизму относиться хладнокровно. Между тем лучшее свободное мое время пропадает; потому что решительно прекратил ко всем посещения, и хоть свободен от литературы, но дела много и дома с больными и с уходом за ними.
А пока заочно жму Вам руку.
Весь Ваш Ф. Достоевский.
Супруге Вашей глубочайший поклон.
601. Bс. С. СОЛОВЬЕВУ
28 декабря 1875. Петербург
Декабря 28/75.
Многоуважаемый и дорогой Всеволод Сергеевич, весьма сочувствую Вашему привету и благодарю за него. Действительно, Вам никак нельзя быть у меня, но потому и я Вас не посетил по окончании работы. Теперь убедился, что с скарлатиной, имея детей, шутить нельзя. Федя выдержал и выдерживает чрезвычайно трудную скарлатину. Лиля - та очень легкую, хоть ничего еще не кончено. Анна Григорьевна хоть и поправилась, но выходить с своею болью горла никуда не решается ни шагу.
Статьи Ваши в "Русском мире" читаю постоянно и №№ эти аккуратно покупаю. Порадовался за независимое положение Ваше в этой газете. Самый последний фельетон Ваш читал с особенным удовольствием. Очень занимательно и понятно, что для теперешних читателей самое важное.
Вы пишете, что лежали больной: об этом не слыхал, а если б слышал, то написал бы Вам непременно. Не хворайте хоть теперь. Зубная боль - это ужас, а я слишком компетентный человек, чтоб судить об этом ужасе, много перенес этой боли.
Может, из газет увидали - что я объявил о "Дневнике писателя". Пускаюсь в новое предприятие, и что выйдет - не знаю. Всё зависеть будет от 1-го №, который выдам в конце января.
Свидетельствую глубочайшее уважение и искренний поклон от себя и от Анны Григорьевны Вашей супруге. Анна Григорьевна посылает Вам свой привет.
А я весь Ваш и крепко жму Вам руку.
Ф. Достоевский.
Назад к списку