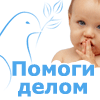Ганс Киншерманн, Кроваво-красный снег. Записки пулеметчика Вермахта:
Ганс Киншерманн
Кроваво-красный снег. Записки пулеметчика Вермахта
Серия: Вторая Мировая война. Жизнь и смерть на Восточном фронте
«Кроваво-красный снег. Записки пулеметчика Вермахта»:
Яуза-пресс; Москва; 2009; ISBN 978-5-9955-0053-7
Перевод: А. Бушуев
Аннотация
Уникальные воспоминания MG-Schutze (пулеметчика) мотопехотных частей 24-й танковой дивизии Вермахта, прошедшего через самые кровавые бои Восточного фронта, чудом вырвавшегося из Сталинградского котла, где полегла вся его дивизия, выжившего в кромешном аду Никопольского плацдарма и после страшного разгрома немецких войск в Румынии. Несмотря на строжайший запрет, Киншерманн всю войну вел фронтовой дневник, на основе которого и написана данная книга.
Эти мемуары – редкая возможность увидеть Великую Отечественную «с той стороны». Откройте для себя «окопную правду» по-немецки. Загляните в душу врага. Попробуйте на вкус соленый, кроваво-красный снег Восточного фронта…
Ганс Киншерманн
Кроваво-красный снег. Записки пулеметчика Вермахта
Глава 1. В пути
Сегодня 18 октября 1942 года. Сижу на охапке соломы в грузовом железнодорожном вагоне военного эшелона. Насколько это возможно при движении с бесчисленными рывками и толчками, делаю эти первые записи в моей новенькой тетрадке. Три года назад мы погрузились в этот поезд – примерно триста новоиспеченных 18-летних новобранцев, сопровождаемых несколькими ефрейторами, обер-ефрейторами и унтер-офицерами.
Нам, наконец, предоставляется возможность короткого отдыха. Последние три дня были чрезвычайно трудными и полными всевозможных событий. Перед отправкой на фронт нас срочно перебросили в тренировочный лагерь в Штаблаке, в Восточной Пруссии. Вчера командир тренировочного батальона в Инстербурге выступил перед нами с ободряющей речью о той роли, которую нам предстоит сыграть в военных действиях в России.
Для нас это была великая минута – мы, наконец, закончили курс боевой подготовки и считаемся без пяти минут солдатами, которых скоро отправят на Фронт.
Речь командира воодушевила нас, вызвав немалую гордость. Он говорил о военных успехах вермахта и о той великой миссии, которая возлагается на нас от имени фюрера и нашей любимой родины. Мы должны приложить все силы и боевые навыки и умения, которыми нам удалось овладеть. Наше отношение к этому было самым благожелательным, потому что, наконец, завершились наши ежедневные мучения. Шесть месяцев боевой подготовки означали для нас суровую школу, где послушание ставилось превыше всего. Мы еще долго не забудем нашу учебку и то, как строго нас там муштровали.
Но теперь все это осталось в прошлом. Мы с нетерпением смотрим в будущее, ждем наступления новой светлой эры. После того, как командир разрешает нам разойтись, мы в великом возбуждении выходим за ворота инстербургского тренировочного лагеря и направляемся прямо к вокзалу. Наши строевые песни еще никогда не звучали так жизнерадостно, как в это солнечное осеннее утро.
Тренировочный центр Штаблак хорошо известен старослужащим как место, где поддерживается очень строгая дисциплина, и военная подготовка осуществляется самыми жесткими методами. В настоящее время он служит транзитным лагерем для частей пополнения, отправляемых на фронт. Никто не знает, на какой именно участок передовой нас отправляют, потому что подобная информация строго засекречена. Нам выдали паек на три дня и погрузили в эти вагоны. С тех пор мучаемся все тем же вопросом – куда нас отправят? Единственный, кто знает ответ на него, – это обер-ефрейтор с Железным крестом 2-го класса и значком за ранение. Он находится в нашем вагоне, но ничего нам не говорит, и лишь молча попыхивает курительной трубкой. Он, а также еще несколько солдат, у которых на рукавах имеется одна-две нашивки, скорее всего, совсем недавно прибыли из роты для выздоравливающих. Начальник эшелона, наш Transportfuhrer, разместил их в каждый вагон на правах старших, которым мы должны подчиняться. Насколько мы понимаем, они возвращаются в свои части, в которые в качестве пополнения можем попасть и мы.
Кто-то услышал, что нашей будущей частью станет старая кавалерийская дивизия, превращенная в танковую, и дополненная двумя пехотными полками. Свидетельством этого является желтая окантовка на наших погонах. Желтый – традиционный цвет этой бывшей кавалерийской части, какое-то время воевавшей под Сталинградом. Я не придаю особого значения подобным слухам – поживем-увидим.
Из шестнадцати человек, едущих в нашем вагоне, со мной рядом находятся всего шесть парней из нашей учебной роты. Остальных я еще не очень различаю. С нами едет Ганс Вейхерт, он вечно голоден. Рядом с ним высокий парень по фамилии Вариас из нашей тренировочной роты. Вот Кюппер, высокий мускулистый блондин. Четвертый солдат – спокойный, сдержанный Громмель. Есть среди нас и Гейнц Курат, который любит играть на губной гармошке. Последний – Отто Вильке, который каждую свободную минуту использует для игры в карты. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, он сел играть вместе с несколькими другими солдатами.
Вспоминаю дни, проведенные в учебке, где, несмотря на строгую дисциплину и тяжелые физические нагрузки, я даже в самые трудные минуты не переставал радоваться жизни. Я думаю о прогулках по Инстербургу и посещении кафе-дансинга «Тиволи», где можно познакомиться и потанцевать с местными девушками. Признаюсь, я немного стесняюсь в таких случаях и в обществе девушек иногда краснею, однако всегда пытаюсь найти этому достойные объяснения. Пока что близких друзей у меня нет, наверное, потому, что я слишком требователен к людям.
19 октября. Сегодня воскресенье, но я этого не чувствую. Минувшей ночью было довольно холодно, но сейчас, на рассвете, мне удалось немного согреться. Снаружи мимо нас проплывает сельский пейзаж. Природа довольно скудная – куда ни посмотри, всюду жалкие деревянные домишки и полное запустение. Мы проезжаем мимо крошечных деревень, где преобладают строения с соломенной крышей и развалины кирпичных зданий.
На следующей станции видим людей, они стоят на рельсах и на платформах. Среди них есть те, кто одет в немецкую военную форму. Они похожи на охранников. Некоторые из нас машут из окон руками, но приветственных взмахов в ответ не получают. Наш поезд движется очень медленно, и люди, стоящие впереди, не сводят с нас глаз. Среди них много женщин, на головах у которых платки, тогда как у мужчин я вижу какие-то остроконечные шапки. Должно быть, это поляки. У них всех подавленный вид. В руках у этих людей лопаты и кирки для работы на железнодорожных путях.
На отдельных главных остановках нам дают горячий кофе, и иногда свежую колбасу. От консервированного мяса нас уже воротит. Мы также находим время помыться и привести себя в порядок. Нам точно неизвестно, где мы находимся, однако прошлой ночью наш эшелон, похоже, въехал на территорию России.
На рассвете мы неожиданно услышали доносящиеся от головы поезда звуки винтовочных выстрелов. Эшелон останавливается. Звучит сигнал тревоги. Где-то рядом находятся партизаны, они явно заинтересованы содержимым грузовых поездов. Становится тихо, и ничего больше не происходит.
23 октября. День за днем мимо нас проплывают огромные просторы России. С обеих сторон, куда хватает глаз, тянутся бескрайние поля, на которых видны сараи и усадьбы – так называемые колхозы. Вдали вижу группу людей, растянувшихся длинной цепью. Приглядевшись, понимаю, что это женщины, нагруженные какими-то массивными узлами и свертками. Рядом с ними идут мужчины исключительно с пустыми руками. Ганса Вейхерта сильно раздражает то, что местные мужчины идут налегке, позволяя женщинам нести тяжелую поклажу. Старший нашего вагона, обер-ефрейтор, поясняет:
– В этой части России подобное является нормой. Паненки, девушки, и матки, матери и взрослые женщины, с детства воспитаны в духе подчинения пану, или мужчине. Здешние мужчины – абсолютные бездельники: это они решают, что делать женщинам. Они или бесцельно разгуливают повсюду, или постоянно спят на печи. Сейчас молодых мужчин не осталось, одни старики. Те, что моложе, давно ушли на фронт.
В последние дни наш обер-ефрейтор стал более разговорчивым. Оказывается, он неплохой человек. Все началось после того, как несколько наших солдат обратились к нему со словами «герр обер-ефрейтор». Он быстро поставил их на место, сказав, что они уже давно не на учебном плацу. Кроме того, обращаться на фронте к старшему по званию словом «герр» следует лишь к тем, у кого на погонах имеется шнурок, то есть, начиная с фельдфебеля.
– К вам следует обращаться на «вы»? – поинтересовался Громмель.
– Только попробуй, никаких «вы», называй меня просто «друг». На передовой так принято, запомни!
– Или «товарищ», – вставил какой-то тощий белобрысый солдат, фамилии которого я не знаю. Позднее мне кто-то сказал, что он был кандидатом в офицеры, и для получения звания должен повоевать на передовой.
Обер-ефрейтор вскинул руку в протестующем жесте.
– Боже мой, ни за что! Это слово лучше подходит для тыловиков или вообще штатских, чем для фронтовиков. Извини, дружище, но все «товарищи» убиты.
Затем он рассказал нам о своей боевой части. Это бывшая кавалерийская дивизия, которую весной 1942 года преобразовали в танковую дивизию. Он воюет в ее составе с тех пор, как их реорганизовали и перебросили в Россию. В июне он принимал участие в боях под Воронежем. Наши войска понесли там огромные потери, было много убитых и раненых. В июле и августе он воевал вместе со своей частью на берегах Чира и Дона и под Сталинградом.
Так, значит, все-таки Сталинград, как мы все и думали! Однако туда нам еще далеко добираться, а пока мы все еще седьмой день находимся в пути и единственное ощущение – бесконечная качка и толчки вагонов.
24–25 октября. Наш эшелон неизменно перегружен другими солдатами, которые подсаживаются с оружием и боеприпасами для войск, воюющих на передовой. Кто-то сказал, что прошлой ночью мы проехали Кременчуг. Из этого следует, что мы в самом центре Украины. Ефрейтор – теперь я знаю его фамилию – Фриц Марцог – говорит, что мы проедем через Днепропетровск и Ростов-на-Дону, а оттуда нас перебросят на северо-восток, в направлении Сталинграда. Он оказался прав: день спустя, ранним утром, мы прибываем в Ростов-на-Дону.
Поезд останавливается на некотором расстоянии от железнодорожного вокзала. Неподалеку оказывается водонапорная колонка, так что у нас появляется возможность умыться. Погода стоит прекрасная, тепло. Туман, правда, еще не рассеялся, и поэтому солнца пока не видно. Мы бегаем возле вагонов голые по пояс – нам сказали, что мы еще постоим здесь какое-то время. Я собираюсь навестить друзей, которые едут в соседнем вагоне, но тут начинается настоящее столпотворение. Мы слышим рокот двигателей и видим в небе три русских самолета-истребителя. В следующее мгновение раздается треск пулеметных очередей.
Еще до того, как раздается команда: «Внимание! Воздух! Всем в укрытие!», большинство из нас торопливо прячется под вагонами. Вижу искры, отлетающие от рельсов; слышу звяканье пуль, рикошетом отскакивающих от них. Вскоре налет заканчивается, но через несколько секунд слышен чей-то истошный крик: «Они возвращаются!».
Я вижу, как самолеты действительно разворачиваются и снова летят на нас. Мне кажется, что снова разверзся ад. Сирены воют так громко, что у меня возникает ощущение, будто вот-вот лопнут мои барабанные перепонки. Похоже, что сейчас ведут перекрестный огонь несколько зенитных батарей, расположенных неподалеку от железнодорожного узла. Три самолета немедленно разворачиваются и целыми и невредимыми улетают прочь. Мы изумленно разглядываем друг друга: все произошло так быстро и все так не похоже на учебные занятия в тренировочном лагере, когда инструктор командовал нам: «Воздушная тревога! В укрытие!» Теперь нам понятно, что все случившееся – самая настоящая реальность; всем ясно, почему мы сейчас спрятались гораздо быстрее, чем на плацу. Кто-то говорит, что среди нас есть раненый. Ранение оказывается несерьезным – царапина на ноге, с которой легко справятся медики.
– Старшим вагонов отправиться за приказами к начальнику эшелона! – Эта команда по цепочке передается по всем вагонам. Вскоре с новостью возвращается Марцог. Он сообщает, что к нашему поезду прицепят две платформы, на каждой будет установлено спаренное зенитное орудие для защиты эшелона от воздушных налетов противника. Из этого следует, что сегодняшний налет – не последний! Кроме того, нам приказано еженощно выставлять караул, по два солдата на вагон, поскольку в последнее время в этих краях участились нападения партизан на поезда. Нам также придется временами ехать в обход, потому что в отдельных местах железнодорожные пути повреждены.
Нам уже давно не меняли сено, на котором мы спим, а одеяло не спасает от холода – у меня такое ощущение, будто мы лежим на голом полу. Вариас и несколько других солдат жалуются на то, что у них болят спина и бедра. Обер-ефрейтор усмехается и заявляет, что это неплохая подготовка к будущим трудностям: нам еще предстоит спать под открытым небом среди грязи в окопах на передовой.
Мы просим нашего ветерана рассказать об успешных боевых действиях его части, о летних боях. От этого мы испытываем еще большее нетерпение – нам хочется поскорее прибыть в место назначения и не пропустить ничего интересного. Дитер Малыдан, высокий белокурый кандидат в офицеры, выражает словами то, о чем мы все думаем. Марцог довольно лаконично отвечает:
– Не торопись, парень. Ты еще молодой. Еще успеешь наложить в штаны на передовой.
Мы уже слышали эту фразу, особенно часто ее повторяли солдаты из роты выздоравливающих. Они намекали на то, что мы, новобранцы, обделаемся сразу, как только русские начнут в нас стрелять. Чушь! Если так много солдат вели себя мужественно в первом бою, то почему мы должны проявить себя иначе? И, кроме того – причем тут возраст?
Почти каждый раз, когда эшелон останавливается, мы слышим бодрые радиосводки, в которых сообщается о действиях вермахта. Они раздаются из всех громкоговорителей, установленных на вагоне, в котором едет наш Transportfuhrer. Так и сегодня, 25 октября, в сводке сообщается о победах германского оружия. Наше настроение существенно поднимается, мы запеваем строевые песни.
Начиная со вчерашнего дня пейзаж меняется. До этого мы время от времени проезжали мимо деревень, но сегодня с обеих сторон от железнодорожного пути не видно ничего, кроме бурой степи с редкими невысокими холмами. Иногда перед нашими взглядами предстают колхозные строения.
Машинист останавливает эшелон прямо посреди подобного степного пейзажа. Мы вылезаем из вагонов. Оказывается, он заметил, что впереди взрывом разрушен участок пути. Придется возвращаться обратно – на это уйдет часов двенадцать, нужно выехать на другую железнодорожную ветку. Возвращаемся медленным ходом, с частыми рывками и толчками. При каждом подъеме, даже самом незначительном, локомотив кряхтит, как старый морж, выброшенный на берег.
Мы немного проезжаем дальше, затем все в нашем вагоне внезапно выпрямляются. Там, впереди нас, над высоким холмом, висит огромная черная туча, похожая на исполинскую хищную птицу, которая стремительно движется прямо на нас. Сначала мы слышим низкий басовитый гул, затем переходящий в мощное крещендо рев, подобный оглушительному жужжанию целого роя пчел… «Воздушная тревога! Всем в укрытие!» Мы выскакиваем из вагонов и бросаемся на землю. В вышине раздается грохот выстрелов авиационных пушек. Вижу взлетающие в воздух фонтанчики земли в тех местах, куда попадают снаряды. В следующее мгновение подают голос наши зенитные орудия, отвечая вражеским самолетам мощными залпами. Поднимаю голову и вижу падающие с неба небольшие бомбы. Они разрываются прямо перед самым локомотивом. Снова раздается безумный грохот, который, однако, быстро стихает.
Огонь наших зенитных орудий не причинил вреда вражескому самолету, но и мы не понесли особого ущерба. В локомотив попало несколько осколков. Есть и пробоины в стенах вагонов, но в целом ничего серьезного. Марцог поясняет произошедшее так:
– Это был «Железный Густав», советский боевой истребитель. Иваны часто используют на передовой такие самолеты. Они имеют простую конструкцию, летают на малой высоте, появляются неизвестно откуда, и все вокруг поливают огнем своих автоматических пушек. «Железный Густав» часто сбрасывает небольшие бомбы, но иногда и бомбы побольше. У него бронированное брюхо, против которого бессильны наши стандартные боеприпасы.
После авианалета едем дальше, карабкаясь вверх по холмам и скатываясь вниз на равнину. Сколько же это будет продолжаться? В конце концов нашему путешествию приходит конец. Ничего не поделаешь, поезд дальше поехать не сможет, даже если его подталкивать сзади. Что же дальше? Мы находимся посреди калмыцких степей. Нас 320 человек, у каждого – боевая выкладка весом 20 килограммов. Далеко ли до Сталинграда? Начальник эшелона поясняет:
– Остается 140–150 километров.
По всей видимости, из-за бесчисленных остановок и объездов мы сильно выбились из графика. Вскоре нам сообщают, что оставшуюся часть пути нам придется проделать пешком. До места назначения мы, таким образом, доберемся через четыре дня. Эту ночь мы проведем в вагонах, а завтра, в шесть утра, отправимся в путь.
26 октября. Встаем в пять часов утра. Темно. Нам выдают горячий кофе, полбуханки хлеба армейского образца и кусок копченой колбасы. Еще вчера мы заметили, что нам существенно уменьшили пайки. Несколько солдат, у которых сильно натерты ноги, остаются в эшелоне вместе с зенитчиками. Мы закидываем на плечи ранцы и отправляемся в направлении Сталинграда, определенном по карте и компасу. В предчувствии грядущих трудностей наше воодушевление значительно ослабевает.
Запеваем строевую песню, но вскоре смолкаем. Солнце поднимается выше, становится тепло. В обеденное время слышим долгожданную команду остановиться на привал. Днем нас нещадно жарит солнце. Несмотря на сильную усталость, мы шагаем вперед до наступления ночи. Останавливаемся и буквально валимся на землю в голой степи. Раскатываем плащ-палатки и одеяла. Ночью спим как убитые.
27 октября. Встав утром, ощущаю, как гудят одеревенелые от усталости ноги. Большинство моих товарищей чувствуют себя ненамного лучше. Съедаю ломоть хлеба, запиваю его глотком холодного кофе из фляжки. Одному богу известно, когда еще удастся всласть напиться.
«Шагом марш!» Те наши товарищи, что находятся впереди, идут довольно быстро. У них легкая поклажа, а вот остальные нагружены как вьючные животные. Мы несем плащ-палатку, одеяло, каску и зимнюю шинель. На поясе патроны, на плечах ранец с котелком и съестными припасами. На боку саперная лопатка, на шее – ремень тяжелой винтовки, мотающейся из стороны в сторону, на груди – противогаз. В руке мешок с чистыми носками, подштанниками и тому подобными вещами. Все вместе взятое весит не меньше 20 килограммов.
Идет время. Время от времени кто-нибудь из нас валится на землю от усталости. Позже, немного переведя дыхание, они встают и упрямо идут дальше. У многих из нас болезненный вид, бледные осунувшиеся лица. Виной тому почти полное отсутствие сил.
Неожиданно от головы колонны доносится весть: «Впереди деревня!» Это означает, что вот-вот мы получим воду и что-нибудь из еды. Собираем последние остатки сил и шагаем дальше. Скоро видим какие-то дома. Их не много, но неподалеку находятся несколько сараев, принадлежащих какому-нибудь колхозу, которые уже не раз попадались нам на пути среди бескрайних русских степей. Перед ближней хатой вижу колодец с воротом и помятым ведром.
В нескольких метрах от него стоит фельдфебель и ждет, пока подойдут солдаты. Те из них, кто первыми приблизились к нему, хотят опустить ведро в воду.
– Стойте! – кричит фельдфебель.
Солдат выпускает ведро из рук, и оно с шумом падает вниз. Вода может быть отравлена. Фельдфебель отправляется к одному из домов, украшенному резными наличниками, и входит внутрь. Нигде не видно ни души.
Из избы выходит фельдфебель вместе с каким-то неопрятного вида человеком в стеганой куртке. Это старик с окладистой бородой. Фельдфебель подталкивает его к колодцу, держа двумя пальцами за рукав. Ведро снова наполнено водой, на ее поверхности отражаются солнечные блики.
Указав на ведро, фельдфебель приказывает:
– Пей, русский!
Старик лукаво смотрит на него, улыбается и несколько раз повторяет какие-то слова, видимо, отказывается – вода, мол, и так хорошая.
Фельдфебель теряет терпение. Он хватает старика за воротник и силой пригибает его голову к ведру. Русский захлебывается, откашливается, но пьет. У него немного смущенный вид, но он нисколько не испуган. Видимо, вода нормальная.
– Можете пить! – разрешает фельдфебель. Ведро за ведром набираем воду. Старик улыбается. Он, наконец, понял, в чем дело. Жадно пьем, затем умываемся.
Колхоз вызывает у нас сильное разочарование. В нем мы не нашли никакой еды. В одном сарае обнаруживаем запас кормовой свеклы и несколько колосков ржи. Кюппер откусывает кусочек от свеклы и тут же выплевывает его. Тем временем из домов выходят несколько женщин, которые с любопытством рассматривают нас. Вейхерт говорит, что ему показалось, будто русский старик упомянул что-то о гарнизонной штаб-квартире и конфискации. Возможно, это означает, что здесь уже побывала какая-то немецкая часть и вывезла все съестные припасы.
28 октября. Идем дальше с пустыми желудками. Час проходит за часом. Мы все липкие от пота, чертыхаемся, что-то выкрикиваем для поднятия собственного духа, но все равно упрямо двигаемся вперед, километр за километром. Неожиданно мирную тишину нарушают гулкие ритмичные звуки. «Воздушная тревога! Ложись!» – кричит кто-то. Бежим, пытаясь где-нибудь укрыться, как нас когда-то учили, но после нескольких шагов останавливаемся на месте.
Разглядываю небо, и изучаю линию горизонта, над которой замечаю летящие в нашу сторону самолеты. Они тяжело нагружены бомбами, несущими смерть. Самолеты стремительно приближаются. На нижней части крыльев мы видим кресты и понимаем, что это немецкие бомбардировщики, вылетевшие на боевое задание. Поднимаемся с земли и приветственно машем им.
Бомбардировщики вместе со своим смертоносным грузом исчезают в северо-восточном направлении. Там, должно быть, находится Сталинград. Идем дальше.
– Далеко еще? – спрашивает коротышка Громмель, идущий между мной и Марцогом.
Марцог пожимает плечами:
– Представления не имею. Впрочем, слышал, что мы должны завтра быть там. – Как будто в подтверждение его слов, слышим далекий приглушенный гул, который сопровождается звуками, похожими на раскаты грома. Когда начинает смеркаться, мы видим вдали красную полосу на небе.
– Это Сталинград! – произносит кто-то.
– Что там такое светится? – указывает рукой Вариас. Мы смотрим в указанном направлении и видим в небе огни, напоминающие зажженные фонари. Затем слышим приглушенные хлопки взрывов. Следом за этим видим летящие с земли в небо длинные цепочки новых ярких огней.
Кто-то говорит:
– Да это же «швейные машинки»!
Один из ветеранов объясняет, что это легкий биплан, который обычно действует по ночам, сбрасывая подвешенные на парашютах осветительные ракеты для освещения целей противника. После этого он сбрасывает небольшие бомбы, главным образом осколочные. Пилот может выключить двигатели и, подобно планеру, бесшумно парить над целью. Противник обнаруживает его тогда, когда уже поздно бить тревогу. Фронтовики называют этот самолет «швейной машинкой» за характерный стук, издаваемый его двигателями.
Ветеран продолжает:
– Кстати, эти цепочки огней – следы трассирующих снарядов 20-мм спаренного зенитного орудия, которые пытаются сбить такую «швейную машинку».
Потрясающее зрелище. В ночном небе вспыхивает все больше отдельных огней и новых огненных цепочек. Странно, но мы ничего не слышим. Ощущение такое, будто смотришь немой фильм.
29 октября. Начинается новое утро, а наш моральный дух на нуле. Вот уже час как моросит мелкий дождь, и часть моих сослуживцев вслух выражает сильное неудовольствие по этому поводу.
Дождь усиливается и сопровождается сильным ветром. Здесь, в России, мы впервые сталкивается с действительно паршивой погодой. Порывы ветра становятся все сильнее и сильнее, а на открытом пространстве не видно никакого пристанища. Струи дождя хлещут нам в лицо, как острые иглы, барабанят по каскам, которые мы поспешили надеть. Ветер сильно треплет наши плащ-палатки, которые плохо спасают от непогоды. Они противно хлопают по ногам, обтянутым насквозь мокрыми штанами, а холодный ветер настолько силен, что в любую минуту можно свалиться на землю.
Мы с трудом движемся вперед.
Проходит несколько часов, и мы, наконец, видим вдали какую-то деревню. Дождь прекращается. Находим несколько пустых сараев, и устало опускаемся на землю. В деревне царит оживление. Повсюду снуют рядовые и другие военные чины. Все строго по уставу приветствуют друг друга. Неужели мы уже добрались до передовой? Судя по всему, это место «захвачено» штабными и писарями – «организационно-административными службами и командным пунктом штаба полка», как витиевато и не без иронии выразился Марцог. Наш начальник эшелона, по слухам, распорядился о постановке нас на довольствие.
Слухи вскоре подтверждаются, и мы получаем обильные порции ячменного супа с кусочками мяса. Горячая пища неплохо подкрепляет нас. После супа все чувствуют себя значительно лучше. Что же будет дальше? Ждем… Спустя какое-то время нам сообщают: предстоит преодолеть расстояние в восемь километров. В нас пробуждаются новые силы. Хотя тело ломит от усталости, а на ногах у всех свежие мозоли и потертости, нам удается пройти последний участок пути примерно за полтора часа, это весьма неплохо, если учесть тяжесть того груза, который нам приходится нести.
Многие пересказывают новый слух – на месте назначения нас погрузят на машины. Тем не менее, машин мы не находим. Нам снова приходится ждать.
Грузовики приезжают поздно, когда уже начинает смеркаться. Едем в темноте и приближаемся к мосту, перед которым скопилось много других автомобилей. «Река Дон», – слышу я чей-то голос у себя за спиной. Дальше едем по главному пути подвоза. Фары выключены из опасения привлечь внимание русских самолетов. Вдали слышатся звуки бомбежки.
Через несколько часов останавливаемся где-то посреди домов. Здесь нам предстоит разместиться на ночлег. Слышим далекие раскаты грома, небо освещается заревом пожарищ. Да, Сталинград совсем рядом. Настроение у нас уже не такое, каким было всего неделю назад. Все измотаны ожиданием и долгим маршем. Реальность сильно отличается от наших представлений о боевой обстановке в этих краях.
Наконец-то мы добрались почти до самого места назначения. Посмотрим, как все будет дальше. Через секунду усталость берет свое, мои веки тяжелеют, и я засыпаю.
Глава 2. БОИ В СТАЛИНГРАДЕ
30 октября 1942 года. Подъем в шесть утра. Снаружи еще темно. Завтракаем, пьем горячий кофе. Никто точно не знает о сложившейся боевой обстановке. Слухи, как обычно, самые разные. Кто-то утверждает, что мы еще не добрались до места, другой говорит, что от нашей дивизии остался только один полк. Нам предстоит отправиться от этого места в Сталинград. Кто-то сказал, что численный состав здешних частей сильно уменьшился и мы прибыли в качестве пополнения. Еще один слух – в данный момент от полка осталось лишь две роты. Для простого солдата слухи часто являются единственным источником информации. Даже если они и не соответствуют действительности, в них все равно обычно есть хотя бы крупица истины.
Скучаю по обер-ефрейтору Марцогу и другим солдатам из роты для выздоравливающих, с которыми познакомился в Инстербурге. Похоже, их тоже отправили вслед за нами. Раздается привычная команда: «В две шеренги стройся!» Мы строимся так, чтобы во второй шеренге всегда стоять рядом. Здесь все, кроме Мальцана. Нас 90 человек.
– В 1-й батальон 21-го полка! – командует молодой обер-лейтенант.
Ближе к полудню забираемся в грузовики и в четыре мерседесовских бронетранспортера. На борту машин эмблема дивизии – скачущий всадник в кружке. Сижу рядом с водителем в восьмиместном транспортере. Едем по главному пути подвоза, широкой дороге, плотно забитой различными транспортными средствами. Поверхность дороги ровная и гладкая, она протянулась по всей степи. Такое ощущение, будто она прочерчена ровно, как будто по линейке. Время от времени вижу съезды в сторону, повороты и перекрестки с указателями – названиями частей и местных деревень.
С быстротой молнии нас облетает новый слух: еще неизвестно, попадем мы в Сталинград или нет. Спрашиваю об этом водителя с погонами обер-ефрейтора. Он отвечает, что мы едем не в Сталинград, а на так называемые зимние квартиры. Это место, где располагаются обозы, – дело в том, что они не могут попасть в Сталинград. Отсюда осуществляются перевозки продовольствия и боеприпасов в наши части, находящиеся на северных окраинах города.
31 октября. Зимние квартиры располагаются недалеко от колхоза. Вокруг бескрайняя степь. С одной стороны от нас – глубокий и длинный овраг, такие здесь называют балками. Эти овраги – естественного происхождения, их много среди волжских степей. Их глубина порой составляет пять-шесть метров. Балка способна стать надежным укрытием для целого батальона. Нас встречает гауптвахмистр, на солдатском жаргоне – spiess, или «ротная матушка». Он сообщает нам, что мы вливаемся в дивизию с богатыми боевыми традициями, во время польской и французской кампаний она была кавалерийской дивизией. Далее гауптвахмистр объясняет, что дивизия особо гордится старыми кавалерийскими обозначениями: фельдфебель здесь зовется вахмистром, а рота – эскадроном. Батальон называется словом abteilung, а капитан – риттмейстером.
– Так точно, герр гауптвахмистр! – рявкаем мы в ответ на вопрос, все ли нам понятно. Тридцать один человек, и я в том числе, попадает в 1-й эскадрон, остальные – в другие эскадроны, которые дислоцируются неподалеку от нас. Затем нам сообщают, что до этого в нашем эскадроне оставалось всего 26 человек.
В нашем полку тоже испытывается нехватка личного состава – он сражался среди развалин Сталинграда главным образом небольшими боевыми отрядами, которыми из-за отчаянной нехватки офицеров часто командовали унтер-офицеры. Бои шли кровавые, потерь было очень много. Число раненых увеличивалось с каждым днем.
Эта новость не внушает особого воодушевления. Неужели хвастливые сообщения о наших боевых успехах, о которых мы слышали всего несколько дней назад, неправда? Это что, преувеличения или просто временные неудачи?
1–6 ноября. Ввиду сложившейся обстановки, мы удивлены тем, что нас не перебрасывают немедленно на фронт. Вместо этого нам приходится вести тыловую армейскую жизнь – мы занимаемся строевой подготовкой, учимся правильно отдавать честь офицерам, выполняем порой бессмысленные приказы начальства. Даже пройдя учебную подготовку, новобранцы по-прежнему остаются необстрелянными новичками, которым еще предстоит доказать, что они настоящие солдаты. Все это нормально и терпимо, но нам должны дать возможность по-настоящему проявить себя.
9 ноября. Далекие взрывы и другие звуки, характерные для боев со стороны Сталинграда, здесь слышны слабо. По ночам небо освещается заревом пожарищ и огнями «швейных машинок», выискивающих очередную жертву. Вечером нам раздают пайки. Каждый получает бутылку шнапса, несколько сигарет или табак, шоколадку и пачку писчей бумаги. В шестнадцатилетнем возрасте я однажды чуть не умер от алкогольного отравления – на какой-то праздник мы с моим товарищем выпили целую бутылку коньяку, которую тот принес из ресторана своего отца. С тех пор запах алкоголя вызывает у меня тошноту, зато к табаку у меня отношение нормальное – я сделался заядлым курильщиком. Вымениваю шнапс на сигареты и табак у некурящих товарищей. После выпитого спиртного атмосфера в нашем блиндаже меняется. Улучшается настроение, кто-то затягивает песню. Мы с Громмелем не пьем, потому что скоро наша очередь выходить в караул. Снаружи холодно и ветрено. Я рад, что на мне теплая шинель, которую во время долгого марша я часто проклинал, потому что ее было тяжело нести. Бужу Громмеля. Все остальные уже спят. В блиндаже стоит тяжелый дух, и я с удовольствием выхожу на свежий воздух.
11 ноября. Сегодня холодно, но хотя бы сухо, без осадков. Ночью все вокруг покрылось инеем. Вот уже который день в небе неспокойно. Наши бомбардировщики постоянно отправляются к Сталинграду. Видны облачка разрывов зенитных орудий противника.
Я нахожусь в карауле вместе с моим другом. Из Сталинграда только что вернулся грузовик, отвозивший боеприпасы. Так происходит каждую ночь. Из него выгружают двух убитых и трех раненых. Говорят, что серьезно ранен старший вахмистр. Раненых помещают в машину скорой медицинской помощи, которая отвезет их в госпиталь.
До этого времени нам не приходилось видеть убитых. Мертвые тела хоронят в определенном месте. Несколько дней назад, когда нас отвозили на маневры, я видел множество деревянных крестов.
Грузовик также привез трех солдат, которых по состоянию здоровья переподчинят разным командирам. Их разместят в разных блиндажах. Один из них попадает к нам.
Возвращаюсь в блиндаж и обнаруживаю, что мое место уже занято. На нем спит тот самый солдат, только что вернувшийся из Сталинграда. Его лицо трудно разглядеть, так густо заросло оно щетиной. Пилотка низко надвинута на глаза, «уши» опущены. Он крепко спит, но не храпит. Спит он неспокойно, часто дергает всем телом, как будто видит плохой сон. Ложусь на место Курата, который ушел в караул.
12 ноября. Сегодня после полудня наш старший фельдфебель дал мне особое задание. Мне нужно выкопать выгребную яму для новой уборной, потому что старая уже переполнена. В помощь мне дают двух русских, взятых несколько дней назад в плен в Сталинграде. Я впервые вижу русских солдат так близко и поэтому с любопытством рассматриваю их. На пленных грязные шинели и засаленные шапки-ушанки. Вид этих парней не внушает мне доверия. Однако они не вызывают у меня каких-либо опасений; я их не боюсь. Дело скорее в другом – в их непохожести на нас. Один из них явно монгольского происхождения. У обоих серые небритые лица и живые глаза. Они явно испытывают неуверенность в собственном будущем. На их месте я, наверное, чувствовал бы себя точно так же.
Русские оказались ленивыми. На мой взгляд, им по 25–30 лет. Их часто приходится подгонять. Когда мы вырыли яму и я оценил проделанную работу, стоявший рядом со мной русский неожиданно отбросил в сторону лопату и прыгнул в яму. Второй тут же последовал его примеру. Я пригнулся, думая, что мне делать, и решил тоже прыгнуть вниз. Оказалось, что я успел вовремя, потому что в следующее мгновение послышался грохот авиационных пушек и над нами со свистом пролетели снарядные осколки. Затем над ямой с ревом проплыла огромная тень. «Железный Густав», пролетавший над соседним колхозом, видимо, заметил нас и выбрал своей жертвой.
Новая уборная находится в стороне от расположения нашей части. Я выглядываю наружу, подняв голову над краем ямы, и смотрю в направлении нашего блиндажа. «Железный Густав» разворачивается на низкой высоте и открывает огонь из пушек, после чего сбрасывает пару бомб среднего размера. Через несколько секунд в небе неожиданно появляются еще два русских самолета. Они также поливают землю огнем пушек и сбрасывают бомбы. Под огнем, должно быть, оказались остальные солдаты нашей части. Или, может быть, они все еще на маневрах?
На самолеты противника обрушивают огонь все наши наземные пулеметы. Слышны громкие выстрелы 20-мм зенитных орудий. От брюха самолетов отлетают искры. Это сильно напоминает электросварку. Обычные пули легко отскакивают от брони, однако на хвосте одного из самолетов неожиданно появляется дымный хвост. Попали! Один «Железный Густав» отрывается от других самолетов, падает и, объятый пламенем, взрывается. Остальные улетают. Выскакиваю из ямы и бегом устремляюсь к нашему блиндажу. Здесь застаю только дневальных, нескольких больных и пару шоферов. Рядом с нашими машинами вижу воронки, оставленные взрывами бомб. В нескольких автомобилях пробоины. Из поврежденного бензобака одного из грузовиков вытекает бензин.
Ближе к вечеру с маневров возвращаются остальные наши товарищи. Они ничего не слышали об авианалете русских, потому что были слишком далеко отсюда. Вариас говорит, что они находились возле Карповки, рядом с железнодорожной веткой Калач – Сталинград. Быстро ремонтируем наш блиндаж.
13 ноября. Погода сильно изменилась. Стало холодно и сухо. Температура в Сталинграде – примерно минус пятнадцать градусов по Цельсию. Русские каждый день атакуют наш участок фронта, предваряя натиск пехоты мощной артиллерийской подготовкой. Эти атаки мы до сих пор отбивали, правда, неся при этом большие потери.
От нашего находящегося на передовой эскадрона осталось всего восемнадцать человек. Весь полк преобразован в одну боевую группу, которую перебрасывают на те участки фронта, где в ней более всего нуждаются. Горячую еду и боеприпасы мы получаем почти регулярно, каждый день. Еду вместе с двумя шоферами развозят повара, унтер-офицер Винтер и дневальный-санитар. Требуются два добровольца, которые помогали бы разносить кухонные бачки с провизией. Составляется список, в который каждый день включаются по два солдата от каждого блиндажа. Вчера вечером такими добровольцами записались мы с Кюппером.
Становится почти совсем темно, когда мы отправляемся на задание. Садимся в «штейр» с откидным верхом и полуторатонный «опель-блиц» с обтянутым брезентом кузовом. Повар знает дорогу, но заявляет, что не может быть и речи о главной полосе обороны, ведущей к Сталинграду, потому что линия фронта сдвигается практически каждый час. Совсем недавно она проходила севернее тракторного завода, но уже вчера она, похоже, переместилась южнее. Русские предположительно находятся возле химического завода, который они упорно обороняют, создав там новый плацдарм.
– Надо спросить у кого-нибудь нужное направление, – говорит унтер-офицер Винтер. Что же, тогда поехали. Нам остается лишь надеяться на то, что мы найдем тех, кто подскажет нам дорогу.
Мы едем по главному пути подвоза со скоростью, которую делает возможной скудный свет луны. Иногда наши машины едут нам навстречу, иногда они обгоняют нас. Справа от нас тянется железнодорожная ветка, связывающая Калач со Сталинградом. У станции Воропоново сворачиваем налево, проезжаем несколько километров и оказываемся в развалинах города. Едем среди воронок от взрывов и куч щебенки, объезжая высокие завалы битого кирпича и опрокинутые телеграфные столбы. От густого едкого дыма все еще тлеющих пожарищ першит в горле и легких. Слева и справа виднеются обгоревшие обломки всевозможной военной техники. Наш водитель зигзагами ведет машину к какому-то леску или парку.
Останавливаемся на вершине небольшого холма, откуда видна часть города. Далекие языки огня и клубы черного дыма. Ужасное зрелище. Наконец-то мы чувствуем жаркое дыхание Сталинграда. Должно быть, примерно так когда-то выглядел Рим, подожженный императором Нероном. Единственное отличие состоит в том, что здешний ад кажется еще более ужасным из-за свиста осколков и смертоносных взрывов, увеличивая безумие и создавая у наблюдателя такое впечатление, будто он стал свидетелем конца света. Чем глубже мы проникаем в город, тем кучнее ложатся снаряды вокруг нас.
– Это обычное вечернее благословение от Ивана, – комментирует санитар.
Он, видимо, хотел придать своей фразе легкомысленную интонацию, однако прозвучала она, скорее, глуповато, как обычная плоская шутка. Санитар, так же как и я, сидит на ящике с боеприпасами. Сердце гулко стучит в моей груди, я чувствую, что меня охватил страх. Слышу какой-то новый звук в воздухе – как будто хлопает крыльями многотысячная стая птиц.
– Выпрыгивай! Быстро! Это «сталинские органы»! – кричит санитар.
Мы выскакиваем из машины и укрываемся за сожженным трактором. Шум раздается теперь где-то дальше, как будто птицы улетели вдаль. Затем вокруг нас грохочут взрывы, напоминающие оглушительный треск фейерверка. Над моей головой со свистом пролетает осколок размером с руку взрослого мужчины и вонзается в землю возле Кюппера.
– Повезло, – замечает мой сосед-санитар. Неожиданно раздаются чьи-то крики, призывающие на помощь врача.
– Должно быть, задело кого-то из зенитчиков. Мы как раз проехали мимо расчета зенитного орудия, – говорит унтер-офицер Винтер, также запрыгнувший в нашу воронку. – Пошли!
Вылезаем и снова занимаем места в машине.
Санитар объясняет, что «сталинский орган» – это примитивная ракетная установка, помещенная на обычный грузовик. Ракеты запускаются электрическим способом. Они не могут попасть в конкретную цель, а просто очень кучно покрывают выбранный для залпа участок земли. Горе тому, кто оказался в месте обстрела и не нашел себе надежного укрытия.
Теперь мы едем очень осторожно. Во многих местах дорогу нужно тщательно расчистить, чтобы по ней мог проехать транспорт. Встречаем другие машины, водители и пассажиры которых, пожалуй, думают так же, как и мы. Многие из них нагружены ранеными и убитыми – вывозить их можно лишь в ночное время, чтобы не попасть под прицельный огонь врага. Считается, что русские не видят наших ночных передвижений, однако это великое заблуждение. Враг знает, что происходит в ночное время, и обстреливает эту часть города из дальнобойных орудий. В небе постоянно появляются русские «швейные машинки». Мы часто видим их, они четко вырисовываются на фоне темного неба, освещенного огнем пожаров.
Высоко в небо взлетают зажигательные снаряды. Спереди доносится громкий треск пулеметных очередей. Я уже узнаю по звуку марки русского стрелкового оружия. Мы слышим взрывы ручных гранат, сопровождающиеся криками, и останавливаемся посреди развалин. Винтер куда-то исчезает, но через несколько минут возвращается.
– Наши люди должны были оставаться там, где были вчера, – сообщает он. Приближаемся, насколько это возможно, к условленному месту. Затем нам приходится остальную часть пути преодолевать пешком, неся в руках контейнеры с едой.
Машины снова трогают с места и медленно, метр за метром, двигаются вперед. Вижу два сгоревших русских танка «Т-34». Проходим мимо них и приближаемся к огромному зданию, похожему на заводской корпус. На фоне горящих развалин домов вдали видна высокая дымовая труба, похожая на угрожающе вытянутый к небу огромный палец, этакий перст указующий. Заходим в тень, отбрасываемую заводским зданием.
Начинаем разгружать нашу поклажу, и хотим идти вперед, однако русские снаряды начинают падать именно там, куда мы направляемся. Некоторые из них ложатся в опасной близости от нас. Позади нас вспыхивает огромный факел, это снаряд угодил в какую-то машину. Затем еще один взрывается рядом с нами, наверное, это попадание в склад с горючим. Замираем на месте, ждем, что будет дальше.
Впереди земля сильно распахана воронками от взрывов, повсюду завалы каменных обломков, груды мусора. Я чувствую, как при каждом разрыве снаряда, предваряемом оглушительным ревом, покрываюсь гусиной кожей. Мы передвигаемся зигзагом, перескакивая через бревна, железные балки и камни. Спотыкаемся, бросаемся животом на землю, снова поднимаемся и снова бежим.
– Держитесь вместе! Не разбегайтесь! – командует Винтер.
В свете огня я вижу бегущих людей, затем взрывы ручных гранат. Мимо нас пробегают несколько человек. Винтер встает и о чем-то спрашивает одного из них. Судя по военной форме, это офицер.
– Нам нужно продвинуться немного вперед, а затем свернуть направо, – сообщает нам Винтер. – Пару часов назад они выбили Иванов из этого места. Теперь, они, видимо, хотят вытеснить нас отсюда.
Осторожно ползем вперед и вскоре оказываемся на открытом пространстве, заваленном кучами земли и бетонными глыбами с торчащими из них прутьями арматуры. По всей видимости, здесь раньше был блиндаж, уничтоженный бомбой. С другой стороны от нас высится стена и три чудом сохранившиеся колонны.
– Они должны быть где-то здесь, – бормочет Винтер, указывая на стену.
Идти дальше мы не можем. Тот участок земли, который нам нужно пересечь, русские поливают дождем снарядов и пуль. Неужели нас уже заметили? Прячемся за бетонными глыбами, однако осколки впиваются в землю так близко от нас, что я чувствую кожей лица жар раскаленного металла. Перед нами в небо взлетают трассирующие пули, трещат пулеметные и винтовочные выстрелы. Неужели Иваны снова атакуют?
Перестрелка постепенно смолкает.
– Бегом к стене! Живо!
Это Винтер хрипло выкрикивает команды. Бежим через завалы битого кирпича и обломков железа. Мы никого не видим. Проскальзываем мимо стены и оказываемся перед входом в подвал.
Неожиданно слышу чей-то крик, доносящийся как будто из-под земли:
– Эй, приятель, убирайся отсюда! Чего ты хочешь? Чтобы сюда по нашу душу пришел Иван?
Откуда-то из развалин появляется голова в каске.
– Мы ищем нашу часть, – доносится до моего слуха громкий шепот Винтера.
– Какую часть?
Винтер называет ему наш номер.
– Понятия не имею. Мы из другого подразделения. Но если вы ищете тех, кто выкурил русских отсюда этим утром, то найдете их метрах в пятидесяти от нас. Сверните направо к заводскому корпусу. Только убирайтесь отсюда поскорее и благодарите бога, что здесь пока наступило затишье.
Голова в каске исчезает. И они называют это затишьем? Мы не осмеливались оторвать лица от земли! Встаем и идем дальше. Под ногами у нас хрустят осколки битого стекла. Над руинами повисают наши тени. В следующую секунду в нашу сторону летят трассирующие пули, громко строчат пулеметы, осыпая нас градом пуль. Со всех ног мчимся вперед. Рядом с нами возникает какая-то тень.
– Вы не из полевой кухни 1-го эскадрона? – доносится из темноты чей-то вопрос.
– Это ты, Домшайд? – спрашивает в ответ Винтер.
– Так точно. Я тут уже два часа жду вас, чтобы показать дорогу.
Мы спасены. Домшайд – обер-ефрейтор. Он рассказывает нам, что утром они контратаковали противника и теперь занимают позиции в цехах завода.
Винтер ругается.
– Каждый раз, когда мы приходим, вы переходите на другое место. Когда-нибудь мы отдадим еду прямо Иванам в руки.
– Такое уже было, – говорит Домшайд. Прошлой ночью четверо солдат из 74-й пехотной дивизий угодили в лапы к русским вместе с едой и боеприпасами. Во время утренней контратаки мы нашли лишь пустые контейнеры и никаких следов наших бойцов.
Ползем следом за Домшайдом. Слева и справа с противным свистом в землю впиваются трассирующие пули. Случайно ударяю бачком о какую-то железку. Русский пулеметчик тут же открывает огонь. Оказывается, Иваны совсем близко. Мы крепко прижимаемся к земле. Пули пролетают над самой моей головой, выбивая фонтанчики пыли из бетонных глыб. Мелкое цементное крошево сыплется мне на шею, мокрую от пота. Бросаюсь вперед и перетягиваю за собой на другую сторону бетонной глыбы два контейнера с едой. Кюппер следует моему примеру. Он лежит впереди, на расстоянии двух-трех метров от меня, рядом со спасительной стеной. Тороплюсь догнать его, делаю шаг вперед и падаю в пустоту. Меня тут же подхватывают чьи-то руки и ставят на ноги.
– Держись! – говорит кто-то басом и добавляет: – Откуда ты взялся? Мы тебя чуть не подстрелили. Считай, что тебе здорово повезло!
Домшайд объясняет, кто мы и откуда.
– О, господи, так вы шли по этой улице? Да ведь там полно русских!
– Я пришел сюда два часа назад, когда Иваны были далеко отсюда, – говорит Домшайд.
– Верно, но час назад все изменилось. Макс, у тебя огнемет готов? – спрашивает все тот же бас.
– Конечно, как всегда, – раздается ответ.
– Отлично, тогда мы прикроем вас. Перебегайте на ту сторону улицы вслед за нами. Давайте, вперед бегом!
С первым залпом огня мы бросаемся вперед. Кюппер немного проворнее меня и почти выдергивает мою руку из сустава, потому что я держу дужку бачка с другой стороны. Русские открывают ответный огонь. Затем в бой вступает артиллерия. В короткую паузу между двумя взрывами слышу звуки подключившихся к пушкам минометов. Мины с отвратительным чавканьем рвутся рядом с нами. Похоже, что нас обложили, как загнанных зверей, со всех сторон. Ныряем в подвал и тесно прижимаемся друг к другу, вздрагивая при каждом новом взрыве. Я опасаюсь, что в любой момент рухнет потолок, и мы будем погребены под тяжелыми обломками. Земля над нами содрогается так сильно, что мне кажется, будто началось землетрясение. Мои нервы на пределе. Никогда не представлял себе, что могу настолько испугаться.
Сделать ничего нельзя, абсолютно ничего. Единственное, что мы можем, это выскочить наружу и бежать. Но куда? Единственным утешением может быть то, что смерть в таком случае окажется быстрой. Неужели мы и дальше будем трубить о «доблестных победах славного германского оружия» и «героическом наступлении победоносных частей вермахта»? Здесь, в Сталинграде, я не видел ничего подобного. Сейчас моему пониманию доступно лишь одно – мы напоминаем крыс, загнанных в норы и отчаянно сражающихся за свою жизнь. Что еще нам остается при численном превосходстве русских? Водитель и санитар сидят рядом со мной с одной стороны, Винтер и Кюппер – с другой. Лицо Кюппера сделалось белым как мел. Мы с тревогой смотрим на покрытый трещинами потолок, который может в любое мгновение обрушиться на нас. Оказывается, что самые крепкие нервы – у Домшайда. Он стоит у входа и всматривается в темноту. Что касается меня и Кюппера, то за последние часы нашего пребывания в Сталинграде наше желание воевать сильно остыло, и это притом, что у нас пока не было «личного контакта» с врагом. Сейчас я думаю только о том, как и когда мы сможем выбраться отсюда. Мы уже несколько часов находимся в этих богом забытых развалинах, но еще не добрались до нашей части. Домшайд со своего места сообщает о том, что Иваны стреляют по всему, что движется. Поскольку мы ответили им пулеметным огнем, то они, по всей видимости, считают, что мы готовы атаковать их, и стараются помешать нам перейти в наступление.
– Если бы только русские знали, что мы были бы рады не высовывать отсюда голову до того времени, пока нам не пришлют подкрепление, – говорит Домшайд. – Вахмистр сказал, что нас должны заменить.
– Блажен, кто верует, – бормочет санитар. Наконец обстрел прекращается – мне кажется, что он длился целую вечность. Мы выскакиваем из подвала и бежим за Домшайдом, который знает дорогу. Он устремляется к заводскому корпусу, зная, что там установлен пост наблюдения. Затем выкрикивает слова пароля и называет себя. Заскакиваем в новый подвал, вход наполовину завален обломками камня. Домшайд приводит нас по коридору в какую-то комнату, где вход забран металлической решеткой. Вижу огоньки двух коптилок, дающие достаточно света, чтобы видеть хотя бы что-то в темноте помещения.
– Это наш новый штаб, – сообщает Домшайд.
На полу валяется куча мешков и кучи какого-то тряпья, на которых, скорчившись, лежат два солдата. Еще один сидит на ящике с боеприпасами. Перепуганные произведенным нами шумом, оба солдата вскакивают с пола и помогают нам внести еду. Судя по их виду, они жутко устали – кто знает, когда еще им удастся немного поспать? У них серые от грязи небритые лица. Оба кажутся мне неотличимыми, как близнецы. В комнату входит вахмистр. Он приветствует нас и за руку здоровается с Вейхертом. Я узнаю его – это тот самый человек, который заставлял русского старика выпить воду из ведра. Вахмистр сообщает Винтеру о том, что единственный оставшийся офицер нашего подразделения утром получил ранение и что командовать нашим участком передовой будет теперь он. Наши солдаты находятся впереди и по обе стороны от этого места, они прячутся среди развалин. Боевые действия ведутся волнами, то выплескиваясь вперед, то откатываясь назад, и никто не знает, где точно проходит линия фронта. Потери сегодня такие: один убитый и два раненых, которых уже повезли на главный медицинский пункт.
– Трудно представить себе более безумное место. Русские часто оказываются всего в 20–30 метрах от нас, иногда на расстоянии броска ручной гранаты. Примерно в 200 метрах впереди нас проходит глубокая траншея, которая ведет прямо на берег Волги. Здесь Иваны каждую ночь получают подкрепления. Днем мы с нетерпением ожидаем, когда нас сменят другие солдаты, или, по крайней мере, усилят наш личный состав. Порой мы просто сомневаемся в том, что нам вообще когда-нибудь придут на помощь.
Последняя фраза произносится шепотом и исключительно для Винтера, однако я слышу ее благодаря моему острому слуху. Значит, у них возникают сомнения. Это наталкивает меня на определенные раздумья.
Теплая еда и кофе, наверное, сильно остыли, несмотря на то, что контейнеры, в которых находится еда, имеют двойные стенки, помогающие сохранить исходную температуру. Винтер захватил с собой изрядный запас метилового спирта и работающую на твердом топливе плитку для разогрева пищи. Обед сильно замерз, но все-таки не превратился в лед. Это хорошо, потому, что еда вполне сытная – вермишелевый суп с большим количеством тушенки. В блиндаже мы получаем более скудное питание. Солдаты, к которым мы пришли, заслужили такую приличную пищу.
Винтер настаивает на том, чтобы мы поскорее вернулись обратно. Мы ушли из нашего блиндажа примерно час назад. Вахмистру нужны боеприпасы, которые загружены на наши машины. С нами должны пойти еще пять человек. Когда мы отправляемся в путь, русские обрушивают на это место шквальный огонь. Мы бежим вперед, делая редкие короткие остановки.
Запрыгиваем в грузовики и садимся на пустые ящики из-под патронов. Впереди, ближе к кабине, лежит тело мертвого солдата, которого мы забрали с собой. Обратно мы, скорее всего, поедем другой дорогой. Водитель говорит, что мы отправимся через деревню Песчанку, мимо другого колхоза, к Ваваровке. Так будет ближе. Из-за сильных морозов дороги сделались удобными для проезда. Однако прежде всего нам нужно выбраться из городских развалин. Время от времени наши машины попадают в ухабы, и мы едва не вываливаемся из кузова. Приходится крепко держаться за борт. Ящики скользят по полу и ударяют нас по ногам. Пусть ехать неудобно, думаю я, но лучше ехать так, чем застрять в какой-нибудь воронке и стать жертвой вражеского огня. Скорее бы выбраться отсюда!
Застреваем в глубоком окопе, вылезаем и помогаем вытолкнуть наш грузовик. Проезжаем мимо других машин, в том числе и легковушек, в которых едут офицеры. Дорога становится более ровной.
– Далеко еще ехать? – спрашиваю я у санитара, который приподнимает край брезента и выглядывает наружу.
– Еще несколько километров, – отвечает тот.
В следующее мгновение раздается шум, похожий на раскат грома. Кажется, будто мир вот-вот расколется пополам. Бросаюсь к задней части кузова и приподнимаю брезент. Вижу жуткую картину. Кюппер присоединяется ко мне и, удивленно раскрыв рот, смотрит на происходящее. Зрелище можно было бы считать величественно-прекрасным, если бы не зловещий рокот и постоянные взрывы, напоминающие о том, что в эти минуты, наверное, погибают тысячи людей.
Небо над Сталинградом освещено ярким заревом. От земли поднимаются клубы серо-белого дыма. В небо высоко вздымаются языки пламени. Предрассветную полутьму освещают мощные лучи прожекторов. В небе, должно быть, очень много самолетов. Бомбы дождем поливают обреченный на смерть город. Бесконечные взрывы сливаются в монотонный гул, усиливая сходство Сталинграда с адом. Серое небо вспарывают трассирующие снаряды зенитных установок. Два самолета вспыхивают адским пламенем и горящими факелами падают на землю.
Это настоящее безумие – там никто не сможет остаться в живых! И все же… Даже в преисподней найдутся такие, кто постарается любой ценой сохранить жизнь. Более того, они попытаются не только защитить себя, но и дать отпор врагу. Подтверждение этому состоит в следующем – после каждого артобстрела враг снова начинает контратаку и иногда даже захватывает часть земли, хотя, как правило, его отбрасывают назад, где он находился до того. Начиная с сентября, когда немецкие войска вышли к Волге и ворвались в Сталинград, бои в городе идут именно таким образом. Однако из-за стойкого сопротивления его защитников частям вермахта приходится прятаться среди развалин домов.
Возвращаемся в свой блиндаж незадолго до полудня. Вдали слышны разрывы бомб и снарядов. Но теперь я по-другому воспринимаю эти звуки. Мне понятно, что сражение за Сталинград обернется настоящей катастрофой. Бои в этом городе на Волге – своего рода суровое предупреждение всем тем, кто пока находится в тылу и тратит бесценное время на бессмысленное благоустройство своих зимних квартир.
Глава 3. ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Сегодня 17 ноября 1942 года. Вчера выпал первый снег, и теперь вся степь покрыта белым пушистым ковром. Кажется, будто снег приглушает все звуки, даже звуки выстрелов, доносимые до нас ветром, как будто сделались тише.
Прошлой ночью из Сталинграда вернулись несколько солдат. Я с радостью отметил, что вместе с ними и штабс-ефрейтор Петч. Очевидно, на передовой от него было мало пользы из-за состояния его нервной системы.
Часть понесла новые потери. В их числе тяжелораненый унтер-офицер Зейферт, у него в ноге крупный осколок. По словам одного из солдат, Домшайду сильно повезло. Взрывной волной с него сорвало каску и порезало ремешком подбородок. Это невероятное везение, потому что стоявшего в паре метров от него солдата разорвало на части. Его собирали буквально по кускам, которые затем положили на плащ-палатку.
Вечером разговаривали с Мейнхардом о боевой обстановке и о том, как она может повлиять на нас. В основном делились слухами, предположениями и надеждами на то, что обстоятельства сложатся в нашу пользу. Он опять выпил, – я чувствую исходящий от него запах спиртного – и сделался более разговорчивым. Вариас трется спиной о столб и производит такой громкий шум, что мы оборачиваемся и смотрим на него. Мы все давно пользуемся порошком от вшей и стараемся как можно чаще кипятить подштанники, но это приносит лишь временное облегчение. Вши неистребимы и вездесущи.
Зейдель наталкивается на какого-то солдата, падающего на пол, и помогает ему встать на ноги. Извиняется за свою неловкость. Мы раньше никогда не видели этого солдата с шевроном на рукаве. Но прежде чем кто-нибудь успевает что-то сказать, Мейнхард рявкает:
– Эй, Свина, откуда ты здесь появился? Я думал, что ты на передовой вместе с остальными.
Солдат с шевроном хватает себя за горло и хрипит что-то неразборчивое. Он – приземистый коротышка. Его горло обмотано шарфом, а пилотка натянута на голову так низко, что ушей не видно. Он подходит к сидящему за столом Мейнхарду, и мы провожаем его любопытным взглядом. Когда незнакомец снимает пилотку, мне кажется, что все вокруг начинают ухмыляться. Я чувствую, что и мои губы начинают растягиваться в глуповатой улыбке.
Имя Свина вызывает в памяти образ хрюкающего создания, мяса которого мы не ели уже довольно долго. Сходство с домашним животным усиливается мясистыми, розовыми щеками, крошечными красными глазками под щетинистыми белесыми бровками. У него круглое добродушное, почти комичное лицо с копной светлых непокорных волос.
Свина протягивает руку Мейнхарду, затем показывает на обвязанное шарфом горло и еле слышно поясняет:
– Горло болит, с трудом могу говорить. Вахмистр Ромикат отправил меня в тыл для выздоровления.
– Это очень благоразумно с его стороны. Ты давно уже здесь? – спрашивает Мейнхард.
– Что? – хрюкает Свина, по-птичьи вытягивая голову.
Мейнхард подтягивает его за руку к себе и говорит ему прямо в ухо.
– Ты давно уже здесь?
– Около часа. Мне нужно было попасть в 4-й эскадрон, но грузовик сломался. Пришлось ждать целый день, прежде чем нам прислали тягач.
– С тобой был еще кто-нибудь? – почти кричит Мейнхард в ухо своему собеседнику.
– Да, были. Горный и Кирштейн.
– Так они оба здесь?! – радостно восклицает Мейнхард.
Похожий на свинью ефрейтор удрученно кивает и еле слышно отвечает:
– Горному лишь отсекло осколком часть руки. Кирштейна убило на месте. Тоже осколок. Его сразу отвезли на кладбище.
Мейнхард, должно быть, хорошо знал убитого солдата.
– Чертов Сталинград! – говорит он дрогнувшим голосом. – Скоро здесь никого не останется из старых товарищей. Теперь не стало Фрица, а ведь он верил, что с ним ничего не случится. Мы с ним воевали целый месяц бок о бок. Однажды у него из рук выбило вражеской пулей винтовку, а вскоре после этого осколком откололо край каски. Но он был убежден, что не найдется такой русской пули, на которой было бы написано его имя. Думал, что умрет в глубокой старости, в собственной постели. Его ничто не могло разубедить, несмотря на то, что его товарищи гибли один за другим. И вот теперь это случилось. Убили моего товарища. Это же надо.
Мейнхард замолкает, затягивается трубкой и выпускает клубы дыма.
Свина садится на скамейку и пристально смотрит на мерцающий свет самодельной керосиновой лампы, которая вчера появилась в нашем блиндаже. Какая-то светлая голова придумала следующее – винную бутылку до половины наполнили керосином и воткнули в горлышко патронную гильзу, пробитую в двух местах. Пары, выходящие через дырочки, поджигаются, и лампа горит ровно, освещая блиндаж лучше, чем обычные коптилки, запас которых, впрочем, у нас невелик.
Атмосфера в блиндаже делается гнетущей. Окружающие меня лица утрачивают выражение беззаботности. Мы уже слышали о тяжелых потерях наших войск и знаем о том, что существует проблема с пополнением. Особенно тяжело с этим последние несколько дней. Недавно сообщалось о том, что русские наращивают свои силы на берегу Волги.
– Как там дела на передовой? – спрашивает Свину Мейнхард.
Свина не понимает вопрос и рупором прикладывает к уху согнутую ладонь. Должно быть, он глух, и, поняв это, все отводят взгляды в сторону.
Мейнхард говорит громче, прямо в ухо Свине:
– Как дела на передовой? Какая обстановка?
– Все хуже и хуже, – хрипит глухой ефрейтор. – Два дня назад на нашем участке русские уничтожили два миномета. В нашей боевой группе теперь остался только один миномет.
– Мне уже говорил об этом наш ротный! – отвечает Мейнхард и добавляет еще более громким голосом: – Твой слух становится все хуже и хуже с каждым днем. В последний раз, когда я тебя видел, ты слышал лучше.
– Это из-за моего горла! – поясняет Свина. Интересно, думаем мы, какое отношение горло имеет к глухоте?
Мейнхард, похоже, думает так же и спрашивает:
– Причем тут твое горло? Тебя следовало бы отправить домой, если ты ни черта не слышишь. Не понимаю, почему тебя снова и снова отправляют на передовую. Кстати, в каком ты блиндаже обитаешь?
– В первом. Вместе с молодыми пулеметчиками, – объясняет Свина. – Но мне там не нравится.
Мы переглядываемся, и Мейнхард улыбается.
– Эти парни мочатся где попало, – говорит он, – и не любят, когда им напоминают об этом.
Свина почесывается, пожимает плечами и хрипит:
– Именно это все говорят новобранцам. Мы дружно смеемся.
– Хочешь жить в нашем блиндаже? – спрашивает Мейнхард, приблизив губы к уху Свины, и одновременно бросает взгляд в нашу сторону. Мы киваем – возражений нет. Места у нас хватит, правда, придется немного потесниться.
– Хочу, – отвечает Свина и смотрит на нас.
– Не возражаем. Приноси свои вещи, – громко произносит Мейнхард.
Коротышка-ефрейтор ухмыляется и буквально выкатывается из блиндажа. Если бы обстановка не была такой драматической, то этот случай можно было бы посчитать забавным.
Мейнхард говорит, что ему непонятно, почему Свину вообще призвали в армию. По его словам, еще летом Свина пришел в эскадрон вместе с группой солдат, вернувшихся из госпиталя. Уже тогда он очень плохо слышал. Сначала все думали, что он не хочет ни с кем общаться, потому что не отвечает ни на чьи вопросы. Лишь позже стало ясно, что он не слышит даже свиста пролетающих над его головой снарядов, так что его порой приходилось силой затаскивать в укрытие в самый последний момент. Его глухота еще больше усилилась после того, как рядом с ним разорвался снаряд. В общем, дела у него не очень хороши. Большую часть времени он занимается тем, что приносит ящики с боеприпасами и еду. Похоже, что на фронте ему было страшновато, но только из-за того, что он плохо слышит, потому что в целом он вовсе не трус.
Мейнхард попыхивает трубкой – похоже, он выпускает ее изо рта, только когда ложится спать. Затем шарит под столом, достает полупустую бутылку и делает из нее долгий глоток. В темноте я не заметил, что она там стояла.
– Почему его зовут Свина? – интересуется Гром-мель.
– Очень просто – это его фамилия, – смеется Мейнхард.
– Серьезно? Я думал, это прозвище! – удивляется Вариас.
– Ну не совсем, конечно. Это сокращение. На самом деле его зовут Иоганн Свиновски.
Вот, оказывается, что. Снаружи доносится какой-то шум, и в блиндаж вваливается Свина. Он несет походный ранец и несколько одеял. Зейдель показывает приготовленное для него место.
Ночь проходит спокойно. Лишь один раз я просыпаюсь, разбуженный звуком внутри блиндажа, – кто-то бормочет во сне.
18 ноября. Ночь холодная и морозная. Отправляясь в караул, стараюсь одеться теплее. Обматываю шарф вокруг шеи. Мороз щиплет уши. Под ногами поскрипывает снег. Вспоминаю о доме, о том, как здорово в зимнюю погоду кататься на лыжах по хорошему снегу. Я неплохой лыжник и совершаю прыжки с трамплина высотой 30 метров. Здесь, в России, степь абсолютно ровная и плоская, совсем как наше замерзшее озеро. До трамплина приходится топать на лыжах примерно три километра и переходить на другой берег озера. Пока отмахаешь эти километры, успеваешь изрядно вспотеть. Да, чудесное было время. Разглядываю чистое, без туч, звездное небо. Ищу малую Медведицу и Полярную звезду, чтобы найти север. Теперь я имею хотя бы приблизительное представление о том, в какой стороне находится дом. По вечерам унтер-офицер Деринг часто играет на губной гармошке свою любимую мелодию – «Звезды над родным домом». Сегодня ночью он заступил в караул и обходит один за другим наши блиндажи. Он также проводит с нами занятия по боевой подготовке. Он настоящий ветеран, отпущенный с передовой для того, чтобы немного натаскать нас перед боями. У нас с ним отличные отношения, и мы многому научились. Он передал нам бесценный опыт окопной войны.
19 ноября. Ближе к утру усиливается ветер. Метель. Мейнхард сообщает нам о том, что сегодня ему нужно вернуться в Сталинград. Он поедет вместе с Винтером, которому тоже пришла пора возвращаться.
– Что делать, – задумчиво говорит Мейнхард, – такова жизнь.
– Верно, – соглашается Курат. – Она может продлиться до ста лет.
– Возможно, – соглашается в свою очередь Мейнхард. – Но я не хочу дожить до таких лет. Буду рад дожить хотя бы до конца этой проклятой войны.
– Доживешь, – заверяет его Громмель.
Нам хочется немного ободрить Мейнхарда, но это не слишком удается, потому что он замолкает. Он даже курит больше обычного. Затем садится и пишет письмо домой. Следующее занятие по боевой подготовке будет после обеда, и поэтому мы беремся за чистку оружия.
Готовимся к построению. Атмосфера возле нашего блиндажа делается беспокойной. Деловито снуют водители, готовят свои машины к отъезду. Связной садится на мотоцикл и уезжает в направлении колхоза. Нам приходится дольше обычного ждать появления нашего старшего вахмистра. Назревает что-то серьезное. Что же именно? Солдаты из соседнего блиндажа тоже ничего не знают. Наконец появляется старший вахмистр с картами в руках.
Он без всяких околичностей сообщает нам, что на нашем участке фронта объявляется состояние высшей боевой готовности, потому что танковые части русских атаковали наш левый фланг и ворвались на позиции румынских войск в районе Клетской. Румыны отступают в направлении Калача.
– Черт! – слышу я чье-то восклицание.
Старший вахмистр добавляет, что нашим командованием уже приняты меры по отражению наступления противника силами танков и авиации. Подробностей он нам не говорит.
Позднее мы узнали от Мейнхарда, что его и Винтера не стали отправлять обратно в Сталинград, потому что было не известно, где в тот момент находилась наша боевая группа, которую перебросили в какое-то другое место. Ожидание затягивается. Кто-то говорит, что нас вполне могли бы отправить на машинах, но мало горючего. Бензина и прочих горюче-смазочных материалов в последние недели поступало катастрофически мало.
– Неужели дела обстоят так плохо? – спрашивает Мейнхард.
– Никто ничего точно не знает, но, возможно, нам придется отводить наши машины отсюда, если не удастся остановить русских, – отвечает фельдфебель из автороты.
– Черт бы их побрал! – вставляет Зейдель. Ночью спим плохо, беспокойно. В пять утра заступаю в караул и внимательно вслушиваюсь в любой шум, доносящийся с севера. Ничего нового, кроме привычного приглушенного рокота, не слышу. Даже если бои действительно идут в районе Клетской, мы ничего не услышим, потому что это слишком далеко от нас. Может быть, наши войска все-таки остановили наступление противника?
20 ноября. С наступлением утра становится понятно, что день будет непростым. Мы никогда еще не видели в небе так много бомбардировщиков Не-111 и самолетов ju-87 «штука». Иными словами, там, на севере, скоро произойдет что-то очень серьезное. Воздух наполнен рокотом двигателей, который усиливается с каждым часом. Громкий шум доносится с севера, где, как предполагается, русские прорвали нашу линию обороны. Однако скоро звуки боя начинают доноситься и с юга – там тоже что-то происходит. Ждем. Солдаты в основном находятся в блиндажах, но некоторые, подобно мне, стоят на крыше, пристально вглядываясь вдаль.
– Тревога! – неожиданно кричит кто-то. – Всем выйти наружу!
Все выбегают из блиндажей, хватают оружие и прочее снаряжение, надевают его на себя. Многие снова забегают в блиндажи за шинелями. Что же происходит? Один из водителей заявляет, что русские ворвались на позиции румынских войск на юге и обходят нас с двух сторон, пытаясь взять в клещи. Их танки уже прорвались к Сети, и нам предстоит остановить их.
Прихожу к выводу, что для нас сложилась очень серьезная обстановка, да и для всех, кто находится в данный момент рядом со Сталинградом. Даже самые неопытные солдаты теперь понимают, что мы в любой момент можем оказаться в окружении. Пока что все тихо, но эта тишина может быть нарушена в любое мгновение. Неужели это затишье перед бурей?
21 ноября. Наши предположения оправдались. На рассвете начинается мощный обстрел. Прямо над нашими головами свистят снаряды, затем раздается грохот взрывов. Все выскакивают из блиндажей и торопятся в окопы. Однако противника нигде не видно.
– Русские начинают с артиллерийской подготовки, – поясняет водитель, сидящий рядом со мной. Большая часть снарядов ложится справа от нас, а также далеко позади, в нашем тылу. Над головой свистят ракеты «сталинских органов», падающие где-то возле колхоза.
Вскоре светает, и видимость улучшается. Кроме взрывов, слышен и другой звук – рокот дизельных двигателей и лязг танковых гусениц. Русские «тридцатьчетверки» обходили нас с обеих сторон. Они лучше нас могут оценить сложившуюся обстановку. В морозном воздухе слышно звонкое уханье башенных орудий, затем свист снарядов и взрывы при попадании в цель.
Затем из туманной дымки появляются сами танки «Т-34». Мне удается насчитать пять металлических гигантов. Они находятся на расстоянии ста метров от меня и движутся очень медленно. Их орудия разворачиваются в поисках цели. Найдя ее, боевые машины открывают огонь. Огневой вал артиллерии усиливается. Пушки бьют по участкам передовой слева и справа от нас, а также позади. Танки стреляют туда же. Неужели они нас еще не заметили? Или в других местах у них есть цели поважнее?
Кто-то позади нас заползает в траншею. Это Янсен, водитель грузовика. Вместе с ними двое русских добровольцев. Они принесли патроны. Янсен подползает к Мейнхарду, который залег за пулеметом. Я слышу, что он говорит – горючее подвезли и получили приказ двигаться колонной на запад через мост в направлении Калача. Старший вахмистр и Деринг хотят дождаться ночи, потому что противотанкового обеспечения у нас нет. В ином случае русские танки передавят нас всех.
Затем высоко в небе слышится гул русской штурмовой авиации. Противник сбрасывает бомбы. Они разрываются где-то в тылу. Потом на нас пикируют взявшиеся откуда-то сбоку три небольших самолета. Вижу красные звезды на крыльях и фюзеляже.
Наши взгляды устремлены вперед. Я чувствую, что мои нервы натянуты, как канаты. Теперь все совсем не так, как было во время учений. В голове проносятся тысячи разных мыслей. Танки все так же медленно надвигаются на нас. Я прошу у Мейнхарда полевой бинокль.
Вижу бурого цвета фигурки вражеских солдат, облепивших танки с белой камуфляжной раскраской. У меня впервые появляется возможность по-настоящему разглядеть противника. Испытываю легкую дрожь. Если они доберутся до меня, то все пропало. Я часто слышал жуткие истории о том, что русские делают с пленными немецкими солдатами. При мысли, что такое может случиться с нами, меня охватывает возбуждение, страх и готовность отчаянно сопротивляться. Чувствую, что во рту у меня пересохло, и еще крепче сжимаю в руках карабин.
Мейнхард, который осторожно приподнимает свою каску над краем бруствера, похоже, считает, что противник движется куда-то направо, мимо нас. Там уже не стреляют. Танки останавливаются, и пехотинцы спрыгивают на землю. Они слишком далеко от нас, и мы не можем достать их пулями карабинов и пулеметов. Может, они просто не видели нас? Наш ответный огонь ослабевает, и танки и пехота противника двигаются уже почти параллельно нам, все дальше и дальше уходя вправо.
Ждем и продолжаем наблюдать за русскими. Вражеские танки пропадают из вида, а перестрелка прекращается. Туман впереди нас сгущается еще больше и медленно опускается над гладкой, как стол, белой степью.
Ждем еще и вот, наконец, получаем команду: «По машинам!» Когда машины выезжают из укрытий, забираемся в кузов. С тоской смотрим на блиндажи, которые приходится так спешно покидать. Мы уже привыкли к ним, они были нашим надежным пристанищем. Уезжаем в холод, в ночь, в неизвестность. Общее направление – Калач.
Водитель головной машины знает дорогу, поскольку часто ездил по ней. Несмотря на то, что мы надели шинели, ехать очень холодно. Никак не могу согреться, хотя по совету Мейнхарда натянул вторую рубаху и еще одни подштанники. От холода страдаю не только я один. Кроме того, нас всех сильно терзает голод. Мы получили лишь сухие пайки, однако времени, чтобы поесть, у нас не было. Хотим перекусить сейчас, но отказываемся от этой идеи. Кофе в наших флягах превратился в лед.
По пути нам попадаются и другие транспортные средства – грузовики, бронетранспортеры, легковые машины, мотоциклы, вездеходы с прицепами и пушками. Двигаются они, так же как и мы, в большой спешке, пытаясь скрыться от того, чего мы пока не видели, но хорошо чувствовали. На обочине много сгоревших или сломанных машин. Русский самолет недавно сбросил осветительные ракеты и несколько бомб, но наши зенитные орудия вынудили его улететь прочь.
Об этом рассказал мне какой-то водитель, попросившийся в нашу машину, которого Вариас бесцеремонно втащил в кузов. На дороге много солдат, пытающихся вот так же найти место в чужих грузовиках. Подъехав к железнодорожной ветке, подбираем еще одного бойца. Он рассказывает, что его грузовую машину подбили неподалеку отсюда, примерно в получасе езды. Это был выстрел русского танка «Т-34». Его фельдфебель погиб сразу, а сам он остался жив, хотя и легко ранен в голову.
– Это было в десяти километрах от моста через Дон, по которому проходит дорога, ведущая в Калач.
На мосту застряло много машин, образовалась огромная пробка. Там настоящая неразбериха и движение очень медленное, автомобили еле ползут. Было бы проще дойти до моста пешком, но в темноте будет трудно возвращаться обратно. Поэтому мы останавливаемся и ждем. Холодно. Ужасно мерзнем. Машин, в которых находятся Деринг и старший вахмистр, не видно.
22 ноября. Утром над Доном повисает туман. Мост окутан белой пеленой. Мы уже почти перебрались на другой берег, когда раздается выстрел танкового орудия. Русский танк стреляет в наши машины, собравшиеся въехать на мост. Грохочут новые взрывы.
– Они подбили 88-мм зенитное орудие! – восклицает Кюппер, который сидит в задней части кузова и лучше других видит происходящее.
Едущие перед нами машины набирают скорость и мчатся к скоплению автомобилей, образовавшемуся впереди. Следуем за ними. Проехав несколько километров, останавливаемся. Вокруг все тихо. Спрыгиваем на землю, разминаем затекшие за время езды конечности. Ждем. Чего ждем? Других машин? В таком густом тумане только благодаря счастливой случайности мы сможем дождаться остальных машин. Мы сами разместились в трех автомобилях: пять человек на «штейре», четырнадцать наших плюс трое солдат из других частей на двух грузовиках «опель-блиц».
Нервы у всех на пределе. Бегаем вокруг машин, чтобы согреться. Слышим команду: «Выключить моторы!» До моего слуха доносятся звуки работающих двигателей, скорее всего, дизельных.
– Это «тридцатьчетверки»! – шепчет кто-то, кто явно разбирается в такого рода вещах. – Нужно возвращаться обратно. Иначе нам конец!
Русские, судя по всему, перебрались на другой берег Дона и собрались блокировать нам путь. Теперь все слышат рычание танковых двигателей справа от нас. Скорее всего, вражеские танки двигаются развернутым строем. Время от времени шум пропадает, но затем раздается снова.
Заводим моторы наших машин и медленно катим обратно. Два солдата идут впереди и показывают путь. Ехать приходится очень осторожно. Мне кажется, что мы ездим кругами, возвращаясь туда, откуда только что приехали. В любой момент мы можем оказаться прямо перед носом у русских. Их танки, возможно, выключили двигатели и терпеливо ждут нас в засаде, чтобы раздавить своими гусеницами. Однако в таком тумане им трудно увидеть нас, так же как и нам – их. Приходится полагаться исключительно на слух. В этом отношении у нас имеется преимущество, пусть и очень скромное.
Впереди снова раздаются какие-то звуки. В воздух взлетает осветительная ракета. Замираем на месте. Свет ракеты не способен проникнуть сквозь завесу тумана, он лишь придает окружающему миру какой-то призрачный, нереальный вид. Водители тут же выключают моторы. Желтоватый свет гаснет. Тишина. Чувствую, что от волнения сердце вот-вот вырвется из груди. Затем до моего слуха доносится звук заводимого дизельного двигателя и лязг танковых гусениц. Танк медленно движется и исчезает, направившись куда-то налево.
Повезло! Видимо, танкисты в таком же положении, как и мы, и тоже боятся попасть в ловушку. Что же нам делать? Неужели мы действительно ездим кругами? В подобных условиях в этом нет ничего удивительного.
Едем дальше на черепашьей скорости через молочный суп тумана. Один из солдат, идущих впереди, возвращается и, задыхаясь от быстрого бега, сообщает, что заметил вдали слабый огонек костра. Вполне возможно, что это русские, но в этом нужно окончательно убедиться. Вместе с несколькими товарищами я отправляюсь в разведку. Осторожно ползем в указанную сторону. Красный свет костра видим только тогда, когда приближаемся к нему достаточно близко. В густом тумане кажется, будто огонь горит в пустоте. Справа и слева темные очертания каких-то домов и сараев. Подбираемся к костру еще ближе и видим силуэты нескольких фигур, которые о чем-то разговаривают. Солдат, ползущий рядом со мной, радостно восклицает:
– Слава богу, это наши!
Я тоже слышу немецкую речь и узнаю людей у костра. Это наш старший вахмистр вместе с Дерингом и двумя водителями. В числе двенадцати человек этой группы находятся Мейнхард, Свина и заболевший штабс-ефрейтор Петч. Они, так же как и мы, долго крутились в тумане, пока, наконец, не добрались до колхоза. Где остальные наши машины, никто не знает.
Старший вахмистр с несколькими солдатами обсуждает сложившуюся обстановку. Все соглашаются, что передовая группа должна попытаться отыскать место для прорыва из окружения. Затем вслед за ними двинутся машины, стараясь ехать как можно тише. После этого рванем на всей скорости и попробуем окончательно вырваться на свободу.
Нам остается лишь уповать на то, что туман еще продержится какое-то время, потому что иначе русские нас тут же заметят. Погревшись у костра, приступаем к осуществлению плана. Медленно идем рядом с машинами. Мне постоянно приходится тереть глаза – из-за тумана и холода у меня сильно падает зрение. Мы все тревожно всматриваемся вперед и еще крепче сжимаем оружие.
Неожиданно слышим русскую речь, она доносится слева. Раздается громкий крик, скорее всего, вопрос. В следующее мгновение незримый водитель заводит двигатель. После этого приходит в жизнь мотор «штейра», затем Янсен нажимает до самого пола педаль акселератора своего «опель-блица». Трогает с места и наш грузовик. Справа от нас оживают моторы других наших машин. Мы ничего не видим перед собой, молочно-белый туман по-прежнему висит плотной стеной.
Мчимся на полной скорости по степи. Нас постоянно подбрасывает с сидений вверх, поэтому приходится крепко вцепляться в борта. Молимся о том, чтобы только не сломалась ось грузовика. Сзади слышится грохот выстрелов из танкового орудия. Снаряды со свистом пролетают у нас над головой. Русские «тридцатьчетверки», очевидно, стреляют вслепую. Будет великим везением, если нам удастся целыми и невредимыми вырваться из зоны обстрела.
– Удалось! – кричит Вариас, и мы с радостью подхватываем его вопль.
Хотя нам и посчастливилось вырваться из кольца вражеских танков, следующий вопрос все еще имеет силу: выбрались ли мы из окружения? Стрельба позади нас прекратилась. Янсен, наконец, отпускает педаль акселератора – мотор его машины перегрелся. Где мы находимся? Где остальные?
Туман еще не рассеялся, – он остается таким же густым, как и прежде, – и мы снова ныряем в самую его гущу.
Снова вылезаем наружу и прохаживаемся, чтобы согреть замерзшие ноги. Снег скрипит. Мы разбредаемся в разные стороны. Громмель находит следы, оставленные двумя машинами. Идем по этим следам и вскоре натыкаемся на второй «опель-блиц» и бронетранспортер. Заднее колесо грузовика нависло над краем степной балки. Нам почему-то до этого даже не приходило в голову, что мы можем на всем ходу угодить в такой овраг.
Помогаем оттащить грузовик в сторону и забираемся в соседний овраг, чтобы немного отдохнуть. Туман начинает медленно редеть. Позади нас ничего не видно, только ровная заснеженная степь. Вдали слышны звуки боя. Что там происходит? Этого никто не знает.
– Нужно ехать на юг, к Нижне-Чирской, – напоминает нам обер-ефрейтор. Это название станицы, где должны собраться после прорыва русских войск наши машины. Отлично. Вперед, к Нижне-Чирской!
Неожиданно меня охватывает чувство уныния. Я бы предпочел вылезти из машины и раствориться в тумане, как это сделали многие другие солдаты. Я не трус, но безумный рывок из танкового кольца, испуганные лица окружающих меня солдат, часть которых потеряла оружие, не добавляют мне мужества. Затем я вижу незнакомого офицера с лейтенантскими погонами, по виду учителя или государственного чиновника в мирное время. Сейчас он здесь единственный офицер, которому придется взять на себя тяжкое бремя ответственности за нас и выполнять то дело, к которому он не готов. Вижу, что у него красная нашивка так называемого ордена «за мороженое мясо». Эту награду получали те, кто пережил зиму 1941–1942 года в России. Думаю, что фронтового опыта у него не очень много. Мои товарищи, видимо, придерживаются того же мнения.
Лейтенант делит нас на две группы и отправляет защищать от танков ближнюю рокадную дорогу. Забавная ситуация! У нас нет ни противотанковых пушек, ни достаточного количества стрелкового оружия, ни патронов. Противотанковые рвы наполовину завалены снегом. Мы с Кюппером принимаемся расчищать свою стрелковую ячейку, чтобы немного согреться. Мое скептическое отношение к лейтенанту изменяется, потому что он каким-то чудом смог обеспечить нас горячим питанием. Мы даже представления не имеем, как ему это удалось, – вокруг еще слишком темно и туманно, – но пища вкусная и, определенно, мясная. Сидящий в соседней стрелковой ячейке Зейдель начинает смеяться. Он считает, что мы едим конину – мясо той старой лошади, которую он совсем недавно видел возле железнодорожного полотна. Может быть, он и прав, но в любом случае это горячая пища, которую мы едим впервые за последние три дня, и очень вкусная!
23 ноября. Утро стоит тихое, хотя в небе полно немецких истребителей и бомбардировщиков, которые готовятся к серьезному бою. Невысокого роста, жилистый унтер-офицер-пехотинец, назначенный старшим над нами, – наш gruppenfuhrer – рассматривает окружающую местность в полевой бинокль. К нам приближаются какие-то люди. Мы ожидаем наступления русских, но когда они подходят ближе, видим, что это отставшие солдаты. Они вливаются в наши ряды, увеличив численность подразделения. Подъезжают еще несколько машин, одно 75-мм противотанковое орудие и пара зенитных орудий нашего полка. Последние пригодны не только для стрельбы по воздушным целям, из них можно стрелять и по танкам. Многие солдаты знакомы друг с другом и явно рады новой встрече.
Еще одно везение – к нам, наконец, добрался бронетранспортер с Дерингом и остальными товарищами. Они потерялись в тумане и снова наткнулись еще на один русский танк. Им пришлось затаиться. Лишь ранним утром они рискнули рвануть вперед. Они летели так, будто за ними гнались черти. К огромной радости, до нас добрались еще две машины, в том числе и одна с полевом кухней. Теперь наша часть представлена достаточно полно. Судя по тому, что нам сказали, некоторым машинам снабжения удалось вчера перебраться на южный берег Дона и в данный момент они должны быть на пути к Нижне-Чирской.
Глава 4. ПЕРЕДЫШКА В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
Днем 23 ноября наша боевая группа была неожиданно усилена крупным саперным подразделением под командованием офицера в чине капитана. Саперы появились буквально из ниоткуда, пригнав взвод пленных русских солдат, которых они взяли в плен по пути сюда. Подразделение прибыло из саперной школы, дислоцирующейся в районе Калача. Трем ротам саперов удалось успешно миновать участки фронта, занятые русскими танками.
Опытный капитан саперных войск берет на себя командование нашей боевой группой и восстанавливает дисциплину в рядах растерянных и деморализованных людей. Оказывается, что самые растерянные и впавшие в уныние – это те солдаты, у которых пока еще нет боевого опыта; те, кто побывал в Сталинграде, служили главным образом в обозе, ремонтных ротах или при штабе. Даже мы, прибывшие в качестве пополнения еще в октябре, еще толком не нюхали пороха. И это несмотря на то, что мы лучше других обучены, экипированы и подготовлены к самой серьезной боевой обстановке. По этой причине нам придают вторым номером пулеметной команды только тех, кто уже участвовал в боях. Во время прорыва они были или больны, или возвращались из отпуска, или по какой-то другой причине находились в тылу.
Я не особенно доволен, когда вторым номером мне назначают обер-ефрейтора Петча, того самого, у которого недавно сдали нервы.
Кюппера назначают вторым номером Мейнхарду, у которого второй в нашем отделении легкий пулемет MG-34. Наш моральный дух в значительной степени подкрепляется с осознанием того, что большинство наших солдат в бою будут находиться недалеко друг от друга.
Между делом нам удается выяснить наше нынешнее местонахождение. Мы находимся рядом с деревней Рычов, сейчас она у нас за спиной. Это на берегу Дона, рядом с железнодорожной веткой Калач – Сталинград. В нескольких километрах к юго-востоку расположен железнодорожный мост, по которому можно перебраться на другой берег Дона. Увидеть его можно только в полевой бинокль. На другом берегу реки должна располагаться другая боевая группа. Всего в паре километров к западу от нас находится железнодорожная станция Чир с бензохранилищем и складами. Два водителя, прибывшие к нам оттуда, утверждают, что станцию уже захватили русские.
Мы также узнаем от Мейнхарда, что наша боевая группа удерживает плацдарм и должна стать на пути советских войск и удержать станцию, через которую проходит железнодорожный путь в Сталинград, а также два моста через Дон. У нас имеются: одно 88-мм зенитное орудие, два 75-мм противотанковых орудия и одна зенитка для стрельбы по наземным целям. У саперов есть несколько минометов и несколько кумулятивных зарядов для стрельбы по танкам. Ожидается также, что нам на помощь придут три танка и еще одно 88-мм орудие. Надеемся на то, что оправдается слух о том, что 4-я танковая армия генерал-полковника Гота, идущая к Сталинграду, поможет нам. На Гота и его танкистов надеемся как на чудо.
Это известие, а также призыв «Стоять до конца, солдаты! Фюрер вам поможет!» укрепляют наш боевой дух лишь на короткое время. Мы быстро понимаем, что можем надеяться лишь на самих себя. Наши прежние надежды тают столь же стремительно, как и снег под упавшим на него снарядом. Практически нескончаемые, ежедневные атаки противника и постоянная борьба за выживание заметно ослабили нас. К прочим фронтовым лишениям следует добавить чувство голода, которое мы испытываем порой по нескольку дней, когда остаемся без пищи и вынуждены обшаривать вещмешки убитых русских солдат в поисках хлебных крошек.
Сейчас нам всем очень тяжело. Это время ни я, ни мои товарищи, которые останутся в живых, не забудем никогда. Нас часто охватывает отчаяние, особенно после того, как мы потеряли противотанковые орудия и не дождались пополнения. Более того, связи с другими нашими боевыми группами, которые находятся к югу от Дона, нет.
24 ноября. Ближе к полудню на нашем правом фланге раздается треск пулеметных очередей. Затем мы слышим винтовочную стрельбу. Перестрелка усиливается, и вскоре мы замечаем появившихся из тумана русских пехотинцев. Впервые вижу противника так близко. Помимо несомненного любопытства испытываю огромное возбуждение. Враг напоминает мне огромное стадо овец, мчащееся по заснеженному полю. Попав под огонь наших пулеметов и винтовок, оно на мгновение застывает на месте, после чего снова бросается вперед.
Ведем огонь изо всех стрелковых ячеек, однако наш пулемет почему-то молчит. В чем дело? Я настолько сосредоточил свое внимание на русских, что на время забыл о Петче. Почему он не стреляет? Лента с патронами на месте, с самим пулеметом тоже все в порядке. Слышу голос Деринга:
– Что случилось, Петч? Почему не стреляешь?
Да, почему он не стреляет, хотел бы я знать? После моего выстрела из винтовки и пулеметной очереди Мейнхарда на землю падают несколько врагов, однако основная масса наступающих все так же неумолимо надвигается на нас. Я пребываю в полном смятении, каждую клеточку моего тела охватывает страх. Почему Петч двумя руками вцепился в ствол пулемета вместо того, чтобы нажимать на гашетку? Все его тело трясется, как при лихорадке, ствол пулемета ходит ходуном, бесцельно дергается то вправо, то влево. Так вот в чем дело! У него просто сдали нервы, и он не может заставить себя стрелять! Что же мне делать? Я не могу просто так взять и оттолкнуть его и самому занять его место. Я по-прежнему с уважением отношусь к нему, как к старшему по званию. Но ведь теперь каждая секунда на вес золота!
Наконец раздается пулеметная очередь. Каждая третья пуля – зажигательная. Над головами атакующих пролетает пучок света, быстро исчезающий в туманной дымке. Вторая очередь также прицелена плохо и устремляется еще выше, в облака. Теперь русские наверняка заметили то место, где находится наш пулемет. Пули противника свистят над моей головой и впиваются где-то сзади, в опасной близости от нас. Петч неожиданно вскрикивает, затем прижимает руки к окровавленному уху и падает на дно траншеи. К нему тут же склоняется Зейдель – видимо, осматривает рану.
Чувствую, что теперь все зависит только от меня. Это мой шанс! Быстро ложусь за пулемет, тщательно прицеливаюсь и стреляю короткими очередями так, как меня когда-то учили. Целюсь прямо в самую гущу наступающего противника. Рядом со мной лежит Громмель, он подает мне ленту с патронами. Пули попадают в цель, и несколько фигур в темных шинелях падают на землю. Движущаяся вперед безликая масса на мгновение замирает, потом, пригнувшись, продолжает упрямо наступать прямо на нас.
Действую бессознательно. Все мысли куда-то улетучились. Вижу только наступающих вражеских солдат. Снова стреляю. Испытываю только страх, страх перед смертоносной массой противника, неумолимо надвигающейся на нас. Враг хочет убить и меня, и тех, кто находится рядом со мной. Я даже не чувствую боли в руке, которой прикоснулся к раскаленному металлу, когда менял заклинивший ствол пулемета на новый.
Это настоящее безумие! Мы стреляем из четырех пулеметов и по меньшей мере восьмидесяти винтовок из безопасных, надежных укрытий в наступающую орду неприятеля. Наши пулеметные очереди понемногу сокращают ее ряды. На землю постоянно летят тела убитых и раненых. Из-за тумана мы видим не всех наступающих. Русские все ближе и ближе. Теперь мы отчетливо видим их пригнувшиеся фигуры с винтовками и автоматами Калашникова в руках. Неожиданно замолкают два наших пулемета на правом фланге. Масса противника немедленно устремляется туда, там их встречает лишь огонь винтовок. Мы с Мейнхардом переводим ствол пулемета на них и стреляем короткими очередями. К нашему удивлению, противника, обрушившегося на правый фланг, встречает огонь 20-мм зенитных орудий. Гулкие разрывы снарядов похожи на монотонную низкую барабанную дробь. Мы видим, как снаряды из всех четырех стволов попадают в самую гущу русских войск. Два наших пулемета на правом фланге снова начинают стрелять. Их молчание, по всей видимости, было намеренным.
Пулеметные очереди косят вражеских солдат. Когда пулемет перестает стрелять, над полем боя повисает тишина. Слышны крики и команды на русском языке. Делаю глубокий вдох. Первый бой произвел на меня неизгладимое впечатление. Чувствую, как ко мне снова возвращаются мысли, – понимаю, что до этого вел себя бездумно, как автомат. Поднимаю голову и выглядываю из окопа. Всматриваюсь в происходящее. Заснеженное поле передо мной усеяно бесчисленными бурыми комочками. Меня поражает убойная сила пулемета. Никогда не представлял себе, каким эффективным может быть это оружие.
На передовой временное затишье. Я наивно думаю о том, что все наступающие или убиты, или ранены. Как только я приподнимаюсь над бруствером, чтобы лучше разглядеть поле боя, начинает стрелять русский пулемет. Пули свистят у меня над головой. Затем оживает второй пулемет противника. Через секунду слышу хорошо знакомый звук – в бой вступают советские минометы.
– Минометы! – раздается чей-то крик. Некоторое время спустя этот кто-то добавляет: – Деринг и Марковиц ранены. Нам нужен врач! Врача сюда!
Другой голос отвечает, что за врачом уже послали.
Позднее я узнаю, что ефрейтору Марковицу, который раньше был шофером нашего эскадрона, прострелили плечо. Его нужно вывезти в тыл. Унтер-офицер Деринг получил более легкое ранение – пулей ему задело щеку. Он просит оставить его на передовой. Петч лишился правого уха. С радостью узнаем о том, что его отвезли обратно в деревню.
Минометный обстрел усиливается настолько, что мы не осмеливаемся даже высунуться из окопов. Однако вскоре до моего слуха доносятся знакомые чавкающие звуки наших минометов – на помощь нам приходят саперы, которые открывают ответный огонь. Мины взлетают высоко в воздух и взрываются далеко впереди, где предположительно находится противник, скрытый завесой тумана. Осторожно выглядываю из окопа и не могу поверить своим глазам. Многие из коричневых комочков, валявшихся в поле, которых я считал убитыми, неожиданно ожили и отступают под прикрытием огня своих пулеметов и минометов.
Вариас тоже понял это и кричит из соседней стрелковой ячейки:
– Эй, русские уходят!
Наши мины разрываются в гуще отступающих русских войск. Пулеметы пока молчат – либо цель слишком далеко, либо экономят боеприпасы. Русские быстро скрываются в тумане.
Я только что набил табаком трубку и собрался покурить, когда поступает приказ пойти в контратаку. Мы должны расчистить место перед нашими позициями и по возможности отогнать врага как можно дальше. Прежде чем выскочить из окопа и забросить на плечо пулемет, успеваю чиркнуть спичкой и сделать пару затяжек. Обычно вкус табака кажется мне не слишком приятным, но на этот раз чувствую себя так, будто мне прибавилось сил. Бежим, не встречая особого сопротивления врага. В нас стреляют редко, лишь время от времени. Мы отстреливаемся и медленно продвигаемся вперед.
Выясняется, что, отступая, русские забрали с собой раненых. Впервые вижу тела мертвых врагов. Они лежат на снегу там, где их застала пуля. Лужицы красной дымящейся крови медленно замерзают.
К горлу подступает тошнота, боюсь, что меня сейчас вывернет наизнанку. Не могу заставить себя смотреть на белые лица мертвых. Никогда еще я не видел безжизненные тела людей так близко. В молодости стараешься отогнать от себя мысли о неизбежной смерти, однако здесь и сейчас не думать об этом невозможно. Эти люди – наши враги, но они ничем не отличаются от нас, такие же создания из плоти и крови. На их месте легко мог бы оказаться и я.
Смотрю на Громмеля, который несет два ящика с патронами. Он бледен как мел и смотрит только на меня, старательно отводя глаза от лежащих на земле трупов. Остальные ведут себя так же. Кюппер, Вильке и я приближаемся к мертвому солдату, у которого осталась только половина головы – вторая, видимо, оторвана взрывом снаряда. Вильке, как и я, отворачивается, а Кюппер изо всех сил старается сдержать рвоту. У нас, новобранцев, впервые увиденное мертвое тело вызывает смятение, страх и беспомощность. Хотя, возможно, среди нас есть парни с более крепкими нервами и сильным характером, на которых это не производит особого впечатления. Например, похожий на цыгана маленький чернявый унтер-офицер. Его фамилия Шварц, я видел его пару дней назад на позициях возле рокадной дороги. Я снова встретил его там, когда мы с Громмелем пошли в наступление навстречу слабому, но все еще опасному огню противника. Это был холм с плоской вершиной на левом фланге. Здесь мы увидели яму, довольно глубокую, в рост человека. Вокруг нее – кучки мерзлой земли.
Мейнхард объясняет, что в таких окопах наша дивизия размещала артиллерийские и противотанковые орудия. Теперь их могут в любую минуту захватить русские, чтобы использовать в своих целях. Неподалеку валяются тела мертвых русских солдат. Затем я слышу, как этот чернявый унтер-офицер приказывает одному из солдат выстрелить в голову мертвого русского. Сам он прижимает дуло своего автомата к затылку другого мертвеца. Звучат приглушенные неприятные выстрелы. Я поражен случившимся. Неужели этот человек полон такой ненависти к врагу, что способен обесчестить даже мертвых? Унтер-офицер проходит мимо меня и приближается к очередному телу. Затем ударяет его ногой в живот и сердито ворчит:
– Этот тоже еще жив!
Приставив ствол ко лбу новой жертвы, он стреляет. Тело, которое я считал мертвым, дергается.
– Почему мы не берем их в плен? – сердито спрашиваю я.
Унтер-офицер недовольно смотрит на меня и с отвращением цедит сквозь зубы:
– Разве можно их брать в плен, если они притворяются мертвыми! Эти свиньи думают, что мы не поймем, что они живы. Они готовы в любую минуту всадить нам нож в спину. Я такое уже не раз видел.
Что мне ответить ему? Я еще не слишком хорошо знаком с теми невероятными вещами, которые случаются на войне. Но я ни за что не стану стрелять в безоружного вражеского солдата, даже если это будет угрожать моей собственной безопасности. То, что я считаю ужасным и недостойным, чернявый унтер-офицер расценивает как меру предосторожности.
– Или мы их, или они нас! – просто сказал он. Однако я никак не могу заставить себя стрелять в тех, кто на меня не нападает. Своим взглядам я никогда не изменю! Громмель тоже явно расстроен и ускоряет шаг, а я стараюсь не отставать от него. Все время я слышу приглушенные выстрелы в голову. Я потрясен до мозга костей. Хотя Шварц все довольно логично объясняет, я считаю, что такое поведение все-таки определяется его садистской натурой. Такие люди пытаются найти выход своим страстям в дни войны, прикрывая свои действия законной необходимостью.
Мейнхард говорит, что солдаты Красной Армии зверски обращаются с нашими солдатами и редко берут их в плен. Поэтому мы ведем себя так же. Он добавляет, что такова война, когда зло порождает новое зло, жестокость – новую жестокость. Противоборствующие стороны отчаянно сражаются за свою жизнь, в них постоянно крепнет решимость непременно уничтожить врага. Это в свою очередь усиливает чувство мести и поведение в соответствии с правилом «око за око, зуб за зуб». Да будут небеса милосердны к побежденному. Раньше я не слышал от Мейнхарда ничего подобного. Я слишком мало пробыл на войне, чтобы иметь возможность сформировать личное мнение о подобных вещах.
Наша контратака закончена. Мы добрались до того места, с которого русские начали свое наступление. Противник отброшен далеко назад. Занимаем бывшие позиции советских войск и готовимся в любой момент отразить их натиск.
Когда опускаются сумерки, нам приносят горячий кофе и еду. На машины грузят пятерых раненых, чтобы увезти их в деревню. Этих парней мы не знаем. Кто-то признается, что нашел в вещевых мешках мертвых русских солдат немецкие сигареты и еду. На запястье убитого комиссара оказались немецкие часы марки «Тиле» с гравировкой на внутренней стороне крышки. Обнаруживший их водитель отдает свою находку командиру саперов.
Ночь проводим на новых позициях. Очень холодно. Ледяной ветер пробирает до костей. Те, кто не вышел в караул и не отправился на наблюдательный пост, скорчившись, сидят в окопах и пытаются уснуть в ожидании рассвета.
25 ноября. Ранним утром получаем приказ грузиться в машины. Отправляемся в деревню и заново занимаем старые позиции. Кажется, что траншеи тянутся по всей степи. Это спасет нас от тяжелой работы – рытья новых окопов. Земля замерзла настолько, что сделалась твердой, как камень.
В хорошую погоду степь просматривается вдаль на много километров, однако, к несчастью, в некоторых местах враг тоже хорошо видит наши позиции. Почти каждый день наши товарищи погибают от пуль русских снайперов. Эти снайперы умело прячутся, и поэтому нам приходится тяжело. Еду и боеприпасы по этой причине нам привозят только по ночам, хотя с наступлением темноты опасность не так уж сильно уменьшается. Предполагаем, что снайперы днем выбирают главные и важные, по их мнению, цели, а ночью стреляют наугад.
Утро началось тихо, но позднее русские начинают наступление на станцию Чир силами танков и пехоты. Сначала мы были лишь зрителями этого действа, но вскоре ответили противнику огнем минометов и пулеметными очередями. Враг напал на нас совершенно неожиданно, как будто возник из-под земли. Позднее мы узнали от пленных, что красноармейцы ползком приблизились к нам и, оставаясь на расстоянии нескольких сотен метров, быстро окопались, прячась за невысоким холмом. Сильный восточный ветер скрыл от нас шум, который они при этом производили.
Пока мы сдерживаем наступление пехоты прицельным огнем стрелкового оружия, от пятерки танков «Т-34» отделяется одна боевая машина и направляется к нам с другого края оврага, постоянно стреляя в нас из башенного орудия. На краю степной балки «тридцатьчетверка» останавливается. Я никогда еще не видел вражеский танк так близко. Вид у него действительно грозный – белая камуфляжная раскраска, башня медленно поворачивается, орудие опущено в направлении цели. Грохот выстрела. Из ствола вырываются языки пламени, оставляя короткий дымный след. Через секунду снаряд вонзается в землю где-то позади нас. Мощный дизельный двигатель издает громкий рык, лязгая гусеницами, металлическое чудовище срывается с места.
На меня сверху летят комья земли. Только бы танк не заметил меня! Танкисты знают, что мы залегли в окопах неподалеку от них, но все-таки мы хотим надеяться, что они не заметили наш хорошо замаскированный блиндаж. Скорее всего, они поняли, что на нашем участке передовой нет никакого противотанкового оружия. Танк осторожно едет вперед. Сейчас его легко было подбить выстрелом из противотанкового орудия или 88-мм зенитки. Я отлично понимаю, что это невозможно, потому что наши противотанковые орудия сейчас защищают железнодорожную станцию и деревню.
Неожиданно танк пятится назад и пытается развернуться, однако это ему плохо удается, и он наезжает гусеницей на край оврага, из-за чего ломаются ее несколько звеньев. На дне оврага я вижу нескольких наших саперов, которые пытаются установить вертикально какое-то бревно. Затем чувствую шлепок по плечу – это Вейхерт обращает мое внимание на вражескую пехоту, наступающую под прикрытием танка. Что же делать? Стрелять? Да, стрелять, это моя первейшая обязанность, но я тем самым рискую обнаружить себя, ведь тогда русская бронемашина просто раздавит нас.
Нажимаю на гашетку пулемета. Вейхерт подает мне ленту с патронами. В следующее мгновение оживает и пулемет Мейнхарда. Красноармейцы в первых рядах атакующих бросаются на землю. В заснеженной степи укрытия для них нет. Но что же делает танк? Он замечает нас и разворачивает башню в нашем направлении. Затем опускает ствол орудия и прицеливается. До него не более 50 метров. Оставаться на месте – настоящее безумие, поэтому я отпускаю пулемет и бросаюсь в соседний окоп. Раздается оглушительный взрыв, и на меня летят комья земли.
– На этот раз нам повезло. Но в следующий раз мы им покажем! – комментирует Вейхерт. Чувствую холодок на спине.
– Танк подбили! – неожиданно раздается радостный вопль Свины.
Выглядываем из траншеи и видим, что «тридцатьчетверка» висит над краем оврага с разбитой гусеницей. Над задней частью танка поднимается черный маслянистый дым.
– Саперы подбили его кумулятивным зарядом! – кричит кто-то.
Теперь можно свободно дышать. Радуемся за наших товарищей из саперного подразделения. Позднее унтер-офицер саперных войск рассказывает мне, что это была несложная работа, потому что «тридцатьчетверка» не заметила их. Саперам удалось без особых усилий бросить под гусеницу связку ручных гранат. Как бы то ни было, это парни рисковали своими жизнями и могли погибнуть от осколков взорванной гусеницы.
Сегодня нам всем сильно повезло. У нас только трое раненых. Саперам удалось выкурить экипаж из русского танка, который несколько часов не вылезал наружу, видимо, надеясь на то, что скоро придет подмога. Когда русские выползали из танка, мне удалось разглядеть их. Я испытывал странное чувство – сочетание любопытства, страха и уважения. Меня поразила странная форма шлемов советских танкистов, ничего подобного я раньше не видел.
25 ноября. С самого начала дня над землей висит густой туман. Какое-то время спустя он рассеивается под лучами зимнего солнца. Видимость значительно улучшается. В ясном безоблачном небе кружат немецкие бомбардировщики в сопровождении истребителей. Громмель говорит, что это Не-111 и do-17. На глаза мне часто попадаются изящные Ме-109, истребители сопровождения. Время от времени замечаем также тяжелые грузовые «Юнкерсы» ju-52. Они летят на Сталинград, при везении им удается сбросить груз и вернуться пустыми.
Только что вернулись из деревни Вариас и Свина, они принесли нам чистые подштанники и порошок от вшей. Я, как и мои остальные товарищи, не избежал этих тварей и поэтому постоянно чешусь.
Вариас рассказывает, что два дня назад фюрер объявил Сталинград несокрушимой крепостью. Некоторые из нас, особенно те, кто уже побывал в Сталинграде, приходят в гнев, услышав это. Они недовольны тем, как ведется война, и тем, что нашим войскам никак не удается вырваться из окруженного города. Они откровенно выражают свое недовольство и заявляют о том, что мы брошены на произвол судьбы, окружены со всех сторон врагом, который численно превосходит наши войска. Другие по-прежнему верят в то, что кольцо окружения скоро разорвут части танковой армии генерал-полковника Гота.
Однако этот оптимизм зиждется на подмене действительного желаемым, он шаток как карточный домик. Даже самый недалекий солдат знает, что боевая мощь противника крепнет день ото дня, тогда как наши силы постепенно слабеют. Кроме того, мы порой днями не получаем горячей пищи и вынуждены утолять голод лишь пригоршней галет. Мы прекрасно помним о том, что остаемся здесь полностью оторванными от остальных наших войск и нами, скорее всего, пожертвуют ради каких-то стратегических целей.
В начале декабря – спустя всего несколько дней – превосходящие силы противника буквально раздавят нас.
Днем нынешнего числа, 26 ноября, наш моральный дух немного окреп благодаря получению 88-мм зенитного орудия, которое может быть использовано для поражения наземных целей. У нас также имеется 20-мм орудие на колесном лафете. Прежде чем установить 88-мм зенитку на вершине невысокого холма, выкапываем яму, чтобы была видна лишь небольшая часть раскрашенного белой краской орудийного щита. Предполагается, что в деревне стоят три танка, готовые прикрыть нас в бою, однако из-за нехватки боеприпасов их задействуют лишь в случае крайней необходимости.
27 ноября. Рано утром разведывательной группе противника удалось проникнуть в деревню. Слышим звуки перестрелки. Нашим удается взять несколько пленных. Через несколько часов русские начинают продолжительный обстрел деревни из артиллерийских орудий. Утром обстреливали и нас тоже – из минометов и «сталинских органов». Однако в наступление противник так и не пошел. Вчера саперы заминировали часть деревни, и, к сожалению, один из наших водителей подорвался на мине.
Из-за сильного обстрела мы сидим как кроты в норах, лишь иногда высовываясь наружу, чтобы посмотреть, не решил ли враг пойти в наступление. Мне пора выступать в караул, и я осторожно поднимаю голову над бруствером. В следующее мгновение рядом разрывается граната. Над нами пролетают раскаленные осколки и комья мерзлой земли. В ушах звенит. К счастью, крыша блиндажа остается целой. Снег вокруг нас уже не белый, а грязновато-бурый от развороченной взрывами земли. Чертовски трудно сидеть вот так в мерзлом окопе, на холоде и неизвестно чего ждать. Зачем? Ради чего? Этого никто точно не знает. Нам точно известно лишь одно – наши жизни в опасности. В нас может прямой наводкой угодить снаряд, который мгновенно оборвет отпущенные нам дни. Когда такое произойдет, мы, наверное, просто ничего не заметим. Будет скверно, если враг развернет массовое наступление, хотя при этом нам придется хотя бы защищать собственную жизнь. Здесь, в этой жуткой дыре, нам не остается ничего другого как ждать.
Пытаюсь думать о чем-то другом, но не могу. Вой снарядов и уханье взрывов, раздающиеся со всех сторон, прогоняют прочь все мысли, кроме одного страстного желания – скорее бы затих этот безумный грохот. Единственный, у кого звуки далекого боя не вызывают никаких эмоций, – это Свина. На его лице не видно ни возбуждения, ни страха. Но с какой стати ему испытывать эти чувства? Бедолага не слышит ни свиста снарядов, ни грохота взрывов, он безмятежно смотрит на нас и спрашивает, что мы будем делать. Для того чтобы сказать ему что-то, приходится кричать ему почти в самое ухо, только так он что-то понимает.
Артиллерийский обстрел продолжается почти два часа, это говорит о том, что боеприпасов противник не жалеет. Впрочем, этим самым он ничего существенного не добился. Единственная наша неприятность – засыпанные окопы и один поврежденный пулемет.
28 ноября. Ночь с 27 на 28 ноября прошла спокойно, но рано утром Мейнхард приносит плохие новости. Он говорит, что наши старший вахмистр и вахмистр погибли вчера утром. Хотя мы были не слишком близки с нашим вахмистром, – он всегда держался немного надменно с нами, новобранцами, – нас печально удивило это известие. Главнее всего было то, что он являлся нашим командиром и, несмотря на суровость, всегда заботился о нас, насколько это возможно. Теперь его больше нет. В роте остаются лишь два человека, которые старше нас по званию, – унтер-офицер Деринг и второй унтер-офицер из автороты. Мейнхард говорит, что в мирное время старший вахмистр служил в кавалерии и был просто прирожденным военным.
Похоже, что сегодня будет пасмурно и туманно. Небо облачное. Видимость настолько плохая, что следует быть готовым к тому, что перед нами в любую минуту может появиться из тумана враг. Мейнхард отправляет несколько солдат проверить наблюдательные посты. Он полагает, что русские непременно воспользуются скверной погодой, чтобы незаметно приблизиться к нашим позициям. Как выяснилось впоследствии, он оказался прав.
Вскоре вернулись наблюдатели и сообщили, что слышали шум, доносящийся с севера, и команды на русском языке, которые стали слышны с каждой минутой все громче и громче. Увидеть что-либо они не смогли, но у них нет никакого сомнения в том, что противник направляется в нашу сторону с севера. Включенных танковых двигателей разведчики не слышали. Значит, сначала на нас пойдет русская пехота. Мы готовы оказать ей достойный прием.
Деринг объявляет всем, что открывать огонь следует лишь по его команде. Он хочет подпустить противника поближе, а затем неожиданно обстрелять его. Мы взволнованы услышанным и торопливо готовим оружие к бою. Никто не знает, каким будет его исход. Это худшие минуты перед боем, когда нервы натянуты до предела. Минуты, которые кажутся вечностью…
Наконец наступает решающий момент. Перед нами возникают какие-то фигуры. Русские двигаются, согнувшись, готовые в любую минуту залечь. Ждем сигнала Деринга. Сожалею, что у меня нет полевого бинокля, – что-то в поведении противника кажется мне странным, но я совершенно не понимаю, что именно.
– Это наши! – неожиданно раздается чей-то крик. – Не стрелять!
После этого звучит голос Деринга:
– Всем в укрытие! Из окопов не высовываться!
Выполняем его команду и продолжаем смотреть вперед. Солдаты противника подходят к нам все ближе и ближе. Откуда они взялись, думаю я. Почему их форма и каски кажутся такими новыми?
Слышу, как оживает пулемет Мейнхарда. Затем кто-то кричит:
– Это русские в нашей форме!
Фигуры в немецкой форме бросаются вперед, пытаясь занять наши позиции. За ними идут красноармейцы в бурых шинелях и грязных маскировочных халатах. Мы открываем огонь из пулеметов и карабинов. Те, кто не был убит или ранен, поспешно бросаются на землю. Атака захлебнулась. Слышим чьи-то крики, затем треск очередей двух неприятельских пулеметов. На нас обрушивается смертоносный дождь пуль. Через несколько секунд в бой вступают русские минометы. В паре сантиметров от меня в землю вонзается крупный осколок, который легко мог бы выбить у меня из рук мой пулемет. Подтаскиваю его ближе и еще крепче вцепляюсь в него.
– Они снова наступают! – кричит Вейхерт, подавая очередную ленту с патронами.
Я испытываю необычное чувство, стреляя во врага, одетого в немецкую форму. Мне кажется, будто я расстреливаю предателей. Русские пытаются смять нас второй и третьей волной наступления, однако это им не удается, потому что наши саперы ведут по ним огонь с фланга.
Впереди валяется множество мертвых тел, которые медленно остывают на морозе. Их постепенно заносит падающим с неба снегом. Слышим стоны раненых, их мольбу о помощи. На ногах у некоторых мертвецов валенки немецкого производства, каких нам самим отчаянно не хватает. Когда появляется такая возможность, мы снимаем их с окоченевших ног убитых солдат. Летом мне казалось, что мои сапоги велики мне, но теперь они спасают меня. Я натягиваю вторую пару носков и обматываю ноги газетами и тем самым избегаю обморожения. Такие случаи еще в начале зимы были довольно часты, и некоторые солдаты из-за этого лишились больших пальцев ног. Пару дней назад мы получили партию бесхитростного вида галош из соломы, которые Свина назвал «соломенными горшками». Хотя ходить в них неудобно, они все-таки немного спасают нас от холода во время нахождения в окопах.
Вейхерт и несколько других солдат покопались в вещевых мешках убитых русских в надежде найти хотя бы какую-нибудь еду. Вчера вечером нам раздали лишь по несколько галет и немного остывшего чая. Вейхерт сильнее других страдает от голода. Он находит черный русский хлеб и кусок копченого сала, последнее явно попало к противнику из немецких запасов. Свина приносит мне кисет с махоркой – он заметил, как я все утро выворачивал карманы в поисках хотя бы маленькой щепотки табака для моей трубки.
Сегодня ночью мы снова выставляем передовые посты. Когда в три часа утра Громмель будит меня, мне очень не хочется выходить из нашего теплого уютного блиндажа. Снаружи холодно и туманно. Все вокруг усеяно изморозью. Пулемет, накрытый куском брезента, весь белый. Кажется, будто он утратил свою прежнюю форму. Сзади, над холмом, взлетает в воздух ракета. Видимость улучшается. Впереди, в низине, туман еще гуще, чем возле блиндажа. Здесь даже вытянутой руки не видно. Вслед за Свиной ныряю в туманную дымку. Снег скрипит под ногами. Стараемся идти след в след. Неожиданно раздается приглушенный голос, требующий назвать пароль.
– «Железная дорога»! – громким шепотом отвечаю я.
– Проходи!
Голос кажется мне знакомым, но я не знаю, откуда он исходит.
– Мы справа от тебя, в окопе, – добавляет голос.
В следующую секунду передо мной возникает какая-то фигура. Рядом с ней из окопа появляется вторая. Чертов туман! Если бы они не окликнули нас, то мы наступили бы на них.
Нам сообщают, что на наших позициях все спокойно. Как только часовых снова окутывает туман, Свина прыгает в окоп. Пытаюсь сориентироваться. Я всего в нескольких шагах от Свины, но не слышу и не вижу его, лишь приблизительно представляю себе, где он. Чертов туман! Спотыкаюсь о мертвое тело и понимаю, что зашел слишком далеко вперед. Пригибаюсь к земле. Мне кажется, будто я слышу чьи-то шаги по скрипучему снегу. Натыкаюсь еще на несколько трупов. Начинаю сожалеть о том, что отстал от Свины. Позвать его я не могу, потому что он не услышит меня. Снова слышу скрип снега, затем до моего слуха доносятся приглушенные голоса. Русские! Спокойно, приказываю я себе. Мои нервы натянуты до предела. Похоже, что русские совсем рядом. Они тоже плохо видят в тумане и окликают друг друга. Медленно отступаю назад и едва не наступаю на голову ползущему Свине. Ему, должно быть, совсем несладко – он ничего не слышит и ничего не видит в густом тумане. Жестом показываю ему, что впереди что-то происходит. Забавно, что Свина рупором прикладывает ладонь к уху, чтобы лучше понять меня. Ползем обратно и сообщаем товарищам, что русские где-то рядом.
Ждем. Наконец слышим голоса более отчетливо. Деринг выпускает ракету. Она освещает небольшой участок окружающего пространства, которое кажется призрачным. Становятся видны какие-то фигуры, которые на мгновение замирают на месте. В следующую секунду они рассыпаются в разные стороны. Часть из них бросается на землю. Стреляем в темноту. Русские что-то кричат друг другу. Раздается какой-то лязг, который, впрочем, тут же смолкает. В небо взлетает вторая, а затем третья ракета. На снегу лежат всего пять человек, остальные исчезли.
Приходим к выводу, что это русская разведгруппа или солдаты, отбившиеся от своей части. Это всего лишь небольшой отряд. Мы несколько раз стреляем в туман. В свете трассирующих пуль вижу, как две фигуры вскакивают и убегают прочь. Сраженный пулей, один из беглецов падает на снег. Три человека все так же лежат. С нашей стороны слышится фраза по-русски. Должно быть, это один из русских добровольцев из числа тех, что помогают нам. Ему отвечают по-русски, и вскоре три человека встают, подняв руки.
Оказывается, что из трех пленных двое – женщины, которых мы называем партизанками. Говорят, что они даже более фанатичны, чем солдаты регулярной Красной Армии. Они признаются, что заблудились в тумане. Всего в их отряде было пятнадцать солдат. Мы также выясняем, что позиции советских войск каждый день укрепляются в численном отношении.
2 декабря. Густой утренний туман рассеивается. В направлении железнодорожной станции Чир значительно усилилась активность вражеских войск. Иду по траншее к стрелковой ячейке Мейнхарда. Он о чем-то разговаривает с Дерингом, который рассматривает вражеские позиции в полевой бинокль.
– Деринг полагает, что русские готовятся к наступлению, – поясняет Мейнхард. – У них много машин и танков. Они, по всей видимости, подвозят на грузовиках пополнение.
Мейнхард раздражен тем, что противник смело и спокойно накапливает силы на нашем участке фронта.
– Эти свиньи прекрасно знают, что у нас нет артиллерии, иначе они не осмелились бы так открыто готовиться к наступлению, – ворчит он.
Мы еще один час наблюдаем за действиями врага. Становится ясно, что основная часть формирования Красной Армии отправляется на юго-восток, к Верхне-Чирской. Еще одна боевая группа противника, предположительно, намерена захватить мост через Дон. Если красноармейцы займут мост, то окажутся у нас в тылу, и мы попадем в окружение. Судя по всему, наступление русской пехоты будет поддержано танками. Три бронемашины уже приближаются к нам, двигаясь вдоль железнодорожного полотна.
Неожиданно слышим в воздухе гул авиационных двигателей.
– Это наши «штуки»! – возбужденно кричит кто-то. Напряжение мгновенно отпускает нас, мы радуемся, как дети, только что развернувшие пакет с подарком. Значит, связь с Верховным командованием все-таки есть! Неужели помощь, наконец, придет к нам с южного берега Дона? Лишь позднее я понимаю, что на самом деле никакой связи нет: пилоты просто поняли, что происходит у нас, и повели себя соответствующим образом. Спустя какое-то время в небе снова появляются «штуки», но они ничем не помогают нам. Тем не менее каждое их новое появление вызывает у нас радость, мы возбужденно машем руками, приветствуя наших летчиков. Пусть на короткое время, но они все равно поднимают наш дух.
Сначала мы видим три «штуки», затем еще три. Их атака на расположенные впереди позиции противника превращается в захватывающее зрелище. Даже у нас, не участвующих в нем, по спине пробегает холодок. На обтекателе двигателя бомбардировщика нарисована жуткая акулья пасть, она может показаться противнику грозным предупреждением и напоминанием о грядущей катастрофе. Самолет сначала опрокидывается на бок, затем, сопровождаемый воем сирен, который с каждой секундой делается все громче и громче, устремляется к своей цели. Сбросив бомбы, самолеты взмывают ввысь, после чего делают новый заход на очередную цель. Психологическое воздействие на беззащитных жертв, несомненно, велико. Тем, кто внизу, наверное, кажется, что сверху на них обрушивается ад.
Через несколько минут в чистое небо поднимаются облака черного дыма. Мы замечаем, что советские танки начинают двигаться зигзагом, чтобы не стать жертвой пикирующих бомбардировщиков. У них нет никаких шансов на спасение, потому что «штуки» раз за разом сбрасывают на них свой смертоносный груз.
Отбомбившись, самолеты разворачиваются и скрываются за горизонтом. Облака дыма свидетельствуют о количестве уничтоженных наземных целей – главным образом машин, танков и артиллерийских установок. «Штуки» сделали большое дело – наступление русской пехоты южнее Дона остановлено. Мост через Дон остается в наших руках. Но сколько продлится подобное положение?
3 декабря. Нам приносят скудный паек – полкотелка говядины на четверых и галеты, а также холодный жидкий кофе, который приходится разогревать на печке. Этот скудный запас пищи нам придется растянуть до завтрашнего вечера. Громмель скрупулезно делит галеты и следит за тем, чтобы всем досталось поровну. Вчера мы получили больше еды – одну буханку хлеба на троих.
На данном этапе войны голод постоянно главенствует над всеми мыслями. Еда – главная тема всех наших разговоров. Она снится мне почти каждую ночь, например жареное мясо. В таких случаях очень не хочется просыпаться, потому что утро начинается с голодного урчания в желудке. Жизнь становится сносной лишь после того, как мы получаем положенную нам пайку армейского хлеба. Я медленно жую его, смакую каждый кусочек. Хлеб кажется мне лучше любого пирожного, никогда не думал, что он может быть таким вкусным. Однако бывают такие дни, что мы не получаем ни крошки. Вот уж действительно – хлеб может быть на вес золота.
Глава 5. КРОВАВО-КРАСНЫЙ СНЕГ ПАДАЕТ НЕ С НЕБЕС
4 декабря 1942 года. День начинается так же, как и вчера. Небо чистое, видимость хорошая. Однако чуть позже небо затягивается облаками и становится пасмурно. Днем идет снег. Ветер усиливается, и начинается метель. Очень быстро взрыхленная взрывами земля делается белой и чистой. Чтобы согреться, начинаю расчищать от снега траншею. Вейхерт убирает снег возле нашего пулемета, чтобы он не мешал вести огонь во время боя.
Иду по траншее в соседний блиндаж навестить Вариаса, Зейделя и других. Они растопили печку докрасна. Когда я увидел Вариаса, то не смог удержаться от смеха. Он лежал на топчане, но его ноги были не видны, они уходили в земляную стену. Блиндаж у наших соседей такой же, как и у нас, прямоугольный крытый окоп, но он был слишком узким для длинных ног Вариаса. Чтобы разместиться поудобнее, ему пришлось выкопать в стене дополнительную нишу. Рядом с ним на охапке соломы лежат два солдата. Оба спят и сильно храпят при этом. Слышу, как у них урчит в животе. Поймав мой взгляд, Вариас поясняет, что во сне человек не так сильно теряет энергию. Зейдель стоит у печки и варит суп из накрошенных в набитый снегом котелок кусочков галет. По его словам, это лучше, чем грызть сухие галеты. Пожалуй, он прав, надо будет как-нибудь последовать его примеру. Из блиндажа Мейнхарда доносятся звуки губной гармошки. Это Курат наигрывает какую-то печальную мелодию, навевающую мысли о доме.
В тренировочном лагере нам без устали объясняли, как пользоваться оружием для того, чтобы убивать врагов. Мы получили хорошую подготовку и были горды тем, что будем сражаться за фюрера, отечество и народ и, если нужно, отдадим за это жизнь. Но никто никогда не говорил нам о том, что нам придется пережить, прежде чем нас убьют. Смерть может принять самые разные формы и не обязательно окажется мгновенной. За последние дни, которые мы провели здесь, мы слышали жуткие крики и стоны раненых, умиравших на снегу. При мысли об этом становится страшно – ведь такой конец может ожидать любого из нас, и на помощь нам никто не придет. Нам не говорили, что такое может случиться с каждым; нас не учили, как бороться с тревогой, которая разъедает душу, как кислота, и которая сильнее чувства долга. Считается, что каждому солдату приходится самостоятельно решать подобную проблему. Эту тревогу приходится скрывать сильнее, чем прочие чувства; нельзя, чтобы кто-нибудь видел, что ты встревожен. Если ты не сможешь ее утаить, то тебя просто посчитают трусом, как, например, в случае с коротышкой Громмелем, который даже во время боя не может заставить себя стрелять во врага.
Вейхерт заметил, что Громмель не может целиться и нажимать на курок. Даже когда его заставляют стрелять, он закрывает глаза и только после этого стреляет, не видя, попадет ли в цель. А ведь он был лучшим стрелком в тренировочном лагере. В чем же тут дело? Неужели его подводят нервы, когда он видит врага, так же как и Петча? Вейхерт также заметил, что при каждой атаке противника он ведет себя как парализованный, а глаза его моргают и слезятся, как будто у него лихорадка. Может быть, я поговорю с ним об этом, ведь от поведения в бою одного человека зависит безопасность каждого из нас. К сожалению, такой возможности мне не представляется, потому что следующие несколько дней мы без конца отражаем атаки противника. Редкие минуты затишья мы – кому не нужно заступать в караул – используем для сна, потому что испытываем постоянную усталость.
Вечером снова прихожу в блиндаж Мейнхарда. Унтер-офицер Деринг тоже здесь. Он говорит, что когда представится такая возможность, то сходит в деревню забрать свою губную гармошку. Возвращаясь в свой блиндаж, слышу, как Курат снова выводит мелодию на губной гармошке. Я еще не знаю, что вижу его в последний раз: он и еще один солдат очень скоро погибнут.
5 декабря. Ночью снова шел снег. Утром, когда Вейхерт и Свина будят меня, я слышу доносящуюся со стороны деревни перестрелку. По словам Вейхерта, бой только что начался. Они со Свиной вернулись с наблюдательного поста и не заметили ничего необычного, но когда вернулись в блиндаж, в деревне разразился настоящий ад. Морозный воздух наполнен свистом снарядов, перемежающимся треском пулеметных очередей и винтовочных выстрелов.
Прибегает один из солдат и сообщает, что им нужно зенитное орудие. Тягач с зениткой тут же отправляется в сторону деревни. В воздух постоянно взлетают осветительные ракеты. Идет мелкий снег.
– Погодка как раз для наступления русских! – комментирует старый ефрейтор, находящийся в нашей траншее. Вскоре вступает в бой зенитное орудие, однако возле деревни стрельба скоро затихает, и выстрелы доносятся лишь со стороны железнодорожного полотна. Слышны лишь пулеметные очереди.
Наступает кратковременное затишье. До моего слуха доносится рокот двигателя. Он исходит из оврага.
В воздух поднимаются черные клубы дыма от сжигаемого дизельного топлива. К нам подходят Кюппер и Вариас. Они предполагают, что в овраге застряла русская «тридцатьчетверка». Подползаем к краю степной балки. В тумане ничего не можем разглядеть, но теперь нет никаких сомнений в правоте наших товарищей – там точно вражеский танк.
– У нас есть шанс взорвать его, но как это сделать? – спрашивает Вариас.
Как будто в ответ на его вопрос грохочет взрыв, и танк в буквальном смысле разлетается на куски. Нас на мгновение ослепляет вспышка огня, и мы бросаемся на землю. Взрывается боекомплект танка, и осколки отлетают рикошетом от стен оврага. В бледном свете раннего утра видим дым, поднимающийся к небу. Слышим крики наших саперов, которые утверждают, что подорвали неприятельскую бронемашину парой мин.
В последовавшей позднее контратаке мы захватываем немало трофейного оружия, однако в солдатских вещмешках русских находим очень мало еды. Вейхерту удается отыскать несколько кусков черного хлеба, пахнувшего тестом и неприятного на вкус. Тем не менее мы торопливо съедаем найденное, чтобы хоть как-то утолить голод. Время от времени слышу доносящиеся с разных сторон приглушенные хлопки выстрелов. Это тот самый чернявый унтер-офицер добивает раненых русских солдат, удовлетворяя свои садистские наклонности.
6 декабря. Трое из нас безмятежно спят в теплом блиндаже. Вейхерт сейчас находится в карауле. Мы слышим его шаги по скрипучему снегу. Он подходит ко входу и приподнимает одеяло, которым тот завешен. Мы тут же просыпаемся. Несмотря на огромную усталость, мы спим очень чутко. Вейхерт рассказывает нам, что Деринг получил боеприпасы и нам нужно зайти к нему и забрать то, что нам причитается.
Мы с Громмелем отправляемся к Дерингу. Темно. Курат еще не вернулся. Ему еще двадцать минут нужно оставаться на наблюдательном посту. Вокруг тишина, и мы надеемся, что в ближайшее время будет так же тихо. Приближаюсь ко входу в блиндаж и слышу, как мне кажется, звуки губной гармошки Курата. Но это невозможно – Курат находится на наблюдательном посту в окопе на передовой. Неужели мне это послышалось? Неужели у меня сдают нервы, и мне мерещится черт знает что? Возвращаюсь к Вариасу, который, оказывается, вместе с Зейделем тоже слышал похожие звуки. Но не мелодию, а лишь пару нот, как будто кто-то просто дует в губную гармошку. Они тоже сильно удивлены. Когда мы рассказываем обо всем Дерингу, он сразу же принимает меры.
– Что-то здесь не так. Тревога! Поднимайте всех по тревоге! Готовьтесь к бою!
Бегу к своему пулемету и срываю с него кожух. Все подразделение поднято по тревоге и ждет следующей команды. Какой именно? На передовой все спокойно. Неужели Курат случайно заиграл на гармошке? Если бы он заметил что-то подозрительное, то предупредил бы нас выстрелом из винтовки, как того требует устав караульной службы. Разве это не могло быть ложной тревогой? Ответов на эти вопросы нет, Деринг молчит. Затем в воздух взлетает трассирующий снаряд.
Что это? На расстоянии 50 метров от нас мы видим фигуры в белых маскировочных халатах. Когда мы открываем огонь из пулеметов и винтовок, они бросаются на снег. Когда становится светлее, мы видим, что русских стало еще больше. Они залегли за первой группой. На них такой же зимний камуфляж. С фланга по ним открывают огонь наши саперы. Противник все так же лежит в снегу, ждет. Проходит полчаса. Почему они не идут в атаку? Что же будет дальше? Чего они ждут?
Вскоре мы узнаем, чего они ждали. На нас надвигаются танки! Сначала видим две бронемашины, затем из рассветного тумана выныривают еще три. Они начинают обстрел наших позиций. А как же наше 88-мм орудие? Оно хорошо замаскировано и наверняка ждет своего часа. Мысль об этом лишь ненадолго успокаивает меня. Что может сделать одно орудие против пяти танков? Советская пехота под прикрытием боевых машин двигается на нас. Пытаемся сдержать ее наступление.
Как гром с ясного неба раздается первый выстрел из нашего зенитного орудия. Видим, как бронебойный снаряд врезается в башню «тридцатьчетверки», которую мгновенно охватывает огонь. Затем над ней начинают подниматься клубы черного едкого дыма. Между тем ствол нашего 88-мм орудия наведен на другую цель. Снаряд попадает точно в гусеницу танка. Подбитая бронемашина бесцельно кружится на одном месте. Экипаж успевает выскочить наружу прежде, чем второе прицельное попадание уничтожает танк. Еще одна бронемашина пытается выскочить туда, где в нее не сможет попасть наше орудие. Два танка стреляют в нашу зенитку, но промахиваются. Один из снарядов попадает в блиндаж, расположенный справа от меня. Через секунду воздух оглашают крики и призывы о помощи. Наверняка там кого-то ранило. Вскоре кто-то из наших солдат подбивает третий советский танк, у которого заклинивает башню. Танк не может вести огонь и пытается отойти в тыл. Через несколько минут следом за ним отходит еще одна боевая машина. Танк, отошедший в недоступное для нашего орудия место, в мертвую точку, попадает, что называется, из огня да в полымя. Когда он пытается уничтожить наше 88-мм орудие и выбирает для этого более удобную позицию, то оказывается под прицельным огнем двух наших танков, поджидавших его за склоном холма. Прежде чем они уничтожают «тридцатьчетверку», та успевает нанести одному из них серьезные повреждения.
Хотя нам в очередной раз удалось остановить наступление противника, за это пришлось заплатить высокую цену. От выстрела советского танка, попавшего в наш блиндаж, погиб Дитер Мальцан и один ефрейтор. Трое солдат получили серьезные ранения, одному оторвало руку ниже локтя.
Лишь через несколько часов, после того как прекратился мощный артиллерийский обстрел, мы смогли немного продвинуться вперед, дальше наших прежних позиций.
Возле окопов на наблюдательном посту мы находим тела Курата и его напарника. Они лежат в луже замерзшей крови. Их убили, а затем сняли с ног сапоги и забрали винтовки. Курат погиб не сразу, он попытался сообщить нам о нападении при помощи губной гармошки. Когда мы понесли погибших к нашей траншее, чтобы достойно похоронить, он продолжал сжимать ее в своей окоченевшей руке. Он спас нам жизнь, потому что иначе враг застал бы нас врасплох.
Сегодня у нас был еще один удачный день, хотя назвать его хорошим тоже нельзя. Мы, те, кто остался в живых, должны благодарить Всевышнего за то, что он снова отвел от нас беду. Громмель напоминает нам, что сегодня воскресенье, день святого Николая. Разве это имеет какое-то значение? Для нас давно перестали существовать выходные дни и праздники. Каждый новый день, когда мы избежали смерти, – уже хороший день. Чувствую, что этой ночью буду спать крепким здоровым сном.
7 декабря. С утра снова туманно. Ближе к полудню туман рассеивается, и видимость улучшается. Снова активизировались вражеские снайперы. На железнодорожной станции на нас наступают подразделения Красной Армии, действуя отдельными отрядами. Они также ведут минометный обстрел деревни. Когда в небе появляются «штуки», русские прекращают огонь. Наши самолеты бомбят позиции русских, расположенные впереди нас. Красноармейцы так хорошо замаскировались в снегу, что мы удивляемся тому, как близко от нас они оказались, и мы этого не заметили. Пикирующие бомбардировщики обрушиваются на противника несколькими волнами. Мы уже привыкли к вою авиационных сирен, которые они включают, заходя в пике. Ввысь поднимаются столбы черного дыма от пораженных ими целей – машин и артиллерийских орудий. Налеты бомбардировщиков не могут остановить огонь неприятельских пушек и минометов. Однако «сталинские органы» пока молчат. Может, они уничтожены нашими «штуками»?
На ужин неожиданно получаем бобовую похлебку с картофелем и немного хлеба. Янсену удалось с того берега Дона привезти нам немного еды.
8 декабря. Сегодня день не слишком отличается от вчерашнего дня. Видимость хорошая. С самого утра пикирующие бомбардировщики бомбят позиции русских войск. На этот раз их цели расположены дальше – должно быть, русские наращивают силы на высотах за станцией Чир. Пикирующие бомбардировщики атакуют во второй раз несколькими волнами. Над пораженными ими целями в синее небо поднимается густой черный дым.
9 декабря. Хмурое утро. Враг интенсивно обстреливает деревню и наши позиции. До полудня осмеливаемся лишь изредка высунуть нос из окопа. Снова начинается игра в тягостное долгое ожидание. Русские, несомненно, отвели свои войска, чтобы провести бомбардировку наших позиций. Сегодня, вероятно, это им не удастся по причине плохой видимости. Днем самолеты совершают налет на деревню с востока и вдоль железной дороги с юга. Мы в боях не участвуем. Если противнику удастся захватить деревню, то тогда он сможет атаковать нас с обеих сторон, угрожая нам окружением. Ждем и молимся о том, чтобы из этой затеи у русских ничего не вышло.
Сражение за деревню продолжается несколько часов. Затем резервному подразделению удается контратаковать противника и выдавить его из деревни. Потери велики – шесть убитых и много раненых.
11 декабря. Небо пасмурное. Видимость ограниченная. С раннего утра начинается артиллерийский обстрел наших позиций. Снаряды противника рвутся вокруг нас. Обложили нас плотно. Похоже, что пощады нам ждать не придется. Из-за взрывов мы не слышим рокота моторов и не осознаем грозящей опасности. Перед нами неожиданно, как призраки, появляются пять танков «Т-34». Их появление становится неожиданностью не только для нас, но и для расчета 88-мм орудия, установленного на гребне высотки. Прежде чем расчету удается развернуть длинный ствол, чтобы навести его на танки, из пяти башенных орудий производятся выстрелы. С такого близкого расстояния это означает гибель нашего зенитного орудия. Однако, к нашему удивлению, артиллеристам удается подбить один из танков, прежде чем получить два прямых попадания. Видим, как в воздух взлетают обломки пушки. Расчет орудия убит на месте. Четыре «тридцатьчетверки» продолжают надвигаться на нас. Рядом с ними бегут русские пехотинцы. Второе зенитное орудие продолжает вести огонь. Трассирующие снаряды поражают танки противника, заставляют вражескую пехоту остановиться и спрятаться за боевыми машинами.
Две бронемашины приближаются к краю ближней траншеи, но неожиданно сворачивают в сторону. Теперь они движутся параллельно ей, подставив нам бока. Вскоре они оказываются возле огневой точки Мейнхарда. Возникает ситуация, о которой может только мечтать охотник за танками. Однако противник знает, что никаких противотанковых средств у нас нет. Из всех видов стрелкового оружия мы открываем огонь по пехотинцам, следующим за танками, однако те и не думают останавливаться. Обрушиваем огонь на тех красноармейцев, которые осмеливаются продолжать наступление. Рядом с Вариасом и Мейнхардом взрываются ручные гранаты. Пулемет Мейнхарда неожиданно замолкает, однако огонь из винтовок не прекращается. Трассирующие снаряды, нацеленные на волну вражеской пехоты зениткой, со свистом пролетают над нашими головами. Если бы не это зенитное орудие, то противник давно смял бы нас. Саперы продолжают с фланга поливать неприятельскую пехоту огнем двух пулеметов.
Первый танк останавливается возле огневой точки Мейнхарда. Двигатель ревет еще громче. Гусеницы взрыхляют замерзшую землю. Зенитка бьет по танку прямой наводкой разрывными снарядами, но они наносят башенной броне ущерб не больший, чем огонь фейерверка. Затем происходит это! Танк, прорвавшийся на наши позиции справа от нас, бьет прямой наводкой по зенитному орудию. Вторым снарядом он разбивает его вдребезги. Во все стороны летят обломки металла и куски человеческой плоти. На землю падает оторванная нога, окрашивая снег кровью. Беспомощно смотрим друг на друга. Мое лицо, несмотря на холод, покрыто потом, заливающим глаза. Чувствую, что во рту пересохло, язык прилип к небу.
Теперь вражеские танки уже ничто не сдерживает, они неумолимо катят прямо на нас. Уже ничто не сможет помешать им войти в деревню. Однако на дороге, ведущей к ней, по крайней мере, расставлены мины.
Одна из бронемашин задерживается близ наших позиций и давит окопы. Вторая устремляется к правому флангу. Третья пытается перевалить через гребень холма. Четвертый танк уже спустился вниз и ведет беглый огонь по деревне. Несмотря на нашу решительную оборону, нескольким красноармейцам удается ворваться в наши траншеи. Деринг и его люди сходятся с ними в рукопашной. Огонь ведут лишь мой пулемет и два пулемета саперов. Вейхерт, подающий мне патронную ленту, жалуется на скверное качество боеприпасов и сообщает, что у нас остался лишь один запасной ствол.
Свина находится рядом со мной и стреляет из винтовки. Не вижу Громмеля, потому что он где-то в нескольких метрах от меня, позади Вейхерта. Заметив наше бедственное положение, Громмель передает нам два запасных ствола.
– Черт, «тридцатьчетверка» заметила наше пулеметное гнездо! – доносится до меня голос Громмеля.
Советский танк наводит на нас башенное орудие и, рокоча двигателем, движется вперед. Быстро подхватываю пулемет и вместе с ним валюсь на дно окопа. Громмель и Вейхерт бросаются в блиндаж. Свина успевает прыгнуть в окоп раньше меня и теперь лежит у меня за спиной.
Гремит выстрел, и снаряд взрывается в том самом месте, где только что стоял мой пулемет. На голову мне летят комья мерзлой земли и горячие осколки металла. В ушах звон. Мне кажется, будто у меня лопнули барабанные перепонки. Противный резкий запах пороха забивает мне ноздри и наполняет легкие. Но я жив. Жив и Свина, конвульсивное дыхание и кашель которого я слышу у себя за спиной. Затем все повторяется снова – оглушительный грохот и лязг гусениц. Вжимаюсь, как червяк, в холодную землю. В окопе темно как ночью – над нами нависла стальная громада танка, заслонившая весь белый свет. Металлические гусеницы рвут и крошат края окопа. Сверху падают массивные пласты замерзшей земли, наполовину засыпав меня. Неужели эта махина погребет меня заживо? Вспоминаю рассказы солдат о том, что иногда танки специально давят траншеи, чтобы насмерть завалить тех, кто в них оказался. Жуткая смерть!
Меня охватывает паника. Жаль, что я не бросился вслед за товарищами в блиндаж! Ползу к ним. Свина следует моему примеру. В блиндаже почти полная тьма, с трудом узнаю лица солдат. Буквально физически ощущаю их страх и беспомощность. Танк снова над нами. Что же будет дальше? Неужели он попытается уничтожить блиндаж, раздавить его? Хотя земля промерзла насквозь, выдержит ли крыша вес вражеской бронемашины?
Минута сменяет другую. Мучаемся томительным ожиданием. Чего ждем? Неминуемой смерти? Мы могли подорвать нависший над нами танк гранатами или кумулятивным зарядом, но у нас нет ни того, ни другого. Нам лишь остается надеяться на лучшее и молиться о том, чтобы смерть обошла нас стороной.
Слышу, как Свина начинает молиться вслух. Чувствую, что мне следует успокоить нервы молитвой. Я не молился с самого детства, в юности надеясь на то, что я достаточно силен, чтобы нуждаться в заступничестве высших сил. Но теперь, перед лицом смерти, опасаясь за свою жизнь, автоматически вспоминаю давно забытые слова. Я произношу их не вслух, как Свина и другие мои товарищи: молюсь молча, про себя, не шевеля губами. Молюсь о том, чтобы нам даровали жизнь, чтобы мы избежали ранений и увечий.
Хотя в сложившейся обстановке пока ничего не изменилось, после молитвы ощущаю внутреннее спокойствие и веру в лучшее. Это состояние трудно, невозможно объяснить словами. Свина закончил молиться. Он смотрит на Вейхерта. Тот сидит на каком-то тряпье и не сводит глаз с потолка. Громмель часто, взволнованно дышит, его взгляд тоже устремлен на потолок. Каждый раз, когда танк стреляет, крыша вздрагивает и сверху нам на каски сыплется снег. Снова ревет двигатель, и стальной гигант съезжает с крыши блиндажа. Внутрь валятся пласты земли, и мы видим танковые гусеницы.
Спасены! Нас не завалило обломками! Вот что самое главное! Вейхерт и остальные охвачены паникой.
– Все наружу! – кричит он и первым бросается к выходу.
Вход в бункер завален кусками льда. Вейхерт отталкивает их ногой и с трудом выбирается наружу. Окоп наполовину завален землей и снегом. Где-то под ними лежит мой пулемет. Дальше, в траншее, видим нескольких красноармейцев, которых Вариас и Зейдель забрасывают ручными гранатами. Слышим, как из своего окопа ведут огонь саперы. Рвутся гранаты. Саперы пытаются вести перекрестный огонь из минометов. Таким образом удается остановить советскую пехоту, но не танки.
Танк, наконец, отъезжает от нас и направляется в сторону деревни. Мы только сейчас понимаем, насколько нам повезло, – судя по следам гусениц, танк проехал мимо нашего блиндажа, лишь взрыхлив землю на левом краю крыши. Сейчас «тридцатьчетверка» обстреливает огневую точку саперов. С ужасом наблюдаем за тем, как снаряд в щепки разносит пулеметное гнездо. После этого танк разворачивается и едет обратно!
Теперь он стреляет по нашей траншее; давит окопы, заваливая их землей. Два испуганных солдата выскакивают наружу и пытаются бежать, но через пару секунд падают, скошенные очередью танкового пулемета. Какой-то солдат отважно бросается с гранатой на танк. Граната отскакивает от башни, как камень от стены. Солдат не успевает отскочить в сторону, и гусеницы тут же впечатывают его в землю. Открывается люк башни, и из него в наши окопы летят несколько гранат.
Пока я отчаянно пытаюсь выкопать свой пулемет, Свина бросает ручную гранату в двух русских солдат, бегущих к нам. Они падают на снег. У Вейхерта нет времени перезаряжать винтовку, и поэтому он выхватывает у Громмеля его карабин и стреляет в красноармейца, устремившегося в нашу траншею. Выстрелом из пистолета останавливаю второго врага. Из раны в горле у него течет кровь. Он с криком отступает, разворачивается и убегает прочь. Остальные красноармейцы убегают вслед за ним. Наступает короткая передышка. Теперь в траншее остается всего несколько вражеских солдат, но на нас снова надвигается советская «тридцатьчетверка». Танк давит все, что попадается у него на пути, и ничто не может остановить его.
Неужели это конец? Неужели один-единственный русский танк сможет уничтожить всех нас? Окружающее пространство ощутимо наполняется безудержным страхом, а также гневом и беспомощностью перед лицом безжалостного стального монстра. Еще один солдат, у которого не выдерживают нервы, вскакивает и бежит. Танк разворачивается, начинает преследовать и давит его тяжелыми гусеницами. Ужасное зрелище! Громмель извергает содержимое желудка и заползает в блиндаж.
Танк приближается к блиндажу. Неужели мы следующие? Неужели русские танкисты догадались, что мы живы, и теперь явились по наши души? Что же делать? Бежать бесполезно, но и от блиндажа толка нет, он может стать нашей могилой. Подсознанием слышу несколько взрывов, прогрохотавших в деревне, и вспоминаю о втором танке. Но мои мысли в данный момент сосредоточены главным образом на стальном монстре, упрямо надвигающемся на нас. Он стреляет во все, что движется, и в перерывах между выстрелами мы слышим рокот его двигателя.
Есть ли у нас надежда на спасение? В отчаянии возношу небесам страстную молитву и замечаю, что остальные наши солдаты пытаются найти хоть какое-то укрытие. Неужели танк промахнется и на этот раз? Повезет ли нам снова? Или нет?
Бросаю последний взгляд на танк, от которого нас теперь отделяет расстояние в 30 метров, и внезапно чувствую себя так, будто из ада вознесся прямо в рай. Мой страх куда-то исчезает, и в моей крови начинает закипать возбуждение. Забываю обо всем, что происходит вокруг. Вижу лишь трактор, тянущий вверх по склону холма противотанковое орудие. Не успевает он остановиться, как с него спрыгивают на землю три человека. Они быстро отцепляют орудие и готовят его к бою. Орудийный наводчик нацеливается на танк. Только в это мгновение «тридцатьчетверка» замечает противотанковое орудие. Их отделяет друг от друга расстояние в сто метров.
Башенное орудие танка поворачивается в поисках цели. Кто выстрелит первым? Наверное, противотанковое орудие. Попадет ли оно в танк? Исход поединка определит именно первый выстрел. Зову спрятавшихся в блиндаже товарищей. Слышу грохот выстрела. Взрыв сопровождается яркой вспышкой света. Кажется, будто сверкнула молния. Снаряд попадает прямо в башню «Т-34». Через несколько секунд гремит второй выстрел. После него башня немного поднимается и склоняется набок.
– Ура! – раздается из наших охрипших глоток, обрадованных волшебным исходом отчаянного поединка. Напряжение последних часов куда-то уходит. Спасены! Нас спасли в самую последнюю секунду. Эти замечательные парни, стоящие у противотанкового орудия, с первого выстрела победили противника в смертельной дуэли. Они отвели от нас руку смерти. Мне хочется обнять их, отблагодарить за только что совершенный подвиг.
Из блиндажа Деринга пулей вылетают два красноармейца. Охваченные восторгом, мы не заметили их. Они опрометью бросаются туда, откуда совсем недавно прибежали. Никто не стреляет им вслед. Возникает нечто вроде временного прекращения огня с обеих сторон. Мы не можем больше находиться в траншее и вылезаем из нее. Из окопов и блиндажей выползают остальные наши товарищи – грязные, бледные, но радостные оттого, что им посчастливилось остаться в живых. Позднее нам становится известно, что сегодня помимо раненых у нас восемь убитых. Некоторые из них, видимо, погребены заживо под обломками раздавленного танком блиндажа.
К нашему великому сожалению, среди погибших унтер-офицер Деринг и двое его солдат. Вариас и Зейдель живы. Кюппера, получившего ранения в голову и плечо, отвезли в деревню вместе с другими ранеными. Мейнхард лишился своего пулемета – не успел захватить с собой, и его раздавил советский танк.
Солдаты из расчета противотанкового орудия сейчас находятся в траншее, и мы с Вейхертом отправляемся к ним, чтобы поблагодарить за наше чудесное спасение. Земля между нашими позициям и холмом вся перепахана танковыми гусеницами и смешана со снегом. В воздухе висит какой-то особый запах. Он исходит от останков растерзанной человеческой плоти, разбросанной по полю боя. Я чувствую, что уже привык к виду мертвых тел, однако этот запах все еще в новинку для меня.
Здесь лежат не только мертвые тела, здесь также повсюду разбросаны куски человеческой плоти – оторванные руки, ноги, головы. Это останки тех, кто совсем недавно был расчетом 88-мм орудия, которых разорвало в клочья прямым попаданием вражеского снаряда.
Мы продолжаем благодарить наших спасителей – трех артиллеристов. На груди их командира – унтер-офицера – мы видим Железный крест 1-го класса и серебряный значок за ранение. Это говорит о том, что за плечами у него богатый военный опыт. В наших глазах он настоящий герой, и если бы у него не было Железного креста 1-го класса, то ему обязательно дали бы его за сегодняшний бой. У артиллеристов грязные, потные, небритые лица. Унтер-офицер кажется мне знакомым – где же я мог видеть его? Я подхожу ближе и, наконец, узнаю его.
– Гейнц! Гейнц Рюман! – громко кричу я.
Унтер-офицер тоже узнает меня. Обрадованные и удивленные неожиданной встречей в богом забытом местечке за пределами Сталинградского котла, мы бросаемся в объятия друг к другу. Рюман спрашивает меня о том, каким образом и когда я очутился здесь.
Я отвечаю на его вопросы и говорю о том, как тесен мир. На огромных просторах России, где в данный момент находится миллион немецких солдат, я случайно встречаю Гейнца Рюмана, младшего сына директора средней школы из моего родного городка. Самое главное, что именно он спасает меня и моих товарищей от смертельной опасности в последнюю секунду, когда наши жизни висели буквально на волоске.
Восемь дней назад Гейнц прибыл из Нижне-Чирской на Донской плацдарм, возникший на южном берегу реки. Вчера он и его солдаты получили приказ поддержать нас своим противотанковым орудием при отражении атак вражеской бронетехники. От Гейнца я узнаю о том, что впервые за последнее время наши войска силами нескольких частей сформировали два плацдарма на южном берегу Дона. Наше подразделение является так называемым буферным формированием – иными словами, мы что-то вроде боевого отряда самоубийц. Когда я спрашиваю о других трех танках, он отвечает, что один из них подорвался на мине на въезде в деревню. Второй они подбили возле железнодорожного полотна. А третий, ворвавшийся в деревню с северо-востока, уничтожен нашим последним танком, обездвиженным из-за поломки гусеницы. Нам очень хочется поделиться последними известиями из дома, но на это совершенно нет времени – Гейнц получил приказ возвращаться на свои позиции в деревне. Уходя, он кричит мне, что обязательно найдет меня, и мы при первой же возможности пообщаемся и вспомним старые времена.
К сожалению, этого так никогда и не произошло – я больше не видел Гейнца Рюмана. Мне не удалось узнать, погиб ли он 13 декабря, защищая деревню, или был в числе тех немногих, кто остался на той стороне Дона и попал в плен в боях за Дон и Чир. Более того, его родители, с которыми я встретился во время отпуска, когда приехал домой, и которым рассказал о нашей удивительной встрече в заснеженных степях России, так и не узнали, что же случилось с их сыном. Командиром оставшихся в живых четырнадцати человек на нашем участке передовой становится Мейнхард. Он старше нас по званию – обер-ефрейтор. Перед выходом в караул сплю как убитый. Когда Вариас будит меня, энергично вскакиваю, как животное, которое только что выпустили из клетки на долгожданную свободу. Я все еще полусонный, но приступаю к караульной службе, как надо. Вспоминаю, каким пришел к нам Мейнхард, вернувшись из Сталинграда. Тогда, находясь в районе Бузиновки, мы были полны желания победить. С каким нетерпением мы ожидали возможности поскорее оказаться на фронте. Теперь, после трех недель боев, уже никто из нас больше не говорит о героизме или готовности к подвигам. Напротив, теперь наше самое заветное желание – поскорее вырваться живыми из этой смертельной западни. Это не та война, которую мы представляли себе и о которой так часто разговаривали. Став солдатом и понюхав пороху, ты понимаешь, что война неразрывно связана со смертью. Говорить о войне, не зная ее, все равно, что рассуждать о пожаре, не побыв в горящем доме. Мы изведали, что такое пожар, и знаем, что такое жаркий огонь и что такое терять боевых товарищей.
12 декабря. Когда рано утром Вильке сменяет меня в карауле, на горизонте, на востоке, появляется полоска бледно-красного света.
– День будет солнечный, – говорит Вильке, и я соглашаюсь с ним.
Находясь в карауле, я сильно замерз и поэтому с радостью возвращаюсь в блиндаж, где не только тепло, но даже жарко. Свина сидит, прислонившись спиной к стене, и жует кусок хлеба. Громмель тоже не спит. Он подогрел к моему приходу кофе, который оставил для меня. Кроме кофе, мы получили по ложке мармелада и куску хлеба.
Громмель – славный товарищ, но я не до конца уверен, что хорошо понимаю его. Неужели он действительно не может стрелять во врага? Почему? Трусость? Вряд ли, он не трус и во время контратак ведет себя храбро. Но почему вчера он оставил свою винтовку на предохранителе, когда Вейхерт захотел воспользоваться ею? Но в то же время он помог мне, подав новый ствол для пулемета.
Вижу в небе немецкий разведывательный самолет, летящий в направлении Сталинграда. Он натыкается на белое облачко огня зенитных орудий. Вскоре его сбивают, и он падает, оставляя в небе черный дымный след. Еще один самолет пролетает низко над землей и сбрасывает возле деревни ящики с продовольствием и боеприпасами. Сегодня вечером мы, наверное, снова сможем поужинать галетами.
Если не считать длившегося целый час артиллерийского обстрела, день можно назвать спокойным. Громмель, который ведет счет дням недели, напоминает, что сегодня суббота. Но какая разница, что за день сегодня? Сегодня почти что праздник – стрельба длилась всего один час. Какими мы все-таки стали нетребовательными. Стреляли меньше обычного, и день кажется мирным, едва ли не праздничным. Но что будет завтра? Каким выдастся новый день? Очень хочется, чтобы таким же хорошим и спокойным! Желания подобны мечте – в действительности они тают так же быстро, как весенний снег под солнцем. Возможно, завтра будет так, как сегодня, и останется надежда и невысказанные вопросы. Что случится с нами? Кому суждено быть в живых, и кто будет лежать бездыханный на холодной русской земле? Свидетелями чьей смерти мы станем? Кого из товарищей будем оплакивать?
Хорошо, что человек не может точно знать свое будущее. К тем, кто убит, смерть пришла внезапно и, конечно же, преждевременно. Хочется надеяться, что когда придет смертный час, все произойдет быстро и легко. Я не раз видел на передовой раненых врагов и слышал их предсмертные крики. Теперь я часто просыпаюсь по ночам от ощущения, что явственно слышу их стоны и мольбу о помощи. Да избавит нас господь от такой ужасной участи.
13 декабря. Я плохо спал этой ночью. Когда Громмель подходит, чтобы разбудить меня, я уже не сплю. У меня неважное настроение, причины которого не ясны мне самому. В желудке неприятное ощущение, как будто в нем оказался целый муравейник. С радостью выхожу на утренний холодный воздух.
Встречаю Вариаса, который находится в карауле. Он сообщает, что ходят слухи о том, что танки генерал-полковника Гота приближаются к Сталинграду и скоро прорвут кольцо блокады. Правда это или досужие вымыслы? Может быть, действительно вермахту удастся спасти своих солдат, оказавшихся во вражеском окружении? Но каким образом это скажется на нас, находящихся на подступах к городу на Волге? На эти и подобные вопросы сейчас, похоже, нет ответов.
Ветер доносит какой-то незнакомый шум. Что-то вроде гудения труб на разной высоте звука, долетающего с разных расстояний. Спустя какое-то время слышим рокот моторов – это противник движется к нам со стороны Чира. Трубные звуки не знакомы нам. Встречаю Мейнхарда, он говорит, что заметил свет фар, который время от времени мелькает вдали.
– Похоже, что враг накапливает там силы, – как будто размышляя вслух, говорит он. – Иваны явно что-то затевают. Вот только бы знать, что!
Воздух вокруг нас буквально насыщается электричеством. На нашем участке передовой уже почти никто не спит. Солдаты вылезают из блиндажей в траншею и нервно прохаживаются туда-сюда. Взгляды устремлены вперед, туда, где находится враг, но пока что еще очень темно и ничего не видно. В пять утра иду будить Вейхерта. Он уже на ногах и выглядывает из блиндажа в сторону Чира. Неприятное ощущение в моем желудке делается еще сильнее. Вспоминаю, что подобное беспокойное чувство я испытывал дома, чаще всего перед началом важных спортивных соревнований. Однако здесь оно обостряется во много раз. Это – сконцентрированное возбуждение, вызванное осознанием того, что скоро произойдут какие-то грозные события, но какие точно, я не знаю.
Сложная, напряженная ситуация! Приходится ждать наступления хмурого серого утра. Громмель единственный, кто все еще остается в блиндаже. Захожу внутрь, чтобы подогреть на печке оставшийся в моей кружке кофе. Громмель спит, но дыхание у него неравномерное. Он лежит, отвернувшись лицом к стене. Его тело время от времени подергивается. Именно в то мгновение, когда я собираюсь перелить горячий кофе из котелка в кружку, он вдруг вскакивает и, полусонный, с криком устремляется к выходу. Я от удивления роняю кружку и успеваю схватить его за рукав. Он вырывает руку и дико кричит:
– Свина! Свина! Я иду! Помогите ему! Помогите! Хватаю его за талию и крепко держу. Вижу, что он приходит в себя и успокаивается.
Вейхерт подходит к нам и спрашивает, понизив голос:
– В чем дело, дружище? Приснился плохой сон? Ты же знаешь, что Свина – в блиндаже Мейнхарда.
После этого он выходит наружу на холодный морозный воздух. На востоке появляется узкая полоска света, возвещающая о наступлении нового дня. Громмель еще не совсем отошел от сна и судорожно пытается объяснить свое поведение, но его слова неожиданно тонут в сумасшедшем грохоте, обрушивающемся на нас со всех сторон.
Грохочет так сильно, что нам кажется, будто содрогается земля, разбуженная какими-то адскими силами. Прежде чем метнуться обратно в блиндаж, мы видим, как стоявший в карауле Вильке падает на землю прямо перед нами. Мы молча смотрим друг на друга. У всех встревоженные, белые от волнения лица. Никто не произносит ни слова. Страх написан на каждой клеточке наших физиономий. Наши глаза лихорадочно поблескивают. Да ведь это настоящий ад! С неба на нас падает огонь и раскаленный металл. От этого смертоносного дождя нигде нет спасения. Если бы не знали, что этот разрушительный обстрел ведут войска противника, то вполне могли бы поверить в то, что сегодня, 13 декабря, наступил конец света.
Я больше не могу оставаться в блиндаже, хочу увидеть, что за ужасная сила угрожает нашей безопасности. Когда я немного приподнимаю голову над бруствером, то чувствую, как меня парализует страх. Поверхность земли дрожит и как будто подскакивает в каком-то безумном танце смерти. Кажется, что не осталось ни одного квадратного сантиметра спокойной поверхности. Вверх взлетают фонтанчики из комьев земли, снега и раскаленных металлических осколков. Ими усеяно все окружающее пространство. Выйти из блиндажа и сделать вперед пару шагов представляется абсолютно невозможным. Два шага – и верная смерть. Оглушительный грохот, свист снарядов, крики наполняют воздух. Разговаривать бесполезно, все равно ничего не разобрать. В земле, насыпанной в несколько слоев на крышу нашего блиндажа, масса воронок, оставленных минами и ракетами «сталинских органов». Однако сама крыша, укрепленная нами пару дней, еще цела.
Примерно через полчаса адский грохот ослабевает, но эти полчаса нам всем кажутся вечностью. Траншеи почти полностью завалены землей и снегом. Просто чудо, что мы остались живы. Что же все-таки замыслил противник? Мы знаем, что такой обстрел обычно предшествует наступлению, однако враг по-прежнему скрывается в густой завесе тумана.
Неожиданно кто-то зовет меня по имени. Это Вариас. Он движется к нам перебежками в коротких паузах между разрывами мин и почти падает перед нами. Он так запыхался, что какое-то время не может говорить. Его лицо покрыто потом и грязью, но мы видим, что оно бело как мел.
– Блиндаж Деринга разбит! – наконец произносит он. – Мейнхард, Свина и остальные убиты! Парень, стоявший у входа, лишь слегка ранен, и я уже перевязал его. Но Зейдель и два других тоже ранены. Мне нужны еще бинты!
Вейхерт сует ему в руку две пачки бинтов, и он бегом возвращается обратно, двигаясь зигзагом, чтобы избежать смертоносных взрывов.
Мы подавлены известием о смерти Мейнхарда и Свины. По моему лицу текут слезы, вызванные не только ядовитыми пороховыми газами. Меня цепко охватывает страх, горло конвульсивно сжимается. Мне кажется, будто меня душит незримая рука. Слежу взглядом за Вариасом и вижу, как он живым и невредимым запрыгивает в окоп.
– Танки! Танки идут! – неожиданно истерически кричит Вильке. – Их много, очень много!
Его последние слова тонут в грохоте взрывов снарядов, которые обрушивают на нас танки.
Теперь я тоже вижу их! Сначала мне кажется, будто на нас накатывает вал огня, затем целая орда коричневых жучков начинает двигаться по заснеженной степи. Танковая атака! Вейхерт торопливо считает их и на пятидесяти сбивается. Да, их, конечно, больше пятидесяти! Значит, вот что готовили русские – колоссальное танковое наступление на наш заброшенный, плохо вооруженный аванпост, который до этого долго и упорно сдерживал натиск Красной Армии, неся огромные потери!
Изрыгая смертоносные залпы, «тридцатьчетверки» двигаются вдоль железнодорожного полотна в направлении деревни. Минут через пятнадцать они доберутся до нее и оттуда смогут зайти нам в тыл и взять в клещи. Мы понимаем, что времени у нас уже не остается, но вместе с тем чувствуем, что долгим минутам страха наступает конец и жуткий финал уже совсем близок. Вопрос заключается лишь в том, есть ли у нас шанс избежать этой судьбы?
Мы стоим возле блиндажа и смотрим на приближающиеся танки и на спасительный холм, за которым можно спрятаться от этой орды металлических чудовищ. Несколько наших солдат из дальних окопов выбираются наружу и бегут к холму. Они хотят достичь деревни прежде, чем там окажутся танки, и надеются по льду перебраться на ту сторону Дона. Саперы также спешно покидают свои позиции и устремляются к деревне. Все больше и больше людей следуют их примеру. Они бегут под смертоносным дождем пуль и осколков. Земля усеяна оружием, шинелями, снаряжением и прочим. Все это люди сбрасывают с себя, чтобы было легче бежать. Многие спотыкаются и падают и остаются лежать на земле. Другим удается снова встать на ноги и продолжить путь. Что же делать нам?
Вильке и Громмель, как безумные, выскакивают из блиндажа. Ко мне приближается Вейхерт, готовый в каждую минуту бежать. Он явно еще не решил, что ему делать. Вейхерт показывает на двух солдат, мчащихся к холму. Узнаю Вариаса и Зейделя, у последнего голова обмотана бинтом. Зейдель падает, вскакивает и бежит дальше. Вильке знаками возбужденно показывает нам, что первые вражеские танки уже достигли деревни. Что же мы будем делать? Тоже побежим? Мы находимся дальше других от холма. Если нам посчастливится добежать до него, то что может ждать нас там?
Совершенно очевидно, что в блиндаже оставаться нельзя, – это означает верную гибель или плен. Смерть предпочтительнее. Попасть в плен к русским? Нет, этого я не переживу.
– Они уже все убежали! – восклицает Вильке.
– Нет, еще не все. Вон там еще осталось несколько человек! – поправляет его Вейхерт.
Но Вильке уже его не слышит – он устремляется прочь. Вижу, как он сбрасывает тяжелую шинель. Я помогаю Вейхерту и Громмелю выбраться из окопа. Они уже скинули с себя все ненужное и со всех ног бросаются вперед. Теперь моя очередь. Неужели я последний? Нет, неподалеку вижу еще пару солдат, которые тоже, видимо, не знают, как поступить. Чего же они мешкают? Есть лишь две возможности – остаться или убежать. И то, и другое одинаково опасно – дожидаться в блиндаже прихода русских или мчаться вперед под выстрелами танков.
Что же я за образцовый солдат такой! Вместо того чтобы освободиться от лишнего груза, я непременно хочу захватить с собой все военное снаряжение. Уже на бегу я осознаю, что оно сильно снижает мою скорость. Сбрасываю шинель и ослабляю поясной ремень. Бросаю все на землю, и у меня остается лишь пистолет, который я крепко сжимаю в руке. Перепрыгиваю через воронки, спотыкаюсь о разбросанные повсюду вещи, брошенные другими солдатами. Вокруг меня рвутся гранаты и снаряды. Понимаю, что бегу наперегонки со смертью. Для многих моих товарищей этот марафон закончен навсегда. Они лежат на земле, замолкнув навсегда, или жалобно стонут. Кто-то зовет о помощи. Чем я могу помочь этим несчастным? Я в любую секунду рискую бездыханным рухнуть на землю рядом с ними. Страх смерти или тяжкого увечья затмевает все остальные мысли, я думаю лишь о единственной возможности спасти свою жизнь. Добежав до гребня холма и скрывшись за ним, кашляя и обливаясь потом, я надолго теряю из вида моих товарищей. Спотыкаюсь о чье-то мертвое тело и падаю на снег, на еще почти девственно белый его участок. Тот, о кого я споткнулся, мне знаком, это унтер-офицер Шварц. Любитель добивать раненых русских лежит в луже крови; судя по цвету его лица, умер он совсем недавно.
Вижу новую опасность, неожиданно возникающую передо мной. Несколько «тридцатьчетверок» повернули от деревни и блокируют путь нашим отступающим солдатам. Они преследуют нескольких человек, которые бегут изо всех сил, петляя как зайцы, в отчаянной попытке любой ценой спасти свою жизнь. Танки стреляют им вслед из пулеметов. Некоторые из бегущих падают, их безжалостно давят танковыми гусеницами. В моей голове мелькает мысль: я должен успеть! Со мной ничего не случится! Самое главное – поскорее оказаться в мертвой зоне, где меня недостанет снаряд или пулеметная очередь «Т-34». Тем не менее пули свищут над моей головой. Чувствую, как что-то ударяет в левую сторону груди. Неужели я ранен? Не похоже, я не чувствую слабости и продолжаю бег.
Неожиданно рядом со мной появляется Вильке. Он падает на колени и заходится в кашле.
– Черт! Не могу больше! Это ужасно!
Хватаю его за руку и пытаюсь поднять. Он делает пару шагов, и его ноги снова подкашиваются. Неужели он ранен? Я с ужасом смотрю на приближающийся советский танк. Собрав последние остатки сил, отскакиваю в сторону. Вильке не успевает последовать моему примеру. Танк наезжает на него, и предсмертный вопль несчастного заглушается оглушительным пушечным выстрелом. «Тридцатьчетверка» даже, пожалуй, не замечает, что переехала человека, и устраивает охоту за бегущими солдатами, расстреливая их из пулеметов. Меня уже больше ничто не сдерживает – я бегу во всю силу моих ног до тех пор, пока не чувствую, что мне не хватает дыхания. Добегаю до перил и переваливаюсь через них. Падаю на другую сторону на твердую, как камень, землю. Лежу несколько секунд. По лбу течет пот, попадая в глаза. Вытирая лоб тыльной стороной руки, замечаю на ней кровь. Это всего лишь ссадина от удара рукой о землю. Замечаю полуразрушенную хату. Надеюсь найти в ней хотя бы какое-то укрытие. Скорее туда! Сделав несколько быстрых шагов, забегаю внутрь.
Выбитая дверь лежит на полу. С опозданием замечаю, что за обломками стены прячется «Т-34». Башенный люк открыт. От грохота выстрела у меня безумно звенит в ушах. Мне кажется, будто я оглох. Из-за разваленной стены неожиданно появляется советский солдат, который застывает на месте. Мы с удивлением разглядываем другу друга. Он безоружен, у меня же в руках пистолет. Русский молод. Ему не хочется умирать, и он с тревогой смотрит на мое оружие. Если он бросится на меня, то я выстрелю. Однако он не двигается. Просто стоит, а затем медленно опускает руки. Я медленно пячусь назад, пока не упираюсь спиной в какое-то бревно. Затем разворачиваюсь и выскакиваю наружу. Бегу, петляя между каких-то кустов, к берегу реки. Здесь вижу группу наших солдат, которые, так же как и я, измучены долгим бегом. Немного переведя дыхание, они бросаются на засыпанный снегом лед. Под мощным пулеметным орудийным огнем вражеских танков, скопившихся во множестве на берегу, они пытаются переползти на ту сторону. Не желая попасть в плен к безжалостному врагу, они предпочитают подвергнуть себя риску и бегут по хрупкому льду. Я тоже решаю, образно выражаясь, как утопающий ухватиться за последнюю соломинку.
Лед слишком тонок для того, чтобы по нему могли переправиться танки, которые, остановившись на высоком берегу, бьют по нам прямой наводкой. Снаряды рвутся безостановочно. Люди справа и слева валятся на лед. Снег окрашивается кровью. Мертвые лежат кучами. Раненые стонут и зовут о помощи. Во многих местах лед трещит от взрывов, и вверх взлетают фонтаны речной воды. Мертвые тела соскальзывают в проруби, и холодная вода смыкается над ними. Бегу, спотыкаясь о раненых и убитых. Наконец, благополучно достигаю другого берега.
Таких, как я, не так уж много. Мы устремляемся к ближайшей березовой роще, но даже там не чувствуем себя в безопасности. Осколки снарядов срезают верхушки деревьев и дождем падают на землю. Многие из тех, кто уверовал в спасение, получают ранения.
В лесу множество блиндажей. Когда мы пробегаем мимо одного из них, какой-то унтер-офицер машет нам рукой. Забегаю внутрь и, отдышавшись, произношу молитву небесам: благодарю за дарованную мне победу над смертью.
Блиндажи находятся в превосходном состоянии. В них чисто и уютно, они профессионально сколочены из березовых бревен одинаковой длины. Их явно строили как долговременные сооружения. Но кто знает, сколько времени они простояли пустыми? Один из солдат уверяет, что их какое-то время занимала артиллерийская часть. По его словам, он своими глазами видел готовые артиллерийские позиции на берегах Дона.
Унтер-офицер предлагает мне сигарету. Лезу в левый нагрудный карман за зажигалкой и нащупываю кусок металла, деформированный пулей или осколком. Материя на груди порвана. Чувствую запах бензина, пропитавшего мундир. Вспоминаю об ударе в грудь, который я получил, мчась по склону холма. Зажигалка, которую в Сталинграде мне подарил штабс-ефрейтор Гралла, возможно, спасла мне жизнь. Интересно, что случилось с ним и остальными? Однако сейчас не время для воспоминаний, пора идти дальше. Какой-то солдат из числа тех, кто последним перешел Дон по льду, сообщает, что вражеская пехота с минометами скоро будет на этом берегу.
Нам их не остановить, у нас нет оружия. Унтер-офицер, давший мне закурить, где-то потерял свой автомат, а я единственный, у кого есть пистолет.
Он устремляется в лес, мы следуем за ним. Меня до сих пор не отпускает страх, охвативший все мое существо. Впереди начинают рваться мины, срезающие ветви деревьев и поливающие нас осколками. Сейчас нам здорово пригодились бы каски, но мы побросали их, потому что они мешали нам бежать.
Выйдя из леса, оказываемся в заснеженной степи. Ледяной ветер бросает нам в лица пригоршни колючего снега, наметает сугробы, которые растут прямо на глазах. Немного прихожу в себя. Пот на лице высыхает. Начинаю замерзать. То же самое происходит и с другими. Все поднимают воротники. Те, у кого сохранились пилотки, натягивают их ниже на уши.
Ищем укрытия от пронизывающего ветра в овраге, где натыкаемся еще на одну группу солдат из нашей части. Они выкопали несколько ям в снегу, чтобы укрыться от непогоды. В одной из них я, к своему великому удовольствию, нахожу моих друзей Вариаса и Громмеля. Оба благополучно перебрались по льду через Дон. Сейчас они отчаянно мерзнут. У Вариаса даже нет никакого головного убора. Громмель сидит рядом и дрожит от холода. Переохлаждение может оказаться смертельным, особенно если ты изнурен постоянным голодом. Нигде не видно ни дома, ни сарая, в котором можно было бы найти убежище от ледяного ветра и мороза. Поэтому нужно не сидеть в снегу, а идти вперед и искать своих. Но где сейчас наши товарищи? Неужели ушли так далеко на юг, что нам уже никак не догнать их? Идти навстречу ветру не особенно приятно, однако движение все-таки помогает немного согреться.
Раненые не могут идти дальше. Забираемся в ближайший овраг и выкапываем ямы в снегу. Но если сидеть в них слишком долго, то можно замерзнуть насмерть, поэтому силой заставляю себя время от времени вставать и бегать, чтобы согреться.
14 декабря. Рано утром нас выгоняет из оврага мощный артобстрел противника – нас заметили и решили выкурить из укрытия минометами. Бросаемся врассыпную. Лица сечет снежная крупа, тающая на наших небритых щеках и тут же превращающаяся в ледяные сосульки. Перегруппировываемся и слышим, что стрельба раздается справа от нас. Неожиданно натыкаемся на отряд немецких солдат. Они кричат, что их преследуют русские. Присоединяемся к ним и бежим вместе. У себя за спиной слышим пулеметные очереди и винтовочные выстрелы. Какой-то солдат оборачивается и кричит как безумный. Он держит винтовку перед собой и стреляет во врага, но, сделав пару шагов, падает в снег, сраженный неприятельской пулей. Еще один проиграл в этой битве.
Бежим дальше. Перестрелка у нас за спиной усиливается. До нас доносятся победные крики красноармейцев. Их громкое «ура» звучит уже совсем рядом, заставляя нас ускорить бег. Неожиданно пред нами возникают три немецких самоходки: Они ждут, когда мы пробежим мимо них, и только после этого открывают огонь по наступающему неприятелю. Крики и стрельба позади нас на какое-то короткое время затихают. Самоходки медленно продвигаются вперед и ведут огонь с максимальной скоростью. Мы неожиданно оказываемся в самой гуще контрнаступления, призванного отбросить противника назад. Удастся ли нам одержать победу?
После контрнаступления мы присоединяемся к этой боевой группе и возвращаемся вместе с ней на место, откуда она начала атаку. Ее командир, лейтенант, решает включить нас – примерно тридцать человек – в состав своего подразделения. Его подчиненные занимают территорию ближайшего колхоза и расположились в нескольких сельскохозяйственных постройках. Несмотря на то, что мы впервые за два последние дня получаем еду, я все равно отвратительно себя чувствую. Неужели мне так плохо из-за того, что я трус и боюсь смерти? Но что еще можно ожидать от солдата, который только что вырвался из настоящего ада и которому хочется только покоя? Точно так же, как и я, видимо, чувствуют себя и другие солдаты. Нужно ли считать гибель боевых товарищей неизбежностью и быть готовым воевать дальше? Конечно, я снова пойду в бой, если мы начнем новое наступление и у нас будет шанс одержать победу над противником. Но пока что мы еще не отошли от событий последних часов, и страх еще не до конца отпустил нас. Разве это трусость, когда у тебя в руках нет оружия и тебе нечем защитить себя?
Толпа, к которой мы, трое, присоединились, не сделала ничего – бог свидетель – для того, чтобы упрочить наш боевой дух. Это такие же отбившиеся от своих частей солдаты вроде тех, что наткнулись на нас возле Рычова, однако их боевой дух настолько низок, что нам почти постоянно приходится выслушивать их бесконечные разговоры о том, как им удалось вырваться из кровавой бани, устроенной советскими войсками. До нас также дошли слухи о том, как командирам приходилось силой, под угрозой оружия, заставлять их повиноваться приказам. Они разбегались сразу, как только слышали приближение противника, еще даже не видя его. Имели место и случаи так называемых «самострелов». Делается это так – люди стреляют в себя, допустим, в руку или ногу, через буханку хлеба, чтобы не оставалось следов порохового ожога. Когда об этом узнавало начальство, виновных подвергали суду трибунала, который обычно заканчивался расстрелом.
Одного обер-ефрейтора тоже отправят в трибунал, потому что его подозревают в том, что намеренно отморозил себе ноги. Прежде чем его принесли в медпункт, он сказал, что после наступления противника спасся лишь потому, что притворился мертвым. Чтобы враг не обнаружил его, он провел целую ночь в сугробе. Когда на следующее утро его нашла другая наша боевая группа во время контрнаступления, его ноги превратились в две ледышки. Ему здорово повезло, что в этой группе его никто не знал.
В новой части нам дали по винтовке с запасом патронов. Кроме того, я получил уже кем-то надеванный и когда-то белый маскировочный халат. Касок мы больше не носим. Несколько домов, в которых мы разместились, забиты до предела. Наш взвод отвели в полуразрушенный сарай, внутри которого свободно гуляет ветер. Мы кое-как забили пробоины в стенах. Спать можно лишь на охапках гнилого сена. Место неуютное, но это лучше, чем ночевать в открытой степи на ледяном ветру. Утром нам выдают горячую жидкость, которую пытаются выдать за кофе. Радуемся и этому.
15 декабря. Мое настроение почти на нуле. Мы узнаем, что нас покинула группа солдат, уехавших куда-то на грузовике. Остаемся с тремя самоходками и двумя грузовыми машинами. Говорят, что уехавшие были так называемыми «штрафниками», наказанными за какие-то служебные провинности. Как все-таки быстро распространяются слухи!
Покидаем наше временное пристанище. Постоянно двигаемся вперед, в направлении фронта. Без конца идет снег, образовываются огромные сугробы. Видимость очень плохая. Впереди сплошная белая пелена. Где же передовая? Где наши позиции? Даже если они и на самом деле существуют, то наверняка занесены снегом. Мы давно уже миновали последний населенный пункт, и дома остались далеко позади. Впереди только просторы занесенных снегом русских степей. Наш фельдфебель чувствует себя неуютно в этой снежной пустыне. Он решает сделать привал возле широкого оврага. Неожиданно слышатся винтовочные выстрелы. Из летящего взвихренного снега появляются несколько Фигур, мчащихся со всех ног к оврагу. Это немецкие солдаты, убегающие от противника. Они сообщают, что заблудились еще вчера. Лишь по счастливой случайности им удалось скрыться от красноармейцев, которые, по их словам, здесь кишмя кишат. Боевая группа, в состав которой входят эти солдаты, размещалась на берегу реки Чир и вчера была вынуждена отступить под натиском советских танков и пехоты. Те, кто остался в живых, оставили позиции и сейчас бродят где-то в степи. В последней перестрелке одного солдата убили – он не мог бежать, потому что минувшей ночью отморозил ноги. Красноармейцы находятся где-то впереди и скоро начнут минометный обстрел.
Фельдфебель пребывает в нерешительности. Он посылает связного туда, где остались самоходки, с приказом выдвигаться в нашем направлении. Как только они подтянутся сюда, мы атакуем русских минометчиков. Будем ждать и, чтобы как-то спастись от холода, выроем ямы в снегу. Пока что нам тепло, но скоро ветер усиливается, и мы чувствуем, что он пробирает нас до костей. Начинаем дрожать от холода. Вариас похлопывает себя по плечам и лодыжкам. Его шинель слишком коротка и плохо греет. На ногах разрезанные ножом валенки, снятые с убитого солдата. У Громмеля на ногах такие же чужие валенки. Мне кажется, что в своей тонкой шинели он отчаянно мерзнет, но, по его словам, под ней жилет из овчины, – наверняка сильно завшивленный, – который кто-то из наших солдат нашел в колхозном сарае и отдал ему из-за неподходящего размера. На голове у него русская меховая шапка, подаренная артиллеристом. Таким образом, Громмель похож на русского и кто-то уже приклеил ему прозвище Иван.
Камуфляжный наряд не греет меня. Я продрог до костей в этой чертовой стране, где когда-то нашла свою погибель наполеоновская армия. То, что я читал в учебнике истории о войне Наполеона с Россией, я теперь испытываю на себе. С содроганием думаю о том, каково оказаться раненым в этой снежной пустыне и истекать кровью до тех пор, пока не превратишься в ледышку. Почему же еще не прибыли самоходки? Мы терпеливо ждем, но оказывается, что ждали напрасно. Слишком поздно! Слышим разрывы мин и свист осколков. Мы уже давно привыкли к минометным обстрелам. Я даже решаю встать, чтобы размять затекшие ноги. Очередная мина взрывается недалеко от меня. Вижу, как в снегу с шипением остывают осколки. Какой-то солдат зовет о помощи. Неожиданно чувствую легкую боль под левой коленной чашечкой. Тот же голос снова зовет врача. В нашем отряде действительно есть санитар. Приблизившись к нам, он начинает перевязывать раненого, у которого осколком разворочено бедро и сильно идет кровь. На санитаре голубая форма полевой дивизии люфтваффе и погоны обер-ефрейтора. Он прибился к нашему отряду с тремя солдатами из своей ныне несуществующей дивизии.
После того, как медик окончательно перевязал раненого, я показываю ему свою рану. Прямо под коленной чашечкой появилась крошечная дырочка размером не больше горошины. Рана не болит, и я могу нормально двигать ногой, однако по моей голени стекает тоненькая струйка почти черной крови.
Медик накладывает кусок пластыря на рану.
– Извини, – негромко произносит он почти виноватым тоном и пожимает плечами.
Я понимаю, что он имеет в виду. Он пытается сказать, что, к сожалению, моя рана недостаточно серьезна, чтобы отправить меня в тыловой госпиталь. Я испытываю разочарование, поскольку лишаюсь последней надежды. Затем думаю о том, как быстро меняется у человека настроение. Всего несколько недель назад я мечтал о воинской славе и героизме, о подвигах, которые совершу на войне. Теперь же я мечтаю лишь о ранении, которое позволило бы мне хотя бы ненадолго вырваться из этого кошмара, из этой ужасной страны с ее жуткой зимой. Неужели я трус, если думаю таким образом? Но эту войну можно сравнить с отчаянной попыткой остановить горную лавину человеческими руками. Я сомневаюсь, что мы, горстка солдат, не имеющая тяжелого вооружения, сможем этой зимой сдержать наступление частей Красной Армии здесь, на Дону. Тот, кто сможет вырваться из этих мест благодаря ранению, может считать себя настоящим счастливчиком.
Но о том, чтобы попасть в число раненых, увозимых далеко в тыл, остается лишь мечтать. Да и когда может сбыться такая мечта? Пуля и осколок – вещи неприятные, и поэтому мечта о получении увечья, в сущности, противоестественна человеческой сути.
Ветер усиливается и наносит кучи снега в овраг. Снег липнет к лицу и тает. Когда я двигаю левой ногой, то ощущаю легкую боль, мне кажется, что рана под коленной чашечкой воспалилась.
Во второй половине дня прибывают наши самоходки. Поскольку им трудно передвигаться по снегу, решено, что они будут ждать наступления русских здесь. Красноармейцев плохая погода вряд ли остановит, для них это идеальные условия для атаки. Вскоре мы замечаем их приближение.
Самоходки используют противопехотные снаряды. Бьем наугад в снежную мглу. Снег по-прежнему идет прямо в лицо, сильно ухудшая видимость. Наша цель куда-то пропадает. Мы почти прекращаем ответный огонь.
– Это был всего лишь разведывательный отряд, – уверяет ефрейтор из числа приближенных фельдфебеля. Он добавляет, что противник вчера утром тоже предпринимал попытку атаковать нас. Неподалеку лежат убитые солдаты, уже сильно занесенные снегом.
На одном из флангов слышим стрельбу. Самоходки получают приказ вернуться на территорию колхоза. Как же будут дальше развиваться события? Остаемся в ямах, вырытых в снегу. Хочу встать, но понимаю, что не могу этого сделать: моя нога как будто одеревенела. Левое колено полностью отвердело и утратило чувствительность. Если начнется атака русских, то мне конец. Я не смогу идти, а не то что бежать. Зову медика. Он ощупывает мое колено, которое сильно опухло. Кожа натянулась и посинела.
– Кровоизлияние, – заявляет медик. – Внушительное внутреннее кровоизлияние, возникшее в результате того, что рана залеплена пластырем и кровь была вынуждена скапливаться. Ничего не могу сделать с этим, – вздыхает наш эскулап. – Ногу нужно поместить в гипс и дать ей полный покой. Но прежде чем врачи в Нижне-Чирской сделают это, нужно извлечь осколок, чтобы избежать заражения крови. Дело серьезное.
Нижне-Чирская?
– Но как мне добраться туда? – спрашиваю я, удивленный и довольный тем, что у меня появляется шанс выбраться отсюда.
– Не знаю, – разводит руками медик.
– Но я не могу идти! – заявляю я и чувствую, что мне становится нехорошо.
– Понимаю, – кивает медик. – У меня есть еще один раненый, обер-ефрейтор. Я хотел отправить его на самоходке, но там не было места, чтобы поставить носилки.
Черт побери! У меня появляется возможность выбраться отсюда, но я никак не могу этого сделать. Почему мне так не везет? Однако искорка надежды снова вспыхивает передо мной, когда медик возвращается и сообщает, что мы остаемся на ночлег в овраге, и что нам скоро привезут еду. Может быть, мне удастся добраться до колхоза на этой машине? Когда именно придет машина, он не знает. Придется ждать.
Что значит ждать? Как долго? Два или три часа? Это не важно, ведь теперь я точно знаю, что скоро я смогу выбраться из этого места. Но пока я еще здесь! И все равно мне не верилось, что я смогу покинуть этот овраг в заснеженной степи, где рискую замерзнуть насмерть. Если неожиданно нас атакует враг, то мне придется плохо. Остается молиться о том, чтобы этого не произошло.
Мои молитвы, должно быть, были услышаны, потому что грузовик с едой прибыл раньше, чем я предполагал. Водитель также привозит приказ всей нашей боевой группе – нам следует немедленно сниматься с места и отступать, потому что противник якобы уже приближается к колхозу. Нужно спешить. Вариас и Громмель подводят меня к машине. Трое товарищей подносят туда же раненого обер-ефрейтора. Мы лежим в кузове грузовика, прислонившись спиной к борту. Обер-ефрейтор мучается от сильной боли. Он стонет и прощается со своими товарищами.
Мысль о том, что Вариас и Громмель остаются здесь, несколько омрачает мою радость от мыслей о скорой отправке в тыл. Чувствую, как у меня в горле застревает комок, а на глаза навертываются слезы. У меня такое ощущение, будто я предаю своих товарищей. Мы трое были очень близки, как братья. Мы вместе побывали в самых невероятных передрягах и постоянно старались помогать друг другу. Когда мы прощаемся, я замечаю, что у Громмеля и Вариаса влажные глаза. Вариас пытается скрыть свое истинное настроение за напускной веселостью. Он громко говорит:
– Не забудь передать от меня привет той блондинке-кельнерше в «Тиволи». Скажи, что я скоро буду там и мы договоримся с ней о свидании.
Я заставляю себя рассмеяться и заверяю товарища, что обязательно выполню его просьбу. После этого грузовик трогается с места и скрывается в темноте.
Несмотря на то, что кузов закрыт брезентом, ветер дует со всех сторон. Холодно. Замерзаю. Грузовик едет по следам, оставленным нашими самоходками. Иногда машина наезжает на ухаб и нас сильно трясет. Обер-ефрейтор громко стонет, похоже, что ему очень больно. Медики ничем не смогли помочь ему, только перевязали рану. Он шарит в карманах, достает сигареты и угощает меня.
Я благодарен ему потому, что у меня в кисете осталась лишь жалкая щепотка махорки. Мы молча курим. Неожиданно грузовик делает резкий поворот. От толчка испытываю боль в колене. Раненый обер-ефрейтор стонет и говорит:
– Черт побери! Сначала ждешь ранения, которое позволит попасть в тыл, а потом все меняется! Ты даже не можешь толком порадоваться этому, потому что выходит так, будто ты предаешь своих боевых товарищей! Разве кому-нибудь из них удастся снова побывать дома?
Я думаю о том, что он – к счастью – не может видеть в темноте мое лицо и не способен ощутить ту горечь, которую я испытываю.
Когда мы подъезжаем к колхозным строениям, я ощущаю атмосферу, типичную для большого скопления людей в полевых условиях. Здесь ждали прибытия нашего грузовика. С запада слышен непрекращающийся гул танковых орудий. Какой-то офицер отдает приказ забросить в кузов нашей машины какие-то тюки с обмундированием. Сюда же залезают унтер-офицер и пара солдат, которые усаживаются среди тюков. У одного из них на голове повязка. В темноте я не вижу его лица, но голос кажется мне знакомым.
– Курт Зейдель! – радостно восклицаю я.
Да, это он! Нам нужно многое рассказать друг другу, в том числе и о смертельно опасной переправке через Дон, и том, что произошло с нами после этого. Я узнаю от него, что им пришлось слишком долго ждать на берегу реки. Они бросились на другую сторону, и русские следовали за ними буквально по пятам. Затем в дело вступили танки. Зейделю вместе с тремя товарищами удалось спастись. Затем они наткнулись на группу таких же, как он, отбившихся от своей части солдат. К более крупной боевой группе они примкнули только сегодня.
Я показываю на повязку у него на голове. Зейдель объясняет, что это пустяковое ранение, все уже почти зажило. Он потерял пилотку и обмотал голову бинтами, чтобы было теплее. Ему не повезло обзавестись ранением, благодаря которому его отправили бы в тыл.
Мы давно не виделись с Зейделем. Когда меня и еще нескольких раненых грузят в машину скорой медицинской помощи, на которой нас отвезут в Нижне-Чирскую, он вместе с другими выпрыгивает из грузовика на землю. Позднее, уже когда я окажусь в роте для выздоравливающих, мне станет известно, что его убили.
«Скорая помощь» подъезжает к какому-то массивному строению. Легко раненные вылезают сами. Меня и еще двух человек выносят на носилках. В помещении пахнет эфиром и карболкой. Повсюду лежат раненые, некоторые громко стонут. Снаружи доносятся звуки отдаваемых приказов, где-то рядом рокочут двигатели тракторов и танков. Слышу также далекие разрывы артиллерийских орудий.
Меня больше ничто не беспокоит, потому что я нахожусь в безопасности. Впрочем, действительно ли здесь безопасно? Какой-то солдат рассказывает мне, что его ранило неподалеку отсюда всего пару часов назад. По его словам, русские непрестанно атакуют наши позиции, и мы не сможем долго сдерживать их натиск. Несмотря ни на что, я молниеносно засыпаю и сплю как убитый. Непривычное тепло в помещении и осознание того, что мне не надо ночью никуда уходить, вызывает во мне чувство невыразимого удовлетворения.
16 декабря. Когда два санитара укладывают меня на носилки, я сонно приподнимаюсь и тут же со стоном падаю на спину. Впервые чувствую действительно острую боль в колене. Меня приносят в хорошо освещенную комнату. Какой-то санитар выносит окровавленную плащ-палатку с ампутированными конечностями. Ко мне приближается человек в заляпанном пятнами крови прорезиненном фартуке. Сопровождающий его унтер обращается к нему по званию – «герр оберштабсарцт», то есть старший полковой врач. Он разрезает ножницами мою левую штанину вместе с подштанниками. Осматривает мое колено. Моя нога вся синяя от бедра до лодыжки и сильно опухла. Врач делает мне укол и дает указание своему ассистенту наложить мне на ногу шину и гипс.
– Мы не в состоянии сделать что-то еще, – говорит врач прежде, чем перейти к другому пациенту.
Санитар до конца разрезает мою штанину и делает все то, что сказал ему врач. Гипс быстро затвердевает. После того, как я получаю бирку с датой моего прибытия в госпиталь, которую вешают мне на грудь, меня переносят в отдельную комнату, где на койках лежат еще несколько раненых. От них узнаю, что тех, у кого состояние получше, перевезут в Морозовскую, где госпиталь больше этого. На следующий день меня снова грузят в машину «Скорой помощи».
Глава 6. ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ
17 декабря. Машине скорой помощи приходится сделать крюк по пути в Морозовскую. Стало известно, что на севере русские снова прорвали линию фронта, тот ее участок, который удерживали итальянцы. Отчетливо слышны выстрелы пушек. Меня это не особенно беспокоит, потому что в бой идти мне не придется. Если мне никто не помешает, то я снова буду спать – либо в машине, либо в самой Морозовской. Отсыпаюсь, компенсируя те часы сна, которые недобрал за последние недели. Поскольку моя нога в гипсе, то особый медицинский уход мне не требуется. Меня будят только тогда, когда приносят еду и приходит время принять таблетку…
18 декабря. Я уже перестал вести счет дням и поэтому не знаю, сколько дней провел в Морозовской. Неожиданно у меня подскакивает температура. Мне делают пару уколов, и я с трудом осознаю, что меня грузят в вагон санитарного поезда вместе с несколькими другими ранеными. Температура повышается, я оказываюсь в бредовом состоянии. Перед моим взглядом возникают нереальные, жуткие картины. Я плачу, чувствую озноб, с моих губ слетают стоны.
Наконец окружающее принимает нормальные привычные очертания, и я понимаю, что лежу на верхней двухъярусной полке санитарного поезда. Рядом со мной стоит молодая белокурая медсестра в шапочке с красным крестом и тихо напевает рождественскую песню. Раненые подпевают ей хриплыми голосами.
Ритмичное постукивание вагонных колес сменяется жестким угрожающим лязгом. Удары болезненно отдаются мне в голову. Закрываю глаза и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Морозные узоры начинают таять и превращаются в струйки воды.
К моему горячему виску прижимается чья-то прохладная рука, и нежный голос произносит несколько успокаивающих слов. Как будто через завесу тумана узнаю черты лица красивой медсестры. Она дает мне две таблетки и воду, чтобы запить их. Засыпаю в изнеможении. Сплю без всяких сновидений.
26 декабря. В послеобеденное время второго дня Рождества снова чувствую себя довольно сносно. У моего изголовья лежат все еще не развернутые рождественские подарки. Я удивлен их щедрым содержимым – это то, чего мы были лишены несколько месяцев, в том числе и немалый запас сигарет. Закуриваю и чувствую, что вкус табака вызывает у меня знакомые приятные ощущения. Это хороший признак того, что я снова возвращаюсь к жизни. Однако я не сразу понимаю, где нахожусь и что счастливо избежал смерти от заражения крови, опасность которого, по словам санитара из размещенного в колхозе медицинского пункта, мне грозила. Сосед с верхней полки на другой стороне прохода уже проснулся и приветствует меня дружелюбной фразой:
– Привет, восставший из мертвых! Рад, что с тобой, наконец, все в порядке, дружище!
Я улыбаюсь в ответ и вижу, что он осторожно держит на отлете, как крыло, правую руку. Такой способ жесткой повязки, как я выяснил, солдаты называют «штукой», потому что помещенная под углом к туловищу и закованная в гипс рука напоминает крыло пикирующего бомбардировщика «штука». Этот способ лечения применяется в случаях переломов, вызванных пулевым ранением. По всей видимости, у моего соседа именно такое ранение.
Он говорит, что вчера мы останавливались в Сталино, где выгрузили легкораненых. В поезде остались только солдаты с тяжелыми ранениями и высокой температурой. Однако опустевшие койки тут же заполнили новыми ранеными.
– Мы отправляемся на родину, – радостно добавляет он. – Через Краков и Силезию. Оттуда я быстро доберусь домой.
– А где твой дом? – спрашиваю я.
– В Мариенбаде, в Судетах, – с явной гордостью отвечает мой новый знакомый. Затем с той же нескрываемой гордостью рассказывает о своем родном городе, как будто это самое красивое место в мире. Рассказ такой яркий, что мне хочется когда-нибудь побывать в Мариенбаде. Я пока еще не знаю, что в конце войны судьба занесет меня в этот идиллический город-курорт. Разговор с моим случайным попутчиком впоследствии, несомненно, повлиял на то, что я оказался в тамошнем военном госпитале после моего шестого, и последнего, ранения.
– Где тебя ранило? – спрашиваю я.
– В Сталинграде, 10 декабря, – отвечает он, и я замечаю, как дергается его лицо. Слово «Сталинград» тяжело повисает в воздухе. Большинство раненых, едущих в поезде, было вывезено из этого города или, подобно мне, с берега Дона.
– Нам крайне повезло, что мы смогли вырваться оттуда. Там сейчас очень тяжело.
– Почему? – спросил я удивленно. Я вот уже несколько дней ничего не слышал о фронтовой обстановке.
– Потому что тем, кто застрял в «котле», ничего хорошего не светит, – произносит раненый, лежащий на нижней полке. – Их последняя надежда на помощь частей генерал-полковника Гота растаяла как дым.
В разговор вступают другие раненые. Они жалуются на высокое начальство. Один сердито заявляет, что желает всем начальникам отправиться в преисподнюю. Никто не возражает, потому что все понимают, что такое высказывание вполне оправданно. Все эти раненые побывали в Сталинградском «котле» и из личного опыта знают, что значит ждать и надеяться на обещания спасти их. В обещаниях они разуверились после того, как поняли, что 6-й армией пожертвовали ради высших стратегических интересов.
Им в числе немногих посчастливилось выбраться из Сталинграда. Их вывезли только благодаря полученным ими ранениям. Сейчас, по их словам, подобное просто невозможно. Солдат с обмотанной бинтами головой, лишившийся в боях одного глаза, зло высмеивает последнюю пафосную радиосводку о трагедии в Сталинграде, в которой разгром 6-й армии преподносится как пример беспримерного героизма немецкого солдата.
Далеко не все раненые морально сильны, многие из них не могут скрыть своих повседневных страхов. Парень, лежащий подо мной, относится именно к такой категории, потому что с той самой минуты, как я проснулся, он беспрестанно всхлипывает. Я из любопытства наклоняюсь, чтобы получше рассмотреть его. Левая рука и предплечье этого парня загипсованы на манер уже упоминавшейся «штуки». Его лицо мне незнакомо. Мне кажется, что его всхлипываниям не будет конца. Они, судя по всему, действуют на нервы всем, кто находится рядом с ним, особенно тем, кто по-настоящему серьезно ранен и кто никак не может уснуть из-за него.
Конец этому положил какой-то солдат, который резко одергивает хнычущего:
– Ради всего святого, прекрати хныкать! Ты сводишь всех с ума своими стонами!
Парень никак не реагирует на это. Напротив, он начинает стонать даже громче прежнего. К счастью, в Кракове мы, наконец, избавляемся от него. Беспокойного раненого уносят, и его место занимает другой человек.
28 декабря. После того, как на койках поменяли постельное белье, места стали занимать новые раненые. На следующий день прибываю на место назначения. Я высаживаюсь в Бад-Зальцбрунне, неподалеку от Хиршберга, что у подножия Ризенгебирге. Прощаюсь со своими новыми знакомыми, которые отправляются дальше.
29 декабря – 20 января 1943 года. После того, как мы проходим через санпропускник, нас размещают на чистых постелях недавно созданного военного госпиталя. Остальные дни моего пребывания здесь проходят так спокойно и без каких-либо примечательных событий, что об этом времени почти ничего не остается в моей памяти. Оно ускользает от взгляда так же, как перезрелый местный сыр, который нам подают через день.
Мои записи сведены к комментариям о главном враче с яйцевидной головой и выпученными лягушачьими глазами. Разрезав гипсовую повязку на моей ноге, он откровенно заявляет, что подозревает меня в пренебрежении к солдатскому долгу и симуляции ранения. Пучеглазый спрашивает, как мне удалось загипсовать ногу. Он долго осматривает мою искусанную вшами грязную ногу, затем приказывает встать и не изображать из себя раненого. Мнительный эскулап даже грозится, что напишет рапорт и отправит его в трибунал, и бормочет что-то о дезертирстве, трусости, отсутствии чести.
Впрочем, действительно очень странно, что даже я сам не могу найти следа ранения, лишь крошечный, не больше горошины шрамик, не отличимый от укуса вши.
Однако рентгеновский снимок в конечном итоге оправдывает меня. Я помню, с каким недоверчивым удивлением пучеглазый врач рассматривал на снимке осколок. Мне казалось, что его глаза сейчас выскочат из орбит. Но, разумеется, главный врач госпиталя ни за что не станет извиняться перед каким-то рядовым. Он бормочет о том, что всегда среди раненых оказываются такие, кто намеренно наносят себе увечья и думают, что подобные трюки помогут им избежать передовой. Позднее выясняется, что осколок, сидящий у меня в ноге, не вызывает у меня проблем, и поэтому я считаю его чем-то вроде моего спасителя. Благодаря этому крошечному кусочку металла мне удалось избежать ужасной судьбы.
Здесь, в госпитале, мы узнаем, что в Сталинград уже невозможно доставлять по воздуху продовольствие и боеприпасы или вывозить оттуда раненых. Таким образом, судьба 6-й армии предрешена. Мы просто не можем осознать тот факт, что физически нельзя было вывезти тех людей, которых Адольф Гитлер отправил удерживать «крепость Сталинград». Удастся ли когда-нибудь узнать, как и почему произошла эта величайшая в истории нашей страны катастрофа?
21 января. Меня выписывают из госпиталя и отправляют в роту для выздоравливающих, где я получаю отпуск. Наконец-то я смогу попасть домой! Это приятно, но я не чувствую себя до конца свободным и раскрепощенным, как раньше. Во мне что-то изменилось. Я уже никогда не смогу вытравить из памяти то, что недавно пережил в донских степях.
Когда я брожу по улицам родной деревни, на меня никто не обращает внимания. Впрочем, с какой стати меня должен кто-то узнавать? Сейчас повсюду можно увидеть солдат, большинство которых мне незнакомо. Да кто я такой? Обычный фронтовик с бронзовым значком за ранение, полученным за крошечный осколок, застрявший под коленной чашечкой.
Лишь несколько знакомых интересуются моими фронтовыми подвигами. Когда я рассказываю им о пережитом, они проявляют интерес, но, судя по всему, не верят мне. По сути дела, они не верят в правду, потому что мои слова противоречат официальным военным сводкам. Они верят в несгибаемую волю немецких солдат, их исключительный героизм и стойкость. Вы только посмотрите на героев Сталинграда – вот тому доказательство!
Самая главная проблема с отпуском состоит в том, что он пролетает незаметно. Мне уже настала пора возвращаться в лагерь в Инстербурге, в роту для выздоравливающих.
14 февраля. Только что прибыл в Инстербург. По пути в дежурку ощущаю расслабленную атмосферу, создаваемую компанией нескольких подвыпивших солдат. Они дружелюбно приветствуют меня, несмотря на то, что мы незнакомы. Здешний обер-ефрейтор, или «главный храпун», как его называют эти парни, похлопывает меня по плечу и предлагает угоститься шнапсом, от которого я отказываюсь.
Сделав на документах отметку о своем прибытии, выхожу из комнаты и случайно наталкиваюсь на массивный алюминиевый контейнер с кофе, который несет какой-то солдат. Горячая жидкость выплескивается на мою новенькую форму отпускника. Я сердито смотрю на влажное дымящееся пятно на штанах. Человек, несущий кофе, гневно кричит на меня:
– Куда идешь, остолоп! Ты что, слепой?!
Я, как громом пораженный, застываю на месте. Передо мной стоит вечно голодный Ганс Вейхерт. Моему удивлению нет предела. Я в последний раз видел его в Рычове и до сих пор считал его убитым или пропавшим без вести. Прежде чем успеваю что-либо сказать, он радостно хлопает меня по плечу.
– Добро пожаловать в страну живых! – восклицает он.
Я прекрасно помню, что 13 декабря Вейхерт был похож на скелет. Он тогда со всех ног мчался впереди меня, пытаясь скрыться от яростного огня советских танков.
Узнаю от него о том, что они с Вариасом все еще находятся в отпуске по ранению и их только что выписали из госпиталя. Вскоре появляется Вариас. Нам хочется поговорить о многом, но вокруг слишком шумно, и поэтому мы отправляемся в столовую и ищем там свободный столик.
Когда мы садимся, Вейхерт, как фокусник, извлекает из кармана бутылку восточнопрусского «Ловца медведей». Это неплохой напиток, сделанный из меда и спирта, что-то вроде ликера, который я предпочитаю обычному шнапсу.
– Знаешь, откуда это? – спрашивает он, показывая на бутылку и еле сдерживая довольную улыбку.
– Догадываюсь, что ты мне сам это скажешь через минуту.
– Я получил от блондинки-кельнерши из «Тиволи»! – расплывается мой товарищ в горделивой улыбке.
Я удивленно замолкаю, а затем отвечаю:
– Тогда, значит, мне не придется ей передавать привет от тебя. Выходит, ты не станешь угощать меня стаканчиком, как обещал?
– За кого ты меня принимаешь? Если Гельмут Вариас что-то обещал, то непременно свое слово сдержит! – заявляет Вариас и легонько стучит себя кулаком в грудь.
Разговариваем о том, что нам случилось пережить за последнее время. Я рассказываю о своем ранении и о случае с пучеглазым врачом из военного госпиталя. Затем Вейхерт живописует то, как переправлялся через Дон с двумя товарищами, как они заблудились во время метели, после чего наткнулись на отступающий отряд, состоящий из солдат вспомогательных служб дивизии люфтваффе. Позднее к ним прибились солдаты из других уничтоженных военных частей, и, когда их собралось изрядное количество, это новоявленное подразделение тут же отправили на передний край фронта. Его ранило где-то южнее Чира, это было в самом начале января.
– Сквозное ранение бедра с повреждением кости, – поясняет Вейхерт. – Выздоровление заняло довольно много времени из-за осложнений, рана гноилась.
Вариас рассказывает о том, что в середине января воевал в составе ударной группы, которая медленно отступала на юг, связывая действия противника. 17 января 1943 года его ранило под Константиновкой неподалеку от Дона. Осколок ручной гранаты ранил его в горло. Мы рассматриваем глубокий шрам под левым ухом.
– А что случилось с Громмелем и Зейделем? – спрашиваю я.
Вариас какое-то время воевал вместе с ними, но в конце декабря Зейделю оторвало ноги взрывом гранаты.
– Он умер у нас на глазах от потери крови, – понизив голос, отвечает Вариас и замолкает. Мы даем ему время успокоиться, но после того, как он выпивает еще два стаканчика «Ловца медведей», я спрашиваю его о Громмеле. Высказываю предположение, что он тоже погиб.
Вариас кивает и закрывает глаза.
– Когда и как это случилось?
– Через пару дней после того, как ранили тебя. Возле Нижне-Чирской.
Я мысленно представляю себе Громмеля с его бледным лицом и грустными глазами. Он не мог заставить себя стрелять в противника. Я помню, как он закрывал глаза, нажимая на гашетку пулемета. Почему он так поступал, я уже теперь никогда не узнаю.
Вариас, должно быть, читает мои мысли и кладет ладонь на мою руку.
– Да, я тоже об этом знал. Но за несколько часов до смерти он признался мне, что вера запрещала ему убивать людей. Перед богом все люди – братья, так он сказал мне.
– Но он не был трусом, он спас мне жизнь в бою, мне и моим товарищам, – продолжает Вариас. – Я никогда этого не забуду.
Это было во время боев западнее Нижне-Чирской, где за день до этого ему пришлось отражать вражеское наступление. Ночью погода изменилась и началась сильная метель. Мы поняли, что на нас наступают, только тогда, когда русские были уже совсем рядом. Слава богу, нас поддерживали несколько танков, они тут же открыли огонь по наступающим. Но некоторым красноармейцам удалось ворваться в наши траншеи, и один верзила как безумный поливал нас огнем из своего «Калашникова». Он неожиданно развернулся и навел на меня автомат. Я представил себе, как сейчас очередь прошьет меня насквозь. В следующее мгновение кто-то оказавшийся рядом со мной ударил красноармейца прикладом винтовки в грудь. Русский упал, выпустив очередь из автомата. Парень, который спас меня, был убит.
Мы успели пристрелить русского автоматчика, и поскольку бой продолжался, то заниматься убитым немецким солдатом было некогда. Из-за непрекращающейся метели мы так и не поняли, кто это был. Только после того как мы отразили вражескую атаку, стало ясно: спас меня наш Громмель. Его тело было буквально изрешечено пулями. Отступая, мы забрали с собой наших убитых. Затем похоронили их всех, в том числе и нашего товарища, в Нижне-Чирской.
Мы замолчали, оставшись каждый наедине со своими воспоминаниями. Перед моим взглядом возникли лица дорогих моему сердцу боевых товарищей, сложивших головы на берегах Дона. Смерть никого не разбирает, не смотрит на дружбу, не щадит чувств тех, кому посчастливилось выжить.
15 марта. Нахожусь в роте для выздоравливающих вот уже четыре недели. Отпуск Вейхерта и Вариаса заканчивается завтра. Я пойду на вокзал провожать их. Пройдут месяцы, прежде чем мы встретимся снова.
2 мая. До того, как я отправлюсь в путь, я смогу нашить ефрейторскую нашивку. Вместе с новым воинским званием я получил небольшую денежную сумму. В наши дни на нее ничего особенного не купишь. Кроме того, я получаю отпуск, который проведу в армейском доме отдыха в Польше, в Радоме. Отдыхаю с удовольствием. Скоро начнется лето 1943 года. Погода стоит прекрасная. Я окреп, загорел на майском солнце, чувствую себя прекрасно.
3 июня. За несколько последних недель численность нашей роты для выздоравливающих существенно уменьшилась. Тех, кто пробыл здесь дольше всех, медленно, но верно отсылают обратно в их части, дислоцирующиеся в Северной Франции. Остальные части нашей дивизии находятся там же. Во Франции они будут окончательно укомплектовываться за счет новобранцев и тех, кто возвращается из отпусков по ранению.
Глава 7. ОХОТА ЗА ИТАЛЬЯНСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ
Сегодня 11 июля 1943 года. В роте для выздоравливающих меня ожидает приказ: я должен явиться в 1-ю роту 1-го батальона только что сформированной дивизии. Наша рота дислоцируется в местечке под названием Флер, в Нормандии. Я отбываю вместе с группой из четырнадцати солдат. Нас погрузят на машину и отвезут на железнодорожную станцию.
30 июля. Следующие несколько недель проходим интенсивное обучение. Главным образом это строевая и стрелковая подготовка. Вместо старых пулеметов mg-34 мы получили новые – mg-42. Они имеют более высокую скорость стрельбы – 1000 выстрелов в минуту – и менее подвержены воздействию плюсовых и минусовых температур. Поскольку мы уже имеем опыт обращения с пулеметом, меня и моих товарищей приписывают к взводу станкового оружия. Наша рота снова полностью укомплектована. В то время как Отто Крупка (мой хороший Друг из роты для выздоравливающих в Инстербурге), Вейхерт и я проходим дальнейшее обучение – учимся обращаться со станковым пулеметом, Вариаса определяют к минометчикам. Наши инструкторы – фронтовики с богатым боевым опытом, у каждого по нескольку наград. Занятия сложные, но, безусловно, полезные.
Поскольку я всегда старательно отношусь к любому делу, в том числе и к овладению новым пулеметом, – кстати, сказать, достаточно тяжелым, – то у меня не возникает особого желания отправляться куда-нибудь по вечерам по окончании занятий. Нужно хорошо выспаться перед завтрашним днем. Я из личного опыта знаю, насколько важно соблюдать режим, чтобы обладать сильным тренированным телом и уметь обращаться с оружием – в бою от этого часто зависит твоя жизнь.
15 августа. Пришло время сказать «прощай» прекрасной Франции. Нисколько не сомневаюсь, что немало хорошеньких здешних девушек прольют слезы после нашего отъезда. Хотя место нашей будущей дислокации держат в секрете, ходят упорные слухи о том, что нас переводят в Италию. Там власть сейчас находится в руках маршала Бадольо, арестовавшего Муссолини и грозящего расторгнуть военно-политический договор между Италией и Германией.
Слухи оказываются верны. Сначала нас железной дорогой переправляют в Ландек, в Тироль, а оттуда на грузовиках в Меран. Прием, который нам оказывают местные жители, просто не поддается описанию. Из-за жары брезент, обтягивающий кузов, закатан к самой кабине. Мы приветственно машем прохожим, и нас буквально заваливают едой, сластями, шоколадом, фруктами и цветами. Мы вынуждены ехать едва ли не на черепашьей скорости. Сотни людей бегут рядом с нашей автоколонной, протягивают к нам руки, норовя коснуться. Отто подхватывает и затаскивает в кузов какую-то девушку, которая целует каждого из нас. Она рассказывает, что мы – первые немецкие солдаты, которых в Южном Тироле не видели последние двадцать пять лет. Судя по всему, здешние жители будет несказанно рады, если их край присоединят к Германии. Ближе к ночи останавливаемся в Меране, население которого так же радостно приветствует нас.
31 августа. Обстановка в Италии накаляется с каждым днем. Несмотря на это, не теряя бдительности, каждый день проводим занятия полевой подготовкой. Заниматься в полной форме очень жарко, мы постоянно потеем. Итальянское население открыто критикует Муссолини, который, очевидно, сильно надоел своим подданным. Ходят слухи о том, что Бадольо начал мирные переговоры с англичанами и американцами и хочет окончательно расторгнуть пакт с Германией.
3 сентября. Наконец-то мы получаем летнюю, предназначенную для тропиков военную форму, в которой чувствуем себя как настоящие отпускники. Эта легкая форма красиво смотрится – шорты и форменные рубашки цвета хаки. В ней очень удобно в условиях здешней жаркой погоды. Согласно самым свежим слухам, англичане высадились на юге Италии, на Сицилии, откуда будут двигаться на север Апеннинского полуострова. Поговаривают, что нас могут перебросить в Неаполь.
8 сентября. Итальянцы узнали о том, что Бадольо подписал мирный договор с англо-американцами. Для них война окончена. Большинство населения ликует. Мы же понимаем, что бывшие союзники, таким образом, становятся нашими врагами. Получаем приказ по возможности быстро разоружить итальянских солдат.
9-13 сентября. Наша первая цель – казармы итальянской армии в Модене. Рано утром наш ротный командир приезжает туда на танке. Ему удается сбить с толка итальянского коменданта казарм, и мы захватываем их одним рывком, практически без сопротивления. Солдаты взяты врасплох. Они еще лежат в койках. Нас удивляет, что они спят в таких просторных помещениях. Для нас это большое преимущество, потому что все они у нас на виду, и мы спокойно можем контролировать каждое их движение. Разоружив бывших союзников, выводим их из здания. После этого едем в Болонью, а на следующий день в казармы в Пистоле, где повторяем ту же самую операцию. Новый слух: вторжение англо-американцев ожидается в районе Ливорно-Виареджио. Официально нам ничего об этом не сообщают.
14 сентября. Отправляемся на запад и занимаем позиции в лесу между Пизой и Ливорно. Мы недавно узнали о том, что Муссолини похищен немецкими десантниками и перевезен в Германию, в ставку Гитлера. Ожидаемого вторжения англичан и американцев пока не произошло. Вместо него мы постоянно подвергаемся налетам вражеской авиации. Потерь тем не менее мы не несем.
Следующие дни проходят превосходно. Съестных припасов у нас в избытке. При разоружении итальянской армии мы захватили продовольственные склады, набитые до отказа ящиками со всевозможной едой. Каждый день мы объедаемся восхитительно вкусным мармеладом, свежим маслом и бесподобной солониной-мортаделлой. Мы также наслаждаемся хрустящим белым хлебом и пьем ни с чем несравнимое итальянское вино. В следующие выходные мы отправляемся в Пьяцца делла Синьориа близ Флоренции, затем осматриваем Пизанскую башню и едем в Ливорно искупаться и позагорать на местных пляжах.
20 сентября. К сожалению, нас снова переводят в другое место. Сначала мы поедем на север. Затем свернем на северо-восток через Феррару и Падую, после чего вдоль Адриатического побережья отправимся в Триест. По пути происходят стычки с партизанами, но мы несем минимальные потери. У наших водителей возникает проблема с трофейными итальянскими машинами, и, поскольку у меня есть водительские армейские права, мне приходится без особого удовольствия сесть на тяжелый мотоцикл с коляской. Во время езды по местным дорогам у меня отказывает мотор, и я едва не сваливаюсь в пропасть. Очевидно, возникла какая-то неполадка с карбюратором и зажиганием. Во время очередного поворота мотор неожиданно глохнет, и в результате я отстаю от остальных. Когда я с великим раздражением резко нажимаю на педаль, мотор вдруг оживает и мотоцикл делает мощный рывок вперед. Хотя обычно быстро удается взять под контроль мотоцикл, на этот раз при очередном повороте вправо мне это оказалось не под силу. Машина зависает над краем пропасти. Мне вовремя помогают подтолкнуть мотоцикл, и он летит вниз. Так лучше – если мы оставим его на дороге, то он обязательно попадет в руки партизан.
Я сажусь за руль легкого вездехода, с которым у меня с самого начала возникают проблемы. Мою машину дергает вперед, но, к счастью, впереди меня никто не едет. Я впервые веду подобного рода автомобиль. Мои армейские права I и II класса действительны для вождения пятитонного грузовика фирмы «Хенкель» с грубым двойным сцеплением, которое приводится в действие лишь благодаря мощному усилию. Поэтому следующие пятнадцать минут пытаюсь привыкнуть к управлению вездеходом с его чувствительным рулевым колесом. Наконец мне это удается, и я еду дальше относительно спокойно.
23 сентября. Мы добрались до места назначения, и весь день проводим в районе сбора. Расстаюсь с вездеходом, потому что начальство считает, что я более важен для подразделения в качестве пулеметчика.
25 сентября. Наша часть и несколько других частей вермахта начинают охоту на итальянских партизан на Истрийском полуострове. Участники партизанского движения прячутся в труднодоступных местах высоко в горах, нередко в пещерах. Поэтому нам приходится выполнять физически тяжелую работу по их поиску и преследованию, чаще всего пешком, потому что подняться на машинах в горы просто невозможно.
27 сентября. Мы поймали в одном доме двух вооруженных партизан и их сообщницу-женщину. Они не успели вовремя скрыться. Незнакомый мне фельдфебель хочет расстрелять их на месте. Вместе с ними он желает казнить и жителей соседних домов, утверждающих, что партизаны силой заставили их дать им приют. После разговора с двумя другими фельдфебелями он соглашается отпустить мирных жителей и уводит с собой пленных.
Когда мы проходим какое-то расстояние, то я и Фриц Хаманн оказываемся в самом конце колонны. Фельдфебель стоит впереди вместе с арестованными и ждет нас. Затем приказывает нам отвести их за скалы и расстрелять. Мы потрясены услышанным и просим его поручить кому-нибудь другому выполнение этого приказа.
Фельдфебель приходит в ярость и кричит:
– Вы получили приказ и извольте выполнять его! Эти свиньи стреляли в нас и ранили ваших товарищей, они могли убить и вас самих! Мы не можем тащить с собой этих мерзавцев!
Он указывает стволом своего автомата на оставшиеся позади нас скалы.
– Можете сделать это там, вон в том узком ущелье!
Фриц Хаманн громко рявкает на пленных:
– Вперед, свиньи! Вон туда!
Мы отводим итальянцев в указанное место. Лица пленных бледны и покрыты потом. Они затравленно смотрят на нас. Им понятно, какой приказ отдал нам фельдфебель. Я по личному опыту боев в России знаю, что такое страх, я многое повидал там.
Партизан, тот, что помоложе, дрожит как осиновый лист и что-то безостановочно говорит, прекрасно зная, что мы не понимаем его. Я смотрю на женщину. Ей примерно двадцать пять лет. У нее узкое лицо с большим носом. Она медленно идет впереди нас и после каждого шага оборачивается. Ей хочется заглянуть в наши лица, но вместо них она видит перед собой стволы винтовок.
Мы с Фрицем уже решили, как поступим. Мы заталкиваем итальянцев в ущелье. Здесь их никто не увидит с дороги. Затем командуем по-итальянски:
– Бегите! Быстро!
После этого мы стреляем в воздух.
Пленные все мгновенно понимают и бросаются врассыпную.
Мы с Фрицем спешим догнать своих. Звуки выстрелов должны стать достаточным доказательством того, что мы выполнили приказ фельдфебеля. Когда мы сообщаем ему об этом, он больше не возвращается к данной теме.
Хотя мы фактически не подчинились прямому приказу и три партизана остались в живых, нас с Фрицем нисколько не мучила совесть. Напротив, мы были рады, что смогли в такой сложной ситуации остаться людьми. Мы не из тех, кто способен хладнокровно убивать безоружных. Хочется надеяться, что нами никогда не овладеет слепая ярость и нам не придется убивать беззащитных мужчин и женщин.
Я рассказываю Фрицу об унтер-офицере Шварце, который во время боев на Рычовском плацдарме добивал выстрелом в голову раненых русских солдат. Он, в ответ, поясняет мне, что люди, которые убивают безоружных, несомненно, имеют садистские наклонности, а война позволяет им открыто проявлять их под предлогом защиты своих соотечественников. После Италии мы снова попадем в Россию, где нам придется в бою убивать противника, но никогда не будем поднимать руку на беззащитных людей.
10 октября. Охота за партизанами закончена. Хотя мы и понесли некоторые потери, все равно это не идет ни в какое сравнение с нашими потерями на Восточном фронте. От Риеки мы едем по приморскому шоссе вдоль побережья Адриатики. Любуемся лазурным морем. Вскоре мы прибываем в Триест.
11 октября. Прощай, Италия! Спасибо тебе за все! За красоту природы, прекрасные исторические достопримечательности, за яркое солнце и восхитительное лазурное море. Мы все хотим когда-нибудь еще раз вернуться сюда. Спасибо тебе, Италия, за твое чудесное вино, которое мы иногда с излишним усердием потребляли. Все это, вместе взятое, и составляет секрет очарования этой замечательной страны, напоенной солнечным светом, которую населяет темпераментный народ, говорящий на красивом мелодичном языке.
Память об этой стране сохранится надолго. Печаль от расставания с ней, надеюсь, нам помогут скрасить несколько бочонков вина и десяток бутылок «аквавита», которые мы захватили в одном разрушенном винном заводе на Далматинском побережье. Эти «сувениры» также поспособствовали изгнанию грустных мыслей о предстоящей отправке в Россию.
16 октября. После нескольких дней отдыха, во время которых ветераны нашей роты предавались усиленным возлияниям, мы отправились на приготовленные для нас казармы под Любляной. Здесь нам представилась возможность отправить домой почтовые посылки. Я отправляю ящик хорошего вина и несколько кусков мягкой превосходной кожи, которые мне удалось стащить на горящей обувной фабрике.
17 октября. Грузимся в товарные вагоны на станции близ Любляны. Холодно. Идет дождь. Мы сильно замерзли в нашей летней «тропической» форме.
19 октября. На рассвете прибываем в Вену. Меняем тропическую форму на обычную армейскую. Затем отправляемся на Восток. Место назначения неизвестно.
Глава 8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В РУССКИЙ АД
Поезд вот уже вторые сутки едет в восточном направлении. Те из нас, кто не занят написанием писем, или игрой в карты, или еще каким-нибудь иным делом, видимо, подобно мне, обдумывают сложившуюся обстановку. Многое вспоминается мне в эти минуты, и я размышляю о том, что случилось со мной в последние дни пребывания в России, о том, что ждет меня там на этот раз. За время моего затянувшегося отпуска многое изменилось. Когда я прибыл Россию в первый раз, то был полон романтических надежд, мечтал о боевых подвигах. Мои иллюзии быстро растаяли как дым, по причине нашей непоследовательной политики в этой стране. Теперь, видимо, все будет по-другому. На этот раз я еду на фронт вместе с закаленной в боях ударной группой. У нас прекрасно обученный личный состав и хорошее современное вооружение. Мы сможем противостоять даже самому сильному врагу, и наверняка одержим над ним победу.
Удивляюсь тому, как мой скептицизм и негативное отношение к происходящему быстро сменились твердостью духа и верой в победу. Почему так произошло? Скорее всего, это умелое воздействие официальной пропаганды с ее призывами о «верном служении отечеству» и «доблестном вкладе в общее дело» ради «великого германского рейха». Они упали на благодатную почву, и теперь я убежден в том, что сражаюсь за правое дело.
22 октября. Сегодня мы должны прибыть на место назначения, однако после короткой остановки почему-то продолжаем путь. Нам, солдатам, ничего не говорят, мы можем лишь догадываться о том, куда едем. Мы знаем, что русские после августовского наступления дошли до Харькова и двинулись дальше на запад. В данный момент наступающие части Красной Армии находятся где-то между Кременчугом и Днепропетровском. Возрожденная 6-я армия вермахта, к которой мы приписаны, будет участвовать в боях примерно в этих самых местах.
Через несколько часов мы высаживаемся с поезда и дальше следуем на наших грузовиках. Двигаемся в том направлении, откуда доносятся звуки боя. Едем по равнине через поля еще не убранной кукурузы. Повсюду видны следы военных действий и останки сгоревшей русской и немецкой техники – свидетельства того, как передвигалась в последние недели линия фронта. Где же она сейчас проходит? Точных сведений об этом нет, и наше начальство приказывает нам осторожно продвигаться вперед.
23 октября. Останавливаемся на привал на краю кукурузного поля. Машины разъезжаются в стороны, чтобы не стать удобной целью для вражеской авиации. Кукурузные початки отливают золотом в лучах заходящего солнца. Над землей медленно поднимается туман. Я по каким-то смутно осознаваемым признакам чувствую дыхание приближающейся русской зимы. Грохот артиллерийского обстрела делается громче. Отчетливо слышим доносящуюся с фланга стрельбу танковых орудий. Передний край фронта извивается, подобно змее с отрубленной головой. Хотя бой идет где-то далеко от нас, передовые подразделения врага вполне могут находиться у нас в тылу. Так, должно быть, думал и пилот «швейной машинки», появившейся неизвестно откуда над нашими головами.
Мы изумленно смотрим на русский самолет, летающий над нами. Он то снижается, то набирает высоту. Неужели советский летчик сошел с ума?
Между тем пилот высовывается из кабины, и мы слышим, как он кричит:
– Русские? Немцы?
Мы теряем дар речи. Разве можно представить себе нечто подобное? Этот парень не знает, кто находится под ним, и все же осмеливается летать так низко на своем фанерном биплане. Тем не менее, ему удается совершать рискованные фигуры высшего пилотажа. Мы в изумлении наблюдаем за ним. Никому из нас не приходит в голову открыть по вражескому самолету огонь.
Но пилоту, видимо, этого мало. Из-за неважной освещенности и толстых летных очков, – а также потому, что в него никто не стреляет, – он, должно быть, считает, что внизу русские. Он делает правый поворот и пролетает над нами. На этот раз мы встречаем винтовочным залпом. Одна из пуль попадает в мотор. Самолет теряет высоту и камнем падает на землю. В следующую секунду его охватывает пламя.
Бросаемся к самолету и помогаем пилоту выбраться наружу. Он издает поток ругательств, снимает летные очки и только сейчас узнает в нас немцев. Свою ошибку он признает нервным взрывом смеха. Ефрейтор Рудник предлагает ему сигарету. Пленный летчик закуривает, но тут же бросает сигарету. Ее вкус не нравится ему, и он, достав пачку из кармана, закуривает русскую папиросу.
– Даже после того, как мы начали стрелять, ты все еще считал нас друзьями? – усмехается Рудник и снимает с русского висящую у него на шее полевую сумку, в которой, по всей видимости, находятся карты и документы. Рудник передает ее нашему риттмейстеру. Пленный ранен. Наш санитар перевязывает раненого, и позднее его отвозят на машине «Скорой помощи» в госпиталь.
Тем временем солнце опускается к горизонту. На западе видна лишь тонкая полоска красноватого света. Неумолимо надвигаются сумерки.
– Завтра будет хороший день, – замечает Фриц Кошински, который последним забирается в кузов грузовика.
Отъезжаем уже в темноте. Вскоре нас останавливает мотоциклист, который выезжал вперед, чтобы разведать обстановку. Впереди деревня, предположительно занятая русскими. Они, скорее всего, охраняют главную магистраль армейского подвоза, проходящую через деревню.
– Выгружаемся! – звучит команда.
Машины рассредотачиваются. Мы стоим и ждем. Слышу, как наш ротный командир спрашивает старшего разведывательной группы о численности красноармейцев в деревне. Он этого не знает. Вскоре возвращается разведчик на мотоцикле, и мы получаем приказ оставаться на этом месте до утра, когда к нам подтянутся остальные подразделения нашей части. Утром на наш участок фронта прибудет подкрепление – несколько противотанковых орудий.
24 октября. Сегодня солнечная погода, правда, ветреная и холодная. Весь наш полк собрался в месте сбора и готов к боевым действиям. Начинаем наступление на деревню. Здесь мне все кажется по-другому по сравнению с Калачом. Здесь за нами численное преимущество, и мы, пожалуй, сможем обратить противника в бегство. Осознание этого поднимает боевой дух у простых солдат. Деревня небольшая, домов мало, дорога не слишком разбитая. Мы захватываем много оружия, которое наши минеры тут же взрывают. Захвачены примерно шестьдесят пленных, которых мы отправляем в тыл. Линия фронта здесь непостоянная – на многих участках советские танки ворвались на позиции частей вермахта и сейчас находятся у нас в тылу.
29 октября. На рассвете выезжаем из Новой Праги и вскоре прибываем в расположение нашей части. Начинаем совместное наступление на врага. Во время атаки нас постоянно обстреливают русские пушки и «сталинские органы». Мы несем потери и вынуждены постоянно окапываться. Один из наших солдат, подносчик патронов по имени Гейнц Барч, ранен в голову. Затем тяжелое ранение в плечо получает итальянский доброволец, которого мы называем Марко. Мы километр за километром тесним противника, и, когда становится темно, несколько солдат, и я в их числе, неожиданно оказываемся в окружении людей, которые переговариваются на русском языке. Их человек десять, и в темноте им не удается отступить достаточно быстро. Они сдаются в плен без боя.
Мы продолжаем наступать в темноте, следуя за танками, точнее, сидя на броне. Время от времени они останавливаются, мы слезаем и идем дальше пешком. У нас строгий приказ начальства – при каждой длительной остановке мы обязательно должны окапываться. Фриц Кошински где-то раздобыл лопату с длинным черенком, так что мы теперь можем выкопать стрелковую ячейку быстрее, чем обычной саперной лопаткой. Нам довольно часто приходится делать подобные остановки. За последние дни я, пожалуй, вырыл больше окопов в русской земле, чем сделал грядок в огороде возле моего родного дома за всю мою жизнь.
Я натер мозоли на руках и поэтому часто проклинаю вслух рытье нескончаемых окопов. Однако позднее я оцениваю важность приказа, обязывающего солдата иметь свой окоп, когда мы оказываемся в открытом поле при артиллерийском обстреле или неожиданном налете вражеской авиации.
30 октября. Сегодня мы атакуем части Красной Армии к западу от реки Ингулец неподалеку от Терноватки. Несмотря на сильный огонь противника, нам удается при помощи других рот и противотанкового дивизиона создать небольшой плацдарм на восточном берегу реки. В самом начале атаки из-за плотного огня советских танков мы лишаемся 20-мм зенитки и одного самоходного орудия. Расчет зенитного орудия погиб полностью, а экипаж самоходки получил серьезные ожоги.
Несмотря на темноту, наш риттмейстер хочет отправить разведгруппу в небольшую деревушку Недайвода, расположенную прямо перед нашими позициями. Разведчики вскоре возвращаются и сообщают, что дома в деревне расположены вдоль обоих берегов неглубокой речушки. В самой деревне обнаружены лишь стрелковые части русских, хотя на одной из улиц они засекли один танк «Т-34».
– Отлично! Сначала займемся танком! – слышу я голос нашего командира. Наши машины остаются в укрытии, в то время как мы наступаем в направлении деревни небольшими группами. Отряд, возглавляемый риттмейстером, движется к Недайводе в сопровождении 75-мм самоходного противотанкового орудия. Мы стараемся не производить никакого шума. По сигналу разведчиков оживает мотор самоходки.
Чем ближе мы подбираемся к танку, тем осторожнее ведем себя. Мы часто слышим низкий гул моторов, и время от времени до нашего слуха доносятся откуда-то из темноты чужие голоса. Двигаемся дальше. Мотор самоходки работает на малых оборотах. Гусеницы плавно скользят по земле. Уже совсем стемнело, однако местность время от времени освещается лунным светом, проникающим через ползущие по небу тучи. Впереди видны лишь тени домов и деревьев. Приказы отдаются шепотом. Выстраиваемся в одну шеренгу.
– Не отставать! Держаться вместе! Наступаем медленно и осторожно! Ждем приказов риттмейстера!
Самоходка движется со скоростью улитки. Перед нами возникает живая изгородь. Где-то рядом должен находиться советский танк. Если нас сейчас обнаружат, то мы утратим элемент внезапности, и вражеская бронемашина расстреляет нас в упор. Продолжаем наступать с удвоенной осторожностью. Под чьей-то ногой хрустит упавшая на землю ветка, и мы все замираем на месте, стараясь слиться с темнотой. Самоходка продвигается вперед по метру за один рывок. Где же «тридцатьчетверка»?
Как будто в ответ на невысказанный вопрос неожиданно оживает дизельный двигатель. Шум исходит откуда-то справа и спереди, в том месте, где изгородь составляет угол с ближними домами. Неужели танк все-таки заметил нас?
Нервы у меня натянуты до предела. Мы все затаили дыхание. Самоходка останавливается, и наводчик нацеливается на то место, откуда раздается шум работающего дизельного двигателя. Мы прижимаемся к земле, тревожно вглядываясь в темноту. Шум, издаваемый танком, кажется нам очень громким, он очень действует нам на нервы. Однако ничего не происходит.
– Нужно подойти еще ближе, – слышу я шепот риттмейстера. – Они не слышат нас из-за включенного мотора.
Самоходка медленно и осторожно двигается вперед. Ее экипаж готов в любую секунду открыть огонь. Прячась в тени домов и согнувшись, мы идем вслед за ней.
Шум танкового двигателя неожиданно прекращается. Самоходка также отключает мотор. Чувствую, что готов в любое мгновение взорваться от напряжения.
Не исключено, что русские танкисты, также как и мы, сейчас пристально вглядываются в темноту, не зная, что им делать. Пожалуй, это не совсем правильная идея – выстреливать сигнальную ракету прямо перед носом у противника. Правильнее было бы убраться отсюда как можно быстрее, чтобы оказаться на достаточном расстоянии от него.
Видимо, точно так же подумал и танковый экипаж, когда обнаружил нас. Мы снова слышим гул мотора и лязг гусениц. Наши глаза уже настолько успели привыкнуть к темноте, что мы хорошо различаем очертания советской бронемашины. Донесение разведгруппы оказалось точным – танк действительно находится возле изгороди. Теперь он отъезжает в сторону, ближе к кустам. Наводчик самоходки берет прицел. Из-за туч снова появляется луна, в свете которой ствол башенного орудия отливает серебром.
– Готовьсь!
Эта команда снимает напряжение. В следующее мгновение ночную тьму озаряет вспышка белого света. Мы на короткое время слепнем. Затем смотрим на танк «Т-34», который находится примерно в 30 метрах от нас. Он повернут к нам бортом. На фоне изгороди отчетливо видны фигуры, бегущие куда-то в поисках укрытия. Самоходка производит выстрел, грохот которого сотрясает воздух. В боку танка зияет пробоина размером с кулак взрослого человека. Через несколько секунд второй выстрел снова попадает в цель. В свете трассирующего снаряда хорошо видно, что из башенного люка «тридцатьчетверки» валит черный дым. Крышка люка открывается, и из него выпрыгивает наружу русский танкист, прижимающий руки к окровавленному лицу. Он бежит в сторону речки.
Мы лежим в кустах и стреляем в красноармейцев, появляющихся возле домов и ведущих ответный огонь. Мне становится понятно – совсем скоро мы либо выбьем противника из деревни, либо отступим, неся потери. У нас нет времени осматривать каждый дом, и мы занимаем позиции перед деревней. По всей видимости, русские попытаются занять их.
31 октября. Следующие несколько часов идет жестокий бой. Нам удается сдержать натиск противника. Наше самоходное орудие подбивает пять советских танков «Т-34». Позднее мы захватываем еще семь брошенных танкистами русских бронемашин, у которых кончилось топливо. Отброшенная нами вражеская пехота окопалась всего в нескольких сотнях метров от нас. Красноармейцам удается избежать нашего огня, спрятавшись в низине всего в сотне метров от германских окопов. Мы устанавливаем наши тяжелые пулеметы на небольшой высотке на краю деревни. Кроме низины, мы не можем также контролировать и берега речки справа от нас – этому мешают густые заросли кустарника.
В результате атака противника со стороны берега застает нас врасплох. Мы замечаем атакующих лишь тогда, когда они оказываются от нас на расстоянии примерно ста метров. Первые волны атаки мы сминаем смертоносным огнем двух тяжелых пулеметов. Задние ряды наступающих быстро откатываются в низину. Затем происходит нечто такое, от чего у меня волосы становятся дыбом: мы оказываемся свидетелями жуткого обращения комиссаров с советскими солдатами. Нам было искренне жаль этих бедняг.
Поясню подробнее. Из-за мощного огня наших двух MG-42, бивших с расстояния 50 метров, у красноармейцев оставалось мало шансов на то, чтобы выбраться из низины. Не могли они и наступать – их сдерживал шквальный пулеметный огонь. Я своими ушами слышал, как какой-то комиссар или старший офицер заставлял своих подопечных идти в атаку, хотя это было чистое безумие. Он гнал их на верную гибель, как стадо безропотных животных.
Неужели этот комиссар или офицер сумасшедший? Или он обеспокоен лишь собственной жизнью и хочет принести в жертву Молоху войны своих людей? Он не может не понимать, что попал в ловушку и с рассветом у него вообще не будет никаких шансов на спасение. Неужели он вознамерился пожертвовать вверенными ему войсками до наступления вечера? Неужели хочет связать наши действия, чтобы незаметно скрыться под покровом ночи? Но его ожидает смерть, и, к сожалению, не только одного его, но и других бедолаг – и будет она гораздо страшнее, чем смерть от пули.
Подъезжают танки, два из них на левом фланге отделяются от основной массы и направляются к низине. Я замечаю, что стволы их орудий очень мощные и, в отличие от остальных, опущены вниз, к земле.
Фриц Кошински сразу узнает хорошо знакомую ему боевую технику.
– Огнеметы! – спокойно комментирует он, но достаточно громко, чтобы всем было слышно.
Я слышал о том, каким мощным разрушительным действием обладает это оружие. Стоит мне это представить, и я чувствую, как холодок пробегает по моей спине. Я не завидую этим русским парням, что засели в низине. Теперь никто из них не выберется оттуда живым. Задаю себе вопрос – неужели в красноармейцах так крепка рабская покорность, что даже в такой драматической ситуации они не осмелятся убить своего подонка-командира?
Еще до того как огнеметные танки скрываются в низине, мы видим изрыгаемые из стволов языки пламени, сжигающие все на своем пути. В низине возникает паника – до нас доносятся безумные крики находящихся там людей. Затем мы видим клубы черного дыма и чувствуем жуткий тошнотворный запах горелой человеческой плоти. Из низины выскакивают с дикими криками несколько человек, объятых пламенем. Охваченные паникой, эти несчастные пробегают мимо нас. Они с криками падают на землю и катаются по ней, пытаясь сбить огонь. Некоторые из них бросаются в реку. Залпы огнеметов настолько нагревают воздух, что даже мы ощущаем его жаркую волну. Это поистине жуткое зрелище. Мы выбираемся из окопов и бросаемся вслед за нашими наступающими танками. Нужно активно двигаться вперед – уничтожение противника еще не завершено. Пройдя примерно километр, мы натыкаемся на мощный ответный огонь противника: здесь враг успел хорошо окопаться. Когда наше наступление захлебнулось, вперед были брошены еще четыре огнеметных танка. Какое это все-таки мощное оружие! В этом бою я впервые увидел, как оно действует, и поэтому никогда не забуду жуткое зловоние обгорелых трупов!
1 ноября. Сегодня мы несем большие потери. Позднее бой за плацдарм близ Терноватки будет упомянут в списках убитых на войне солдат вермахта под именем нашего риттмейстера. Эта своего рода награда используется в пропагандистских целях для поднятия боевого духа наших военных частей.
2 ноября. Спешно отправляемся на новый участок фронта. Мы, простые солдаты, как обычно, не знаем, где именно окажемся. До нас доходит слух, что нас перебрасывают на плацдарм на берегу Днепра. Едем в холодной ночи в кузовах грузовиков. Последние два дня по ночам было очень холодно. В дневные часы шел сильный дождь. Порывистый ветер продувает нас до самых костей. Дороги развезло, и машины часто увязают в грязи. Нам нередко приходится вылезать и выталкивать наш грузовик. Черная украинская земля огромными комьями липнет к сапогам. Наконец мы останавливаемся в какой-то деревушке и размещаемся по хатам, где нам выдают валенки и маскировочные халаты для предстоящей зимы, которую осталось уже недолго ждать.
5 ноября. Занимаем оборонительные позиции близ населенного пункта Верхний Рогачик. Главная полоса обороны должна проходить рядом с нами. Слышим артиллерийскую канонаду и звуки боя, идущего где-то вдали. Нам сообщают, что противник прорвал нашу линию обороны на широком участке фронта. Наш полк при поддержке артиллерии и танков должен начать наступление завтра на рассвете. Поставленная перед нами задача состоит в следующем: отбить у врага наши прежние позиции.
6 ноября. После продолжительной артиллерийской подготовки мы выдвигаемся на врага по всему переднему краю. Неприятель встречает нас мощным огневым валом. Когда восходит солнце, его лучи слепят наших наводчиков танковых орудий. Бронемашинам часто приходится останавливаться, точное наведение на цель серьезно затрудняется. Разгорается жаркий бой. У нас много потерь – как среди офицеров, так и среди рядовых. Много убитых. Находившемуся неподалеку от меня унтер-офицеру артиллерийским снарядом сносит голову. Осколком гранаты разворочен алюминиевый барабан с патронами, установленный на моем пулемете.
Несмотря на тяжелые потери, нам удается прорвать линию обороны советских войск и обратить врага в бегство. Огнеметные танки ломают сопротивление красноармейцев, выкуривая их из траншей и стрелковых ячеек. После них остается безлюдный мертвый ландшафт; от земли поднимаются клубы зловонного дыма.
Как только мы думаем о том, что, наконец, настал долгожданный покой, русские переходят в контрнаступление. Мы захвачены врасплох разрушительным огневым валом «сталинских органов» и полевых гаубиц. Снова несем большие потери. Нам приходит на выручку отделение тяжелых самоходных противотанковых орудий «Хорнисс», а также несколько «Хуммелей» со своими 150-мм гаубицами. У врага теперь нет ни малейших шансов прорваться на нашем участке. Примерно в это же время наши «штуки» совершают налеты на скопления живой силы и боевой техники противника. В тех местах, где они накрывают цели, в небо поднимается черный дым.
После того, как мы очищаем территорию от последних отрядов врага, 79-я пехотная дивизия снова занимает свои прежние позиции. Сегодня ночью нас перебросят на другой участок фронта, на этот раз мы снова окажемся неподалеку от Верхнего Рогачика. Здесь оборона советских войск относительно слаба. Позднее мы узнаем, что советская артиллерия также понесла серьезный урон.
Победа обошлась нам очень дорого. В одном только нашем пулеметном отделении погибло двадцать человек. Общие потери нашего полка – 155 человек, это численность одной роты. Помимо солдат и унтер-офицеров погибло и немало офицеров, среди них командиры 1-го и 2-го батальонов. Наш взвод лишился одного миномета и одного пулеметного отделения. К всеобщему сожалению, унтер-офицер Фабер был убит пистолетным выстрелом в спину. В него выстрелил раненый советский политрук, лежавший на земле, которому Фабер только что перевязал рану. Мне почему-то вспоминается унтер-офицер Шварц; который на плацдарме близ Рычова любил добивать раненых красноармейцев. На этот раз я настолько был потрясен смертью Фабера, что не испытал никакого огорчения, когда вахмистр одного из стрелковых взводов прошил того самого русского очередью из автомата.
7 ноября. Через несколько дней мы будем скучать по нашему риттмейстеру, которого мы все глубоко уважали. Этот достойный человек всегда был в первых рядах во время наступления. Начальство извещает нас о том, что его перевели в другое подразделение на смену погибшего командира разгромленного батальона. Мы, в свою очередь, тоже получим нового командира. Тем временем возникает слух о том, что мы и вся наша дивизия займем стратегически важный плацдарм близ Никополя. Погода меняется. Ночью стоит сильный холод, а днем начинает идти дождь. Почва превращается в настоящее болото. По разбитым раскисшим дорогам с огромным трудом передвигаются наши грузовые машины и прочая боевая техника. Нам постоянно приходится подталкивать наш грузовик.
Наконец мы добираемся до Днепровки, большой деревни на восточном краю плацдарма. Мы промокли до нитки и с головы до ног облеплены жидкой грязью. Штабы пехотной дивизии и горно-стрелковая часть разместятся в деревне, а их боевые подразделения получают приказ окопаться вдоль главной полосы обороны для отражения нескончаемых атак противника.
8 ноября. Занимаем дома, в которых до нас располагались танкисты. Нам выделяют просторную хату, ее хозяйка – русская женщина средних лет с восемнадцатилетней дочерью по имени Катя. Они живут в горнице и спят по здешнему обычаю на большой русской печке. Мы, солдаты, занимаем вторую комнату, очень просторную и отапливаемую такой же печью. На улице сыро и холодно, и, прежде чем взяться за уборку помещения, мы растапливаем ее.
Глава 9. ТРЕВОГА НА НИКОПОЛЬСКОМ ПЛАЦДАРМЕ
Следующие десять дней (9-19 ноября) мы остаемся в Днепровке в ожидании приказа о контрнаступлении. Нам известно, что главная полоса обороны проходит в нескольких километрах к югу от деревни и что позиции слева занимают подразделения 3-й горно-стрелковой дивизии. Справа тянутся траншеи отдельных подразделений 258-й пехотной дивизии. В обеих дивизиях ощущается серьезная нехватка личного состава, вызванная сильными потерями во время ожесточенных летних боев. Им приходится довольно скудными силами оборонять широкий участок фронта, и они вынуждены противостоять хорошо вооруженному противнику, имеющему значительный численный перевес. Солдаты моей части сочувствуют тем нашим пехотинцам, которые так долго живут в окопах в таких суровых условиях на этом участке передовой и вынуждены отбивать бесконечные атаки врага.
Из нас, имеющих больше оружия и снаряжения, будут делать элитную часть, пополняя личным составом и используя только в тех случаях, когда требуется отбить атаки неприятеля, ворвавшегося на наши позиции. Поскольку нам разрешено – в отличие от других солдат, постоянно находящихся на передовой, – после успешных боевых операций возвращаться на наши зимние квартиры, то к нам относятся с уважением и завистью.
За последнее время наши потери настолько велики, что ни одна из трех стрелковых рот до конца не укомплектована личным составом, несмотря на постоянное пополнение.
После того, как заканчиваются бои на Никопольском плацдарме, мы имеем за плечами два полных месяца тяжелых сражений.
Мы остались без командира, и поэтому ветеранов Вольдемара Крекеля и Фрица Кошински назначают командирами отделений и выдают им автоматы. Моим вторым номером становится ефрейтор Вилли Краузе. Мой прежний второй номер, Фриц Хаманн, получает тяжелый пулемет, поскольку обер-ефрейтор Гейнц Барч тяжело ранен. Вторым номером у Фрица теперь панцергренадер Биттнер, молодой парень. Реорганизация коснулась и наших минометчиков. Унтер-офицер Фендер теперь занимает пост вахмистра Гаука, получившего серьезное ранение. Двух наших подносчиков патронов заменяют одним добровольцем и панцергренадером по фамилии Мерш. В числе моих старых знакомых, кроме Вариаса, имеются еще два ефрейтора – Эрих Шустер и Гюнтер Пфайфер. Их поселили в соседних домах, и они иногда втроем приходят к нам поиграть в карты. Остальных я не знаю, это главным образом новобранцы. Отто Крупка теперь приписан к нашему взводу.
Наш непосредственный начальник, гауптвахмистр, которого мы называем за глаза Spiess, являет собой прекрасный образчик фронтовика. Это опытный ветеран, который не любит ненужного риска и всегда проявляет разумную осторожность. Мы, пулеметчики, особенно ценим это качество, потому что нам приходится поддерживать огнем действия стрелковых взводов и нас не используют в рукопашных схватках.
На непродолжительное время команду над нашим эскадроном берет вместо риттмейстера один обер-лейтенант. Находясь под его началом, несколько наиболее предприимчивых солдат устраивают в заброшенном доме баню. Неплохая идея. Мы с удовольствием пользуемся представившейся возможностью хорошо помыться.
Мы с Вейхертом с самых первых дней устанавливаем хорошие отношения с Катей, уже упоминавшейся дочерью хозяйки дома, в котором нас поселили. Обе работают на полевой кухне горных стрелков, дочь – полдня, ее мать – целый день. Катя – стройная белокурая девушка, таких здесь зовут «паненками». Ее волосы заплетены в косы, замысловато уложенные на голове. Она носит просторное русское платье, некогда голубое, но теперь блекло-серое от долгих стирок. Каждое утро она тщательно моется, и когда приближается к нам, от нее пахнет армейским мылом. Увидев нас, девушка произносит: «Здравствуйте» и улыбается. Мне кажется, что, будь на ней современное модное платье, она выглядела бы очень красиво и элегантно.
Хотя у нас есть приказ избегать близких контактов с местным населением, – начальство опасается шпионажа и партизанских действий, – мы все равно вынуждены общаться с этой девушкой и ее матерью. Миша, доброволец и наш помощник, родом с Украины, он часто выступает в роли переводчика. Позднее я выучиваю несколько русских слов и добиваюсь того, что меня уже немного понимают в тех случаях, когда мне что-то требуется. Вейхерт тоже нередко использует к своему благу скудное знание русского языка и иногда приходит домой с раздобытой где-то курицей, которую тут же поручает заботам хозяйки и ее дочери. Наши солдаты даже немного заигрывают с Катей, и она очень довольна, когда мы коверкаем русские слова или когда сама пытается сказать что-то по-немецки. Однако никто из нас не думает вступать с девушкой в более серьезные отношения: об этом не могло быть и речи.
Проходит несколько недель, и Катя становится для нас кем-то вроде ангела-хранителя. Все это началось в тот день, когда мы вернулись из боя, усталые и замерзшие. К своему удивлению, мы обнаружили, что в нашей комнате тепло и идеально чисто, на кроватях охапки свежего сена. После этого она каждый день присматривает за нашим бытом, и в знак благодарности за ее заботы мы делимся с ней шоколадом из наших пайков. Как-то раз она просит пару носков для своей матери и в ответ на нашу просьбу получает сразу несколько пар. Мы также дарим ей форменную рубашку летнего тропического образца. Она примеряет ее и с забавным видом разглядывает себя в осколке зеркала, висящего на стене ее комнаты. Когда мы уходим на очередное боевое задание, она провожает нас тревожным взглядом, и я часто замечаю в такие минуты слезы на ее глазах.
Когда мы занимаем места в грузовиках, она всегда выходит проводить нас, и машет до тех пор, пока мы не скроемся из вида. Нередко она провожает нас в последнюю минуту перед выездом, потому что в тот момент, когда звучит сигнал тревоги, она все еще чистит картошку на кухне.
22 ноября. Ночью заморозки, а на рассвете начинается дождь. От дождя земля снова раскисает, и мы по щиколотку увязаем в грязи. Впереди, вдоль главной полосы обороны, кипит жаркий бой. Проходит час, и мы узнаем, что противнику пришлось отступить на юг. Командир 2-й роты убит. Противник также несет потери – примерно 50 убитых, нами также подбито несколько танков «Т-34», уничтожено 16 противотанковых орудий и несколько полевых орудий.
Мы все еще находимся в прежнем районе сосредоточения, ожидая нового приказа начать наступление.
Ночью было достаточно спокойно. Мы с моим вторым номером Вилли Краузе углубляем окоп и укрепляем бруствер дощечками от коробок с патронами. Наше настроение немного улучшается. Пытаемся заснуть в нашем окопе двухметровой глубины.
23 ноября. На рассвете просыпаемся от грохота пушек – противник предпринимает обстрел позиций нашей пехоты на правом фланге. Под разрывы вражеских снарядов думаем только об одном – как бы выдержать натиск русских. Наши мысли неожиданно прерывает гул моторов, заглушающий даже гром канонады. Я чувствую, что дрожат даже стенки окопа. Такое ощущение, будто мы стали свидетеля настоящего землетрясения. Гул с каждой минутой становится все громче и громче.
По дну оврагу движется какая-то машина чудовищных размеров. Она кажется такой же огромной, как дом, но у нее имеется орудийный ствол. Насчитываю четыре таких стальных монстра. Ничего подобного я раньше не видел. Они двигаются на огромных гусеницах; скорость небольшая, прогулочная.
Мы выглядываем из окопов, стараясь получше разглядеть невиданных механических гигантов. Даже у наших ветеранов нет никаких объяснений на этот счет. Затем по траншеям быстро, как лесной огонь, распространятся слух: это «фердинанды», новые 75-тонные самоходные противотанковые орудия с 88-мм пушкой и специальным прицелом, позволяющим уничтожать вражеские танки на неслыханных расстояниях. Какой-то унтер-офицер сообщает нам, что эти громадины управляются двумя огромными дизельными двигателями и двумя электрическими моторами. Они передвигаются на необычайно широких гусеницах, но, несмотря на это, все равно проваливаются в здешнюю грязь. Дождь и грязь – худшие враги «фердинандов», способные совершенно обездвижить эти грандиозные машины. Таким образом, «фердинанды» лучше подходят для позиционных и оборонительных сражений. На какое-то время пять таких грозных боевых машин направлены на наш участок передовой для испытания их технических качеств.
В связи с «Фердинандами» я хотел бы рассказать об одном случае, произошедшем несколько дней спустя и подтверждающем их боевую мощь. Мы отбили атаку врага, и перешли в контрнаступление. Нас поддержали своим огнем четыре штурмовых орудия и четыре «Фердинанда». Когда противник скрылся в поле подсолнухов, и мы ворвались на позиции советских войск, на нас двинулись 22 танка «Т-34». Штурмовые орудия и «Фердинанды» откатились в овраг позади нас и скрылись из вида. Они дождались той минуты, когда «тридцатьчетверки» подошли на благоприятное расстояние, и обстреляли их, сразу же уничтожив шесть вражеских бронемашин. Остальные советские танки остановились и открыли ответный огонь. Когда противотанковые орудия, располагавшиеся у нас за спиной, снова дали залп, в воздух взлетели башни еще трех танков «Т-34» и загорелись еще две боевых машины. Оставшаяся часть советских танков развернулась и, держась на почтительном расстоянии, двинулась на нас. Одиннадцать «тридцатьчетверок» теперь располагались, как им казалось, на безопасном расстоянии. Однако они ошиблись в своих предположениях, и то, что случилось через несколько минут, было просто невероятно. «Фердинанды» немного выехали из оврага, чтобы лучше разглядеть цели. Советские танки тем временем выстроились шеренгой на гребне небольшой высотки, чтобы, в свою очередь, лучше видеть нас, пехотинцев. Четыре «фердинанда» выстрелили практически одновременно. Два танка «Т-34» сразу же охватило пламя. Два удачных попадания! Вражеские танки отступают, но «фердинанды» продолжают вести огонь. Загорается еще одна «тридцатьчетверка», остальные отступают и скрываются за гребнем холма.
По всей видимости, русские недоумевают по поводу того, что за новое оружие применили против него части вермахта. Мы все уверены в том, что «фердинанд» станет настоящей немезидой для советской «тридцатьчетверки». Когда вражеская пехота залегает в поле среди подсолнухов примерно в 300 метрах от нас, мы решаем остаться на ночь на наших старых позициях.
Для пущей безопасности мы время от времени стреляем осветительными ракетами. В полночь над нами неожиданно нависает зловещая черная тень, закидывающая нас гранатами. Полетав кругами у нас над головой, две советские «швейные машинки» не дают нам возможности и далее освещать участок фронта впереди нас. Как только русские летчики замечают хотя бы крошечный лучик света, они начинают забрасывать нас бомбами. Мы не осмеливаемся закурить, даже накрывшись с головой.
Вглядываемся в темноту впереди. Вилли Краузе кажется, будто он услышал какой-то шум. Я ничего не вижу, потому что «швейные машинки» не дают нам возможности осветить местность. Какое-то время сохраняется тишина, однако в следующее мгновение мы слышим пулеметную очередь. В небо взлетают осветительные ракеты, и мы поднимаемся в атаку. Раздается треск пулеметных очередей и винтовочных выстрелов. Темнота снова освещается светом ракет. Фигурки впереди нас пускаются в бегство. Кто-то падает на землю, кто-то, подняв руки, сдается в плен. Мы захватываем шестерых пленных. Стрелковое подразделение на правом фланге берет в плен одиннадцать человек. Отводим их на сборный пункт. Вид пленных удивляет нас – это пожилые люди, самому младшему около пятидесяти лет. Мы узнаем от них, что примерно тридцать красноармейцев под предводительством комиссара получили приказ прорваться на наши позиции и взять «языка». Советское командование желает узнать, какое новое оружие было применено против частей Красной Армии. Пленные также сообщают, что призвали их совсем недавно и после короткой стрелковой подготовки, только вчера получив винтовки, они оказались на линии фронта.
Нас чрезвычайно удивляет то, что красноармейцы проявили удивительную осторожность и почти четыре часа ползли по полю подсолнечника, чтобы преодолеть расстояние в 300 метров. Появление «швейных машинок» было призвано отвлечь наше внимание от этой разведывательной операции. Однако мы серьезно нарушили планы противника, и ему остается лишь догадываться о том, какое таинственное оружие теперь уничтожает его танки.
Следующие недели новое самоходное орудие «фердинанд» часто используется на нашем плацдарме. Скоро все мы оцениваем по достоинству его технические качества, однако понимаем и недостатки – огромная масса ограничивает подвижность и проходимость, самоходное орудие часто вязнет в грязи бескрайних украинских степей. Именно по этой причине нашим саперам приходится взорвать их, чтобы они не достались врагу, при эвакуации наших частей с плацдарма и отступлении от Днепра к Бугу.
24 ноября. Ночью было холодно. Мы по-прежнему занимаем наши старые оборонительные позиции между Днепровкой и Стахановом. Прибытие «фердинандов» поднимает наш боевой дух, даже несмотря на то, что ночью их отводят на другой участок передовой. Утром погода меняется и начинается дождь. Тщетно стараемся укрыться от него плащ-палатками. Промокшие до нитки, мы идем вперед по жидкой грязи. Впереди слышатся звуки боя, грохот выстрелов из танковых орудий. Через пару часов гул затихает.
До нас доходит слух о том, что наши «фердинанды» уничтожили на переднем крае 40 вражеских танков и 15 самоходных орудий. Наши «Хуммели» и «Хорниссы» – штурмовые орудия и самоходные противотанковые орудия уничтожили еще 15 танков. На западном фланге другие подразделения нашей дивизии смогли отбросить части противника обратно к главной полосе обороны.
Становится тихо. По-прежнему идет сильный дождь, и наши окопы все больше и больше наполняются жидкой грязью. Вражеская пехота находится в таких же трудных условиях. Мы слышали, что у русских возникли серьезные проблемы с прибытием пополнения, доставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов.
25–28 ноября. Вот уже четыре дня остаемся в раскисших от грязи окопах. Погода часто меняется, но постоянно стоит холод и сохраняется высокая влажность. Часто идет дождь. Наше снаряжение покрыто липкой грязью. Ночью подмораживает, и оружие из-за низких температур приходит в негодность. Из-за постоянного бездорожья пищу привозят нерегулярно. Однажды машина с едой добиралась к нам из тыла долго: восемь километров она ехала целых два часа.
29 ноября – 1 декабря. Противник силами батальона трижды атаковал нас. Ему удалось в нескольких местах прорвать нашу линию обороны, но мы каждый раз отбрасывали его при помощи штурмовых орудий и пулеметов. Русские понесли большие потери, и им придется бросать в бой резервные части.
2 декабря. Нас, наконец, сменяют горные стрелки. Когда они приезжают на грузовиках, идет сильный дождь. Похоже, что русские догадываются, что происходит, и обрушивают на нас огонь своей тяжелой артиллерии. Мы снова несем потери, у нас много убитых и раненых. Уничтожены два наших грузовика. Остальные машины снова вязнут в грязи, и нам без конца приходится подталкивать их. Расстояние, которое водитель обычно преодолевает за 15–20 минут, теперь отнимает не менее двух часов.
Смертельно усталые и потрясенные гибелью боевых товарищей, мы медленно плетемся к своим хатам. Первый, кто встречает нас, это, конечно же, Катя. Она устраивает для каждого из нас сюрприз – на наших койках лежат маленькие подарки – пара сигарет, несколько листов писчей бумаги пакетик папиросной бумаги и тому подобные милые безделицы. Все это она, скорее всего, выпросила у горных стрелков. Три койки остаются пустыми – те, кто их занимает, ранены – таких двое, или убиты – один человек, пехотинец Мерш. Катя положила на его койку маленький крестик, сделанный из двух веточек. Интересно, откуда она узнала о его гибели?
3 декабря. Многие из наших товарищей убиты. Каждый день на кладбище появляется все больше крестов. Среди них много моих знакомых пехотинцев. Я помню, каким веселыми и жизнерадостными были эти парни в те дни, когда мы находились во Франции и позднее в Италии. Теперь их больше с нами нет. С особой грустью узнаем о том, что всего несколько часов назад во время артиллерийского обстрела осколком убит ефрейтор Рудник. Хочется поскорее уснуть, чтобы хотя бы ненадолго забыть об этом.
4 декабря. Вчера у нас было что-то вроде праздника. Мы смогли помыться, побриться и переодеться в чистые подштанники. Еда была превосходной. Нам привезли гуляш с лапшой, а на десерт был пудинг из манной каши. Мы также смогли постирать форму и вычистить оружие.
Нам также удалось немного поспать днем, пока снаружи шел снег. Правда, шел он недолго и лишь немного прикрыл раскисшую от дождей землю. Еще одно наше достижение – мы выложили досками путь в уборную.
Поскольку мы понесли серьезные потери, некоторые взводы и отделения формируются заново. У меня теперь новый второй номер, опытный солдат по имени Пауль Адам. Вилли Краузе теперь второй номер у Фрица Хаманна. Наших помощников-добровольцев переводят в обоз, и вместо них мы получаем нескольких солдат из минометного отделения. Подобные перемещения обычно воспринимаются нами без особого восторга, но это не так уж и важно, потому что мы все равно остаемся крепкой и спаянной боевой группой. Для меня самое важное это то, что со мной остается мой пулемет, потому что без него я чувствую себя голым и беззащитным.
5–9 декабря. У нас новый командир эскадрона. Подобные офицерские назначения в последнее время происходят довольно часто, поскольку наши потери довольно высоки. Наш новый командир – мы зовем его за глаза Стариком – очевидно, еще не воевал на передовой, хотя он это всячески скрывает. Говорят, что он время от времени вызывает к себе подчиненных и читает им лекции о военных операциях, которые, видимо, сам прослушал в военном училище. Отто, официант по профессии, назначенный вестовым командира, рассказывает нам о том, что Старик обожает использовать в речи иностранные слова. Он читает свои лекции на так называемом академическом немецком языке, содержащем массу слов иностранного происхождения. Отто признается, что еле сдерживается от смеха, когда вахмистру и другим унтер-офицерам задается вопрос о том, понятно ли им сказанное, и те отвечают: «Так точно, герр обер-лейтенант!» После этого они просят у Репы разъяснений. Репа – это унтер-офицер с высшим образованием, очень знающий и толковый парень. Свое прозвище он получил в Италии, где мясу всегда предпочитал вегетарианские блюда.
Поэтому Репе приходится объяснять унтерам, что Старик имел в виду под выражениями «превентивная атака», «симметричный боевой ответ», «отклонение от демаркации». Старик почему-то считает, что солдаты должны понимать его витиеватую речь – по всей видимости, он так долго жил среди себе подобных, что давно разучился высказываться просто и ясно.
Как-то раз он перед строем спросил прибывшего к нам три дня назад панцергренадера, удалось ли ему «интегрироваться». Молодой солдат, уроженец Верхней Силезии, говоривший по-немецки с забавным акцентом, недоуменно посмотрел на него и ответил: «Пока не знаю, герр обер-лейтенант!»
Нам становится понятно, что Старик не ожидал подобного ответа. Он спрашивает:
– Почему? Ведь вы уже три дня как в нашем подразделении, верно?
– Так точно, герр обер-лейтенант! – отвечает силезец. – Но я получил черную таблетку от поноса только два часа назад!
Мы разражаемся хохотом. Солдат подумал, что Старик поинтересовался у него, помогли ли ему таблетки.
Командир посмеялся вместе с нами, но, видимо, так и не понял, что мы смеялись также и над ним.
После этого случая силезец – его имя Йозеф Шпиттка – становится объектом наших шуток. Мы даем ему прозвище Перонье – он часто употребляет это слово в отношении самых разных вещей, но что оно на самом деле значит, он и сам не знает. Он вскоре становится моим другом. Перонье – надежный парень и очень смелый солдат, на передовой он порой ведет себя так опрометчиво, что нам приходится удерживать его, чтобы он по неосторожности не попал под вражескую пулю.
14 декабря. Минувшей ночью происходит один случай. Был слышен громкий смех, как будто кто-то рассказывал анекдоты. Во многих домах всю ночь звучали песни и звуки губной гармошки. Это напомнило мне об унтер-офицере Деринге и боях на плацдарме близ Рычова. Деринг исполнял такие же солдатские песни – веселые и грустные. Все затихают и погружаются в воспоминания. Чтобы развеять невеселые мысли, кто-то извлекает и пускает по кругу бутылку шнапса. Любители выпивки предаются возлияниям до тех пор, пока не валятся без чувств на койки и не засыпают мертвым сном.
Вольдемар Крекель и обер-ефрейтор Кошински были в числе тех, кто участвовал в попойке. Где же они раздобыли выпивку? Судя по всему, у них бездонный запас спиртного. Времени от времени один из них вставал, выходил из блиндажа и возвращался с новой бутылкой. Запах, исходящий из стопок, кажется мне ужасно тошнотворным. Фриц Хаманн объясняет мне, что это самогонка – самодельный русский шнапс, его гонят из кукурузы и свеклы. Ее можно купить у русских добровольцев, работающих на полевой кухне. Так вот, значит, где ее добывают. Запас самогонки спрятан где-то в траншеях. Любители выпивки знают, что во время боев приобрести ее очень трудно.
15 декабря. Вот уже несколько дней стоят сильные морозы, и дороги снова сделались удобными для проезда. Вчера даже шел снег. Чувствуется скорое приближение Рождества. Это мое второе Рождество в России. Может быть, нам повезет, и мы отпразднуем его здесь, на наших зимних квартирах, а не на передовой.
16 декабря. Сегодня мы обмазываем все машины мелом, чтобы замаскировать их, сделав белыми как снег. Перед будущим боем выворачиваем на другую, белую сторону наши маскировочные халаты. На несколько минут отправляюсь вместе с Паулем Адамом и Вейхертом в переформированное минометное отделение. Вариас сообщает нам, что к ним пришли три новых солдата из соседнего эскадрона. Мы не успеваем зайти в дом, в котором они остановились, как в нос ударяет приятный запах вареной курятины. Это удивляет меня, ведь приказом командования реквизиции домашнего скота и птицы у местного населения строго запрещены. Тем не менее в хате варится куриный суп. Замечаю, что Вейхерт украдкой облизывается.
Шагнув через порог, видим, что сидящие или лежащие на койках солдаты с удовольствием поглощают горячий суп. Некоторые с аппетитом обгладывают куриные кости.
После короткого приветствия Вейхерт с любопытством спрашивает:
– Скажи, Вариас, откуда доносится этот божественный запах?
Вместо Вариаса отзывается другой человек, представляющийся обер-ефрейтором Бернхардом Кубатом. Он перестает жевать и отвечает Вейхерту:
– Откуда? К нам в окно случайно залетели три прелестные индейки и уселись прямо на хозяйкину сковородку, а потом не смогли улететь прочь.
Вейхерт изумленно смотрит на него, и мы все дружно начинаем хохотать.
– Ты знаешь, местные пернатые жители – очень домашние, – продолжает обер-ефрейтор, все так же обрабатывая куриную ножку. – Нам стало искренне жаль их, бедняжек. Мы подумали, что они замерзнут на улице. Мы очень обрадовались, когда они залетели в наш дом, чтобы согреться.
Присутствующие одобрительно улыбаются, многие из них начинают хихикать.
Обер-ефрейтор указывает куриной ножкой на окно и продолжает:
– На улице было слишком холодно и полно снега.
Кубат пожимает плечами. Вейхерт, который тайно надеется заполучить кусок курятины, подыгрывает ему и спрашивает:
– Так, понятно, а что же было дальше? Обер-ефрейтор чешет раскрасневшийся лоб и медленно произносит:
– А дальше я, естественно, разрешил им погреться и просто… – он делает такой жест, будто сворачивает курам головы –…потому что я, разумеется, не мог допустить, чтобы эти несчастные птички жили в кастрюле. Теперь тебе все понятно?
Вейхерт ухмыляется и говорит:
– Понятно. Мы тоже откроем окошко в нашем доме, и тогда к нам тоже, может быть, залетят несколько замерзших курочек. Я всегда с нежностью относился к нашим пернатым друзьям. Они как только увидят меня, так сразу вытягивают шейки, хотят чтобы я их пощекотал.
Кубат догрызает куриную ножку, затем смотрит на Вейхерта и решительно произносит:
– Даже не думай об этом, куриный щекотун. Ты же знаешь, какой мы получили приказ. Если тебя, проказника, поймают за этим делом, то ты получишь по полной программе! – Сделав короткую паузу, он продолжает: – Впрочем, посиди у нас и погрызи пару косточек, если желаешь.
Вейхерт ничего не отвечает и лишь улыбается, демонстрируя обер-ефрейтору крупные зубы с золотой коронкой на верхней челюсти. После этого мы получаем изрядный кусок курятины и половину котелка жирного куриного бульона. Мы замечаем, что Кубат не только старший по званию среди этих ребят, но и пользуется несомненным авторитетом у них и последнее слово всегда остается за ним. Вариас позднее рассказывает нам, что друзья прозвали этого парня Хапугой, признавая тем самым его непревзойденный талант добывать еду при любых обстоятельствах. Кстати, «хапуга» звучит все-таки благообразнее, чем «ворюга».
Из последующих разговоров с недавно прибывшими в наше подразделение солдатами мы узнаем об унтер-офицере Хайстерманне, которого хорошо знаем по тренировочному лагерю в Инстербурге. Он добился того, что его определили в обоз, и теперь занимается снабжением и тем самым избегает передовой. То, что нам рассказывает о нем Кубат, вызывает у нас нескрываемое отвращение. Когда его часть находилась на переднем крае, унтер-офицер заманил в дом двух русских женщин под тем предлогом, что нужно сделать какую-то работу. Горные стрелки обвинили его в том, что он зверски изнасиловал двух молодых русских девушек, выполнявших какие-то его приказы. Однажды вечером он посадил их в машину, а затем изнасиловал. Меня это не удивляет – такое вполне в духе Хайстерманна.
Хотя Хайстерманн все отрицал, по словам Кубата, его делом заинтересовалось высокое начальство и потребовало расследования. Однако оно еще не закончено. Между тем насильник неожиданно исчез – отправился в тыл по каким-то служебным делам, связанным с ремонтом техники, и не вернулся. Мы предполагаем, что где-то на Днепровской низменности на него напали партизаны, которые охотятся за немецкими солдатами, передвигающимися в одиночку. Никто точно ничего не знает, но дело Хайстерманна якобы уже закрыто. Вспоминая об этом случае, могу сказать, что с подобными отвратительными типами мне еще не раз приходилось сталкиваться во время войны, но ни один из них не был так омерзителен, как Хайстерманн.
17 декабря. Сегодня у многих из нас особый день. Поскольку мы постоянно вели себя осторожно и на этом основании все еще числим себя среди живых, то получаем Железные кресты 2-го класса и бронзовые заколки за рукопашные бои. В нашем подразделении этих наград удостаиваются Фриц Хаманн, Вариас и я. Не стану отрицать, что я горжусь этим, потому что Железный крест 2-го класса дает нам право неофициально называться «фронтшвайне», «фронтовыми свиньями», то есть ветеранами. Вообще, награды присваиваются достаточно странно. Во-первых, награждают командиров. Это само собой разумеется: разве такое допустимо – солдат имеет Железный крест, а его командир – нет?
Мы, солдаты, знаем, как это делается. Один за всех, говорят командиры, и этот самый «один» всегда начальник, старший по званию. Когда воздали должное начальникам, можно слегка обласкать и нас, серую скотинку. Если Железным крестом награждают солдата, то он обязательно рисковал собственной головой. Мы, фронтовики, без особого почтения относимся к наградам командиров. Тыловикам они еще могут показаться героями, нам – никогда. Офицерские награды вручаются, так сказать, по совокупности деяний подчиненных, то есть нас, простых солдат. В целом против такой системы никто не возражает, хотя ее несправедливость известна всем. Разве тут поспоришь? Бывают, конечно, исключения, иные офицеры по-настоящему умеют командовать и воевать. К сожалению, я чаще встречал таких офицеров, которые не заслуживали своих наград.
Я не очень высоко ценю награду, которую мне вручат лишь через несколько месяцев. Награждение во многом зависит от случая, и некоторые по-настоящему храбрые солдаты не получают орденов или медалей. Это относится главным образом к нашим погибшим товарищам. Я знал многих отважных парней, сражавшихся в рукопашных боях под Рычовом, а также участвовавших в других сражениях в конце войны. Они были вполне достойны наград, но не получили их, потому что командиры понесли большие потери личного состава или потому, что в их подразделениях командиры менялись так часто, что не смогли вовремя аттестовать геройские действия своих подчиненных. Порой мне встречались офицеры, которые специально не отмечали подвиги своих солдат, чтобы их заслуги приписать себе. Такова солдатская доля: ты всегда зависишь от мнения о тебе командира, и тебе повезет лишь в том случае, если совершишь выдающийся подвиг и попадешь при этом на глаза высокому начальству. Такое случилось с одним из моих друзей: он удостоился Рыцарского креста. Я сделал в дневнике записи об этом случае весной 1944 года, в дни нашего отступления, когда мы шли по таким глубоким болотам, какие я больше никогда в жизни не встречал. Мы тогда отступали к Бугу, с берегов которого нас позднее перебросили в Румынию. Отступление продолжалось несколько месяцев, и за это время погибло много моих товарищей. С некоторыми из них мне надолго пришлось расстаться, потому что они получили ранения и, слава богу, были отправлены в тыл.
Сегодня, получив известие о награде, я впервые выпил спиртного. У всех поднялось настроение, мы долго болтали на самые разные темы и, как следствие, поздно легли спать.
18 декабря. Ночью снова шел снег. Мы обтираемся свежим снегом и затеваем игру в снежки. Утро очень красивое, солнечное. Погода просто сказочная. Вокруг необычно тихо, лишь вдали слышатся приглушенные редкие взрывы артиллерийских снарядов. Настроение у нас прекрасное. Вчера в деревне показывали фильм. Часть нашего эскадрона смотрела его вчера, сегодня – наша очередь.
Когда мы возвращаемся после сеанса в нашу хату, то с порога ощущаем какой-то необычайно вкусный запах. Это хозяйка вместе с Катей приготовила для нас сюрприз – овощной суп под названием борщ. В его состав входит капуста, помидоры и, конечно, консервированная говядина. Вкус у борща бесподобный.
Пауль Адам так и увивается за Катей. Им явно приятно находиться в обществе друг друга, они часто смеются. Я подхожу к ним и вижу, что Катя показывает ему какие-то фотографии. Среди них два рисунка карандашом.
– Кто это? – спрашиваю я, и лицо Кати тут же принимает серьезное выражение. Она что-то отвечает мне, но я ее не понимаю. Пауль уже неплохо научился говорить по-русски и поэтому объясняет мне, что это портреты ее братьев. Они сейчас на войне. Один из них нарисовал автопортрет и портрет брата, он считается неплохим художником.
Затем Катя неожиданно начинает плакать. Она проклинает войну, вскидывает вверх руки и повторяет:
– Война капут!
Бедняжка! Мы тоже хотим, чтобы эта война поскорее закончилась, но кто знает, сколько придется ждать до ее конца?
19 декабря. Сегодня все по-другому, не так, как вчера. Мирная жизнь кончилась. Я просыпаюсь, и вскоре противник открывает подвижный заградительный огонь. Взрывы с каждой минутой становятся все громче и громче. Этого наступления противника мы уже давно ожидали. Сумеют ли наши товарищи, сидящие в окопах на главной полосе обороны, сдержать натиск врага? Нет! Враг врывается на наши позиции, и сразу же после этого звучит сигнал тревоги. Когда мы садимся в грузовики, чтобы отправиться на передовую, Катя выходит проводить нас. Я вижу в ее глазах слезы. Какие чувства она сейчас испытывает? Мне кажется, что предстоящий бой будет очень тяжелым, с огромными потерями. Хорошо, что человеку не дано знать свое будущее.
Катя проходит какое-то расстояние вслед за нами и машет рукой. Мы видим ее фигурку до тех пор, пока наша машина не скрывается за поворотом. Грузовики выезжают из деревни и останавливаются в естественном укрытии, в неглубокой низине. Звуки боя становятся громче. Мы спрыгиваем на землю и ждем дальнейших указаний.
Перед нами неожиданно появляются несколько танков «Т-34». Они всего в нескольких сотнях метров от нас, въехали на гребень холма и ведут оттуда огонь по деревне. Стремительно, как лесной пожар, до нас доносится новость о том, что враг прорвал линию обороны наших пехотных и горнострелковых подразделений и накрыл наши артиллерийские расчеты на высотке в нескольких километрах от деревни. Советские войска устремились в образовавшиеся бреши нашей линии обороны и в данный момент, наверное, берут в плен немецких солдат.
Наши штурмовые орудия и танки появляются у нас за спиной. Начинается бой с советскими бронемашинами. Танки «Т-34» становятся удобными мишенями. Вскоре мы подбиваем двадцать «тридцатьчетверок», потеряв при этом всего два своих танка. Остальные русские танки торопливо отступают.
Ближе к полудню в бой вступают панцергренадеры. Нам приходится пересекать участок открытой местности. Враг уже ожидает этого и встречает нас яростным огнем артиллерии и пулеметов. Мы оказываемся в настоящем аду. В дополнение ко всему нас начинает утюжить вражеская штурмовая авиация. Наши танки быстро устраивают дымовую завесу. Мы же лежим на земле без какого-либо прикрытия, мечтая о том, чтобы хотя бы куда-нибудь зарыться или уползти в безопасное место.
Земля дрожит от бесконечных взрывов. Отовсюду слышатся мучительные стоны и крики раненых, призывающих на помощь медиков. Устремляемся вперед с одной-единственной мыслью: поскорее бы найти какое-нибудь убежище в этом кромешном аду. Хотя нам удается избежать перекрестного артиллерийского огня, мы понимаем, что смерть подстерегает нас повсюду. В любую секунду мы можем стать жертвами пулеметной очереди или выстрела из противотанкового орудия.
Пули свищут у меня над головой, а на снегу с шипением остывают осколки снарядов. Кожей лица ощущаю волну жара и снова бросаюсь на землю. К несчастью, ударяюсь подбородком о стальной кожух пулемета, который при падении соскальзывает с моего плеча. На несколько секунд теряю сознание, но затем быстро вскакиваю на ноги и, повернув направо, бегу туда, где заметил небольшой бугорок с плоской вершиной, засыпанный снегом. Пули с противным свистом впиваются в землю у меня под ногами. Судорожно пытаюсь вспомнить, сколько раз за последние недели я бегал вот так, под дождем вражеских пуль. До сих пор мне везло, и с божьей помощью я оставался жив и невредим. Повезет ли мне на этот раз?
Поступаю так, как обычно: бегу, согнувшись в три погибели, движимый страхом в любой момент получить пулю или осколок. Мне кажется, будто мое тело заряжено электричеством. Чувствую, как по спине пробегают волны тепла. Пот струится по лбу и заливает глаза. Время от времени я бросаюсь на землю и прижимаюсь к ней, втягивая голову в плечи, как черепаха. Понимая, что так будет безопаснее, оставшееся расстояние преодолеваю ползком. Затем снова вскакиваю и бегу дальше, закинув пулемет на плечо. Мне кажется, что проходит целая вечность, прежде чем я достигаю цели – заснеженного бугорка. Здесь я нахожу некое подобие укрытия.
Со всех сторон по-прежнему слышатся крики раненых, не способных передвигаться самостоятельно. Они лежат на распаханной взрывами земле, истекая кровью.
Большинство из них умирают от переохлаждения, так и не получив медицинской помощи. Замечаю Вилли Краузе, лежащего в луже крови в десяти шагах от меня. Он уже мертв. К его спине привязан станок пулемета Фрица Хаманна. Неподалеку умирает от смертельной раны юный панцергренадер из отделения Дрейера. Из головы у него течет кровь, он тщетно пытается дотянуться до станка своего пулемета. Я своими глазами видел, как этого парня скосила вражеская пулеметная очередь. Его изрешеченное пулями тело содрогается в мучительной агонии. Пауль Адам, также видевший это, лежит рядом со мной и заходится в приступе безумного кашля. Он на бегу успел отвязать от спины станок и нес его в правой руке. Позади нас солдаты пытаются погрузить раненых в бронетранспортер.
Впереди в окопах вдоль гребня высотки залегли русские солдаты. Наши пулеметчики поливают их очередями с флангов. Наступление продолжается. Немецкие танки и штурмовые орудия наступают по всему участку фронта, обрушивая залпы огня на позиции советских войск. Снова открывает огонь советская дальнобойная артиллерия. На этот раз снаряды падают между нами и красноармейцами. Русские поспешно выпускают зеленые сигнальные ракеты, и теперь снаряды ложатся ближе к нам.
– Быстро! Зелеными трассирующими снарядами, пли! – кричит кто-то, и небо тут же освещают цепочки зеленых огней. Уловка сработала! Следующие снаряды летят дальше и взрываются далеко в тылу.
При поддержке танков мы закрепляем успех наступления. Взводы, идущие правее нас, уже забрасывают вражеские окопы ручными гранатами. Заряжаю пулемет и бросаюсь вперед. Противник деморализован. Некоторые красноармейцы выскакивают из траншей и, бросив винтовки, пускаются в бегство. Однако двое залегли за станковым пулеметом и ведут огонь. Прямо на бегу выпускаю в них очередь. Потом, поскользнувшись на ледяной корке на краю окопа, падаю в него.
Краем глаза улавливаю прямо перед собой блеск металла. Чувствую, как что-то острое вспарывает мне щеку. Я держу пулемет в правой руке и собираюсь встать, когда замечаю русского солдата, который пытается проткнуть меня штыком. В следующее мгновение он падает, прошитый пулеметной очередью. На краю окопа стоит Фриц Кошински с пулеметом в руках. Он явно собирается прыгнуть ко мне в траншею, но неожиданно падает на землю. Я хватаю его за маскировочный халат и с помощью какого-то солдата затаскиваю в окоп. Фриц стонет и морщится от боли. Солдат, оказавшийся рядом со мной, – санитар. У него белое как мел лицо. Он произносит что-то невнятное, и мы оба как загипнотизированные смотрим, как на белом маскировочном халате Фрица расползается кровавое пятно. Санитар хочет перевернуть его на бок, но Фриц прижимает руки к животу и стонет:
– Оставьте меня в покое! Мне больно!
Я хочу немного ободрить товарища и уверяю, что врачи скоро поставят его на ноги. После этого я пожимаю ему руку и говорю:
– До встречи, Фриц! Пора в бой. Поправляйся. Мой товарищ кивает и пытается улыбнуться. Получается так, что Фриц Кошински спас мне жизнь.
В следующий раз меня спасет кто-нибудь другой, и при случае я тоже выручу кого-нибудь. На фронте именно так и полагается поступать. Все пытаются изо всех сил сохранить себе жизнь, а также жизнь товарищей. Об этом не говорят, на передовой это в порядке вещей.
Наступление тем временем продолжается. В окопах все еще кипит бой. Я бегу вслед за другими солдатами и вскоре догоняю Пауля Адама. Он оборачивается и произносит:
– О, господи! Да ты весь в крови! Что с тобой?
Я впервые обращаю внимание на то, что по моей щеке струится кровь, стекая вниз по шее. Однако я не чувствую никакой боли. Вольдемар Крекель затаскивает меня в траншею и вытирает бинтом кровь с моего лица.
– Тебе повезло, это лишь скользящее ранение, – говорит он и заклеивает рану пластырем.
Когда я говорю ему, что у Фрица ранение в живот, Вольдемар говорит:
– Плохи его дела. Остается надеяться, что у Фрица в тот момент был не полный желудок.
Мы все понимаем, что он имеет в виду. Хотя нам никто не запрещает есть перед боем, ветераны не раз предупреждали нас, что в таких случаях лучше воздержаться от еды. Считается, что при ранении на пустой желудок у раненого остается больше шансов выжить. Настоящих медицинских объяснений этому факту никто не знает, но такой совет звучит вполне разумно. Многие солдаты, и я в том числе, следуют ему. Другие же не могут удержаться и наедаются перед боем. Кто-то ест даже на бегу, говоря что-то вроде: «Чему быть, того не миновать» или «Не пропадать же добру». У меня возникает впечатление, что многие из тех, кто придерживается подобных принципов, просто стараются таким образом внушить себе спокойствие перед боем, избавиться от нервозности, которая в такие минуты свойственна всем нам.
Страстно надеясь на выздоровление Фрица Кошински, мы бежим дальше по узкой траншее. В одном месте, где грудой лежат тела убитых советских солдат, нам приходится ползти по ним. Бедняги, большинство из них такие же молодые парни, как мы. Они были врагами и хотели убить нас. Теперь они не причинят нам вреда и лежат неподвижно, как и наши погибшие товарищи. Единственное отличие этих мертвых парней, фактически наших ровесников – форма. И те, и другие будут похоронены здесь, на русской земле, неподалеку от деревни под названием Днепровка. С наступлением темноты мы отступаем на небольшое расстояние и занимаем новые позиции. Мы остаемся довольны тем, что по всему переднему краю имеются оборонительные укрепления и противотанковые рвы. Никому не хотелось бы заниматься рытьем окопов в мерзлой земле. Когда нам приходится выкапывать пласты твердой, как лед, земли для маскировки пулеметного гнезда, с нас ручьем льет пот.
Ночью мы слышим, как враг возвращается и начинает окапываться прямо перед нами. Мы хорошо слышим, как звякают кирки и лопаты, которыми русские пытаются выкапывать твердую как камень землю. Они перестают работать только после того, как мы выстреливаем в них пару раз из миномета. Поскольку русские занимаются окопами, мы, таким образом, избавлены от боя, и поэтому привезенные нам боеприпасы и продукты остаются в полной сохранности. От водителей мы узнаем о количестве наших потерь. Убит командир 2-го батальона, а наш бывший командир эскадрона, ныне командир 1-го батальона, ранен. Ранены также еще два офицера из нашего батальона и военный врач. Говорят, будто наш Старик ранен в левую руку. Командовать нашим эскадроном теперь будет какой-то новый лейтенант, которого никто не знает.
Говорят, что в нашем эскадроне потери такие: семь убитых и двадцать один раненый. Среди них Вилли Краузе и молодой панцергренадер по фамилии Ханке. К названному числу следует приплюсовать двух солдат, которые прибыли в наше подразделение всего пару дней назад. В минометном отделении четверо раненых. Особенно высокие потери понес 2-й эскадрон. В нем осталось всего девятнадцать человек. Потери там следующие: двенадцать убитых и много раненых. День был скверный, и это не осталось незамеченным. Чувство уверенности во мне сильно идет на убыль, когда я думаю о той высокой цене, которую мы заплатили за сегодняшнюю победу.
20 декабря. Мы с Паулем Адамом всю ночь работали, пытаясь получше обустроить наше пулеметное гнездо, и поэтому не замерзли. Ночью мороз окреп, но нам удалось раздобыть одеяло. Наступает рассвет. Врага нигде не видно. Русские – великие мастера маскировки.
Примерно через час тучи сгущаются, и с неба начинает валить снег. С точки зрения наших интересов это хорошо, потому что снег позволит нам скрыть свои позиции от противника. Пауль, который постоянно рассматривает окружающую местность через телескопический прицел, замечает вдали пару сугробов, которые кажутся ему подозрительными. По всей видимости, там прячется враг. Однако русские никак не обнаруживают своего присутствия. Ближе к полудню противник начинает обстреливать нас из минометов, а затем на нашем правом фланге начинается перестрелка из стрелкового оружия. Мы также слышим выстрелы из танковых и противотанковых орудий. Однако на переднем крае все по-прежнему тихо.
Становится темно, и мы снова слышим удары лопат о мерзлую землю. Этот шум продолжается всю ночь. Враг укрепляет свои позиции для предстоящей атаки, явно собираясь отбросить нас от главной полосы обороны. Из штаба полка поступает приказ – мы остаемся в окопах до тех пор, пока не минует опасность вражеского наступления. Затем нас сменят горные стрелки. У нас нет ни малейшего шанса!
21 декабря. Уже в самом начале дня устанавливается плохая видимость, однако снег не идет. Ночью нам привезли соломы, которая позволила немного утеплить окопы и согреться. Враг непрерывно обстреливает нас из минометов и пулеметов. Мы не можем высунуть головы из окопов и поэтому не отвечаем на огонь врага. Это к лучшему – мы не позволяем обнаружить себя.
Вечером становится тихо. Вольдемар и Дрейер приходят повидаться с нами. Они сообщают, что русский перебежчик признался, что советское командование готовит крупномасштабное наступление. По этой причине нам привозят несколько дополнительных ящиков с боеприпасами. Ночью стоит очень холодная погода, и мы даже помыслить не можем о сне. Вылетающий изо рта теплый воздух тут же покрывает изморозью наши небритые лица. Предлагаю прорыть нишу в боковой, узкой части окопа, чтобы туда можно было забраться и немного поспать. Пауль одобряет мою идею, и мы тут же беремся за работу.
22–23 декабря. На передовой все спокойно. Мы строим предположения о том, что советские войска, возможно, решили сделать передышку в боях ради Рождества. Это было бы великой любезностью со стороны противника, но мы все-таки не верим в это. Нам сообщают также, что наш Зрвезз готовит для нас на передовой нечто особенное. Мы надеемся, что русские не потревожат нас в тихую рождественскую ночь.
24 декабря. Ночью было очень холодно и сильно подморозило, но мы этого не заметили в нашей «спальне». Я закутался в одеяло и плащ-палатку и между сменами караула крепко спал. Вскоре над нашими головами с противным визгом начинают летать мины. Напрягаю слух – мне хорошо знакомы звуки снарядов и мин разного типа, по которым с некоторой долей вероятности можно определить, в каком месте от меня они разорвутся. Перед нами ничего не меняется, вражеская пехота в атаку пока не идет. Противник еще примерно полчаса обстреливает наши позиции из минометов. Когда снова становится тихо, ефрейтор Плишка, которого мы называем Профессор, уважая его за широкие и разнообразные знания, подбегает ко мне и возбужденно и в то же время горестно сообщает, что штабс-ефрейтор Дрейер убит прямым попаданием вражеской мины. Убито еще два молодых панцергренадера. От одного санитара стало известно, что в медпункте от раны в животе умер Фриц Кошински. Это плохие новости, они снова напоминают нам, что смерть все так же дышит нам в затылок.
К нашему удивлению, день проходит без наступления советских войск. В небе сгущаются облака, и начинает идти снег. Иногда тишину прерывают одиночные винтовочные выстрелы и приглушенные хлопки разрывающихся пуль. Русские снайперы теперь используют разрывные пули, при попадании в цель они вырывают из тела огромные куски мяса. Время от времени наши пулеметчики отвечают короткими очередями.
После наступления темноты нам раздают пайки. По случаю Сочельника мы получаем картофельный салат с куском мяса. Вместо кофе сегодня чай с ромом. Кроме того, каждому из нас достается по так называемому «подарку для фронтовика» – две пачки сигарет и рождественское печенье. Наш командир получил их несколько дней назад и приберег специально к Сочельнику. Мы с Паулем выкладываем полученные из дома подарки на плащ-палатку. Кроме конфет, заботливо завернутых матерью, я обнаруживаю маленькую искусственную еловую веточку, украшенную серебряной мишурой и крошечными грибочками, а также рождественскую свечу в маленьком подсвечнике.
– Здорово! – восхищается Пауль, взяв в руки веточку. – Теперь мы сможем по-настоящему отпраздновать Рождество!
– Конечно, почему же нет? – соглашаюсь я. Завешиваем наш тесный окоп плащ-палаткой. Затем опускаемся на колени и зажигаем свечку, которую Пауль поставил на кусок посылочного картона. Мы вспоминаем о наших близких, о далеком доме и угощаемся печеньем с чаем. Ром, добавленный в чай, слегка ударяет в голову.
Пауль нарушает неожиданно возникшую паузу и говорит:
– Счастливого Рождества!
– Счастливого Рождества, Пауль! – отвечаю я. Удивляюсь тому, что мой товарищ первым запевает рождественскую песню, обычно инициатива редко исходит от него. Он затягивает «Тихую ночь», и я подхватываю. Наши голоса звучат пафосно, и Пауль тоже замечает это.
Спев несколько строчек, он начинает другую песню. «О, придите все правоверные, радостные и торжествующие!..» Голос Пауля звучит мягко и печально. Он прекращает петь и пожимает плечами.
– Не получается!
Я понимаю, что он хочет этим сказать. Сейчас не лучшее время для исполнения рождественских песен – не то настроение, наши мысли заняты недавними событиями, мы не можем не думать о погибших у нас на глазах товарищах. Всего несколько часов назад мы потеряли Дрейера и двух юных панцергренадеров, а три дня назад – Вилли Краузе и Фрица Кошински, не говоря уже о других. Они так же, как и мы, ждали этого Рождества, мечтали, надеялись на лучшее. Мы знаем, что родные прислали им письма и подарки, которые они теперь никогда не получат, но родственники пока не знают об их гибели.
Наши печальные мысли прерывает знакомый свист снарядных осколков. Значит, Иван все-таки не дал нам желанной передышки в канун Рождества. Мы задуваем свечу и вглядываемся во тьму. По всему фронту в ночное небо взлетают цепочки трассирующих пуль.
– По крайней мере, у нас есть праздничная иллюминация накануне Рождества, – горько шутит Пауль.
На передовой по-прежнему все спокойно, однако в следующее мгновение мы слышим знакомый, ни на что не похожий звук.
– «Сталинские органы»! – раздается чей-то крик.
Мы ныряем в окоп, и через минуту раздается оглушительный взрыв – вражеская ракета попадает в ящик с боеприпасами. Русские еще дважды «играют на органе», а затем снова устанавливается тишина.
25 декабря. В восемь утра на наши позиции разрушительным ураганом обрушивается мощный огонь противника. Мы заползаем в траншею и лишь изредка осмеливаемся выглянуть наружу, чтобы оценить обстановку. Мы готовы к обороне, но знаем, что наш ответный огонь будет действенным лишь тогда, когда враг пойдет в атаку. Хотя я уже хорошо знаю, что такое огневой вал неприятельской артиллерии, мне все равно не удается избавиться от страха за собственную жизнь. От бесконечного ожидания мои нервы натянуты до предела. Знаю, что рано или поздно обстрел прекратится и тогда начнется бой. Однако этой минуты придется ждать еще долго, и пока в моей голове крутятся тысячи тревожных мыслей.
Вместе с такими мыслями приходят и воспоминания о прошлых боях. Перед моим мысленным взглядом встают яркие картины сражений близ Рычова на берегу Дона, которые я, наверное, никогда не забуду. Меня охватывает такой же ужас, как и тогда. Я начинаю тихо и истово молиться о том, чтобы выйти из очередного боя живым и невредимым.
Обстрел длится около двух часов. Затем кто-то громко кричит:
– Идут!
Наконец-то! Я облегченно вздыхаю. Однако от тягостных мыслей все равно никуда не деться – я знаю, что не все из нас, поднявшись сейчас в атаку, выживут в этом бою. Тем не менее радуюсь тому, что смертоносный обстрел прекращается. Становлюсь за пулемет рядом с Паулем и чувствую, что сейчас для меня перестает существовать все, кроме наступающего врага. Советская артиллерия теперь бьет не так сильно. Когда мы открываем огонь, то испытываем лишь желание защищать собственную жизнь и не допустить, чтобы противник ворвался на наши позиции.
Прямо у нас над головами пролетают снаряды наших дальнобойных пушек. Кажется, будто огонь открыли одновременно не менее ста орудий. Затем вперед стремительно выдвигаются наши танки и противотанковые орудия, которые начинают прямой наводкой бить по первым волнам вражеской атаки. У врага нет ни малейших шансов приблизиться к нашим позициям. Немецкие пулеметы останавливают группки советских солдат, сумевших в отдельных местах прорваться через линию обороны и намеревающихся обойти нас с флангов.
Вечером мы узнаем, что наши снаряды оснащены ударными взрывателями, увеличивающими их убойную силу. В результате враг несет огромные потери, и мы не можем не испытывать удовлетворения по этому поводу. Противник сам виноват, если пошел в наступление в праздничный день.
Во второй половине дня советские войска пытаются выбить нас с позиций новым огневым валом и наступлением пехоты. Вторая попытка оказывается столь же неэффективной, что и первая. Теперь мы знаем, что противник имел намерение уничтожить нас именно в день праздника – сами русские празднуют Рождество в начале января. Наши потери относительно низки, хотя несколько человек все-таки погибло. Мы узнаем, что советские войска потеряли на нашем участке передовой несколько танков «Т-34». Похоже, что они решили сделать передышку, во всяком случае, в следующие дни боев нет.
28 декабря. День проходит тихо. Мы приходим к выводу, что противник успокоился и дает нам немного покоя.
29 декабря. Нас сменяют подразделения, которые занимали до нас эти позиции. Они устраиваются в наших старых окопах на главной полосе обороны, из которых их выбили русские в дни последнего крупного сражения. Мы с радостью возвращаемся на зимние квартиры и снова хотя бы частично ощущаем себя людьми. Наши товарищи, остававшиеся это время на зимних квартирах, пожалуй, с трудом узнают нас. В этом не будет ничего удивительного, ведь мы на редкость грязны и давно не бриты. Наше настроение меняется поразительно быстро. Сидя в машинах и с каждой минутой приближаясь к долгожданному тылу, мы шутим и весело болтаем о том, чем будем заниматься, когда вернемся в нашу любимую хату. Но как только мы видим Катю, со слезами на глазах встречающую нас у порога, то мгновенно становимся серьезными. Как мы увидим чуть позже, она снова положила на кровати наших погибших товарищей крестики, сплетенные из веток. Чтобы скрыть от нас слезы, она, коротко поприветствовав нас, выскакивает из хаты, бросив на ходу слово «работа». Видимо, ей нужно выполнить какую-то работу.
Помывшись и приведя себя в порядок, мы заваливаемся на койки и спим до позднего вечера. Просыпаемся и получаем пайки. Помимо прочего каждый получает по бутылке шнапса. Свою бутылку отдаю Вольдемару. Он опечален гибелью товарища и одиноко сидит в углу, медленно накачиваясь алкоголем.
Вечером общаюсь с Паулем Адамом, Катей и ее матерью. Мы учим новые русские слова, смеемся над собственными ошибками и пребываем в хорошем настроении. Случайно прикоснувшись к руке девушки, Пауль заметно краснеет. Судя по всему, думаю я, их роман в самом разгаре. Когда я отправляюсь спать, Катя и Пауль продолжают о чем-то оживленно беседовать.
Глава 10. ВМЕСТО СЛЕЗ – СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
Сегодня 31 декабря. Ночью снова шел снег и покрыл все вокруг свежим пушистым покрывалом. Снег сухой и рассыпчатый, какой нам особенно нравится. Вейхерт где-то узнал о том, что солдаты, сменившие нас на передовой, смогут сдержать вражеское наступление и нас еще не скоро бросят в бой. В данный момент это самая важная тема всех наших разговоров. Пожалуй, Вейхерт прав.
К нам приходит унтер-офицер Фендер из минометного отделения. О нынешней обстановке он знает не больше нас, однако высказывает предположение, что нам следует готовиться к новому бою, потому что приказ командования может поступить в любую минуту. Ждем и строим всевозможные догадки…
Через час артиллерийский обстрел затихает, однако спустя какое-то время возобновляется. На этот раз пушки бьют с новых позиций перед деревней. Мы предполагаем, что он ведется по наступающим советским войскам. Вскоре появляется наш обер-лейтенант. Слышу, как он подзывает к себе унтер-офицера Фендера и сообщает ему, что вчера были укреплены наши передовые позиции. По всей видимости, враг попытается сузить плацдарм. Наш командир ожидает приказа, но когда он поступит, пока неизвестно. Все зависит от положения дел на передовой и от приказов штаба.
Командир оказался прав: приказ поступает через час. Многие из нас уже забрались на машины, но мы еще не дождались Кати, которая никогда не забывает попрощаться с нами перед боем. Сейчас раннее утро, и она, скорее всего, чистит картошку на кухне у горных стрелков.
Как будто в ответ на наши мысли появляется Катя. Она бежит к нам, взметая снег обутыми в валенки ногами. Подобно всем русским женщинам, она надевает на голову теплый платок, который делает всех их одинаково старыми. Только когда она появляется перед нашей машиной, мы узнаем ее прелестное юное личико. Она задыхается от быстрого бега и торопливо, коверкая немецкие слова, объясняет:
– Солдат говорит я работать на кухня. Я идти. Солдат говорит «нет». Я говорить, неважно. Я идти.
– Хорошо, Катя, не надо! – отвечаю я, используя те немногие слова, которые знаю, желая сказать, что ей не нужно извиняться за опоздание. Мои товарищи, уже сидящие в кузове, машут ей на прощание. Возле меня стоят юный панцергренадер по фамилии Шредер и Пауль Адам. Катя снимает пилотку с головы Шредера и ерошит ему волосы. Тот заливается румянцем и радостно улыбается, затем разворачивается и забирается в машину. Катя протягивает руку Паулю, и задерживает ее в своей немного дольше обычного. При этом она не сводит с него глаз. Затем быстро поворачивается к нему спиной, чтобы скрыть слезы.
Я никогда еще не видел Катю в таком подавленном состоянии. Я обнимаю ее за плечи и говорю, слегка запинаясь, по-немецки:
– Успокойся, Катя. Мы все вернемся живыми. До встречи!
Она не понимает меня, но, возможно, подсознательно чувствует смысл сказанного. Она смотрит на Пауля, который взбирается в машину. Я залезаю в грузовик последним. Она успевает схватить меня за руку и шепчет:
– Пожалуйста, присмотри за Паулем и маленьким Шредером!
Я киваю.
– Хорошо, Катя. Обещаю тебе.
С этими словами я запрыгиваю в кузов.
Машина отъезжает, мы машем Кате. Она не отвечает нам и стоит, безвольно опустив руки вдоль туловища. По ее щекам катятся слезы. По телу девушки пробегает дрожь, кулаки сжимаются. Она вскидывает их вверх и отчаянно кричит:
– Война капут!
Это крик протеста и отчаяния. Проклятия войне и, возможно, жалоба, обращенная ко Всевышнему, допустившему смерть, разруху и нескончаемое человеческое горе.
Даже после того, как наша машина сворачивает направо и проезжает около ста метров, Катя все еще стоит на прежнем месте и смотрит нам вслед. Никто из нас не произносит ни слова. Кто-то затягивается сигаретой, кто-то, как Вольдемар, попыхивает трубкой. Каждый погружен в собственные мысли.
Я думаю о Кате и о том, как странно она себя сегодня вела. Неужели виной тому давнее чувство неопределенности, неуверенности в будущем и необычайное возбуждение? Или же дело в другом? Может быть, это связано с тем, что на кухне у нее возникла проблема, ведь ее не хотели отпустить, чтобы она попрощалась с нами? Поведение девушки действительно странно, как будто она что-то знает и чувствует заранее.
– Знаешь что? – обращается неожиданно Профессор к Вейхерту. – Я нашел на снегу возле грузовика одну вещицу, которая говорит о многом. Своего рода улику.
– О чем ты? – удивленно смотрит на него Вейхерт.
– Только не надо делать вид, будто ты удивлен, – отвечает Профессор и заговорщически подмигивает нам. – Когда ты забирался в кузов, в зубах у тебя была зажигалка, но когда прибежала Катя, ты от волнения выронил ее!
Мы проезжаем по дну оврага и прислушиваемся к звукам боя, которые делаются все громче и громче. Нас неожиданно встречает настоящий град пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и мы вынуждены съехать обратно в овраг. Когда мы соскакиваем на землю, над нашими головами со свистом пролетают мины. Одна из них попадает в машину. Затем противник начинает обстреливать нас из противотанковых орудий, однако наши танки тут же дают ответный залп и уничтожают несколько вражеских бронемашин. Таким образом нам удается остановить наступление советских войск.
Когда мы бросаемся в контратаку, то видим наших солдат, вынужденных отступить с переднего края. Они несут своих раненых товарищей. Настроение у них паническое. Какой-то унтер-офицер сообщает, что после мощного артиллерийского обстрела враг направил на наши позиции танки и пехоту. Русские понесли большие потери убитыми и ранеными.
Мы медленно наступаем под прикрытием танков и пушек. Сначала все идет гладко, но вскоре мы оказываемся в пределах досягаемости вражеской артиллерии. На открытой местности нет практически никаких укрытий, и поэтому мы снова несем огромные потери. Наконец нам удается расчистить главный путь подвоза к передовой и отбросить противника на некоторое расстояние на юг. С наступлением ночи мы отступаем на небольшое расстояние и занимаем линию обороны, где уже есть траншеи, которые нужно лишь немного укрепить.
Ночь выдалась неспокойная. Сначала противник обстреливает пустые позиции впереди нас, затем, поняв, что там никого нет, увеличивает дальность стрельбы. Некоторое время спустя, когда с неба начинает валить снег, в атаку выступает советская пехота. В свете трассирующих снарядов мы видим, как русские неумолимо надвигаются на нас. У них нет ни малейшего шанса подойти близко к нашим позициям. Противник несет немалые потери, и его атака захлебывается. Мы слышим крики раненых и умирающих, к которым никто не приходит на помощь.
Красноармейцы занимают траншеи прямо напротив нас. Время от времени они стреляют в нас трассирующими пулями, на короткий миг освещающими темное ночное небо. В воздухе порхают редкие снежинки. Нам кажется, что снова наступило блаженное затишье, но мы понимаем, что это ненадолго.
Кто-то сзади заходит в нашу траншею и спрашивает:
– Кто у вас первый номер?
– Я. Что там новенького? – спрашиваю я и узнаю голос Биттнера.
– Пайки получили?
– Нет!
– Черт побери! Почему возитесь так долго? – раздраженно восклицает Биттнер.
– Верно, у нас тут непорядок. Профессор должен был уже давно вернуться с нашими пайками, – вступает в разговор Пауль Адам. – Грузовик с пайками находится недалеко от нас. Нам даже слышно, как звенят котелки.
– Надеюсь, что Профессор не заблудился, – говорит Фриц Хаманн. – Он и в дневное время плохо видит, не говоря уже о ночи.
– Ладно, не делай из мухи слона! – заявляю я, пытаясь успокоить товарищей. – С ним же Крамер пошел.
Проходит еще пятнадцать минут. Солдаты из разместившихся по соседству взводов не видели наших парней и ничего не слышали о них. Мы подозреваем, что Крамер и Профессор либо блуждают где-то перед нами, либо забрели на ничейную землю.
– Может, выстрелить трассирующими? – предлагает Пауль.
– Не стоит, – возражает Вольдемар. – Если они впереди, то мы можем задеть их. Да и Иваны тут же начнут стрелять в ответ…
Не успевает он закончить фразу, как с советской стороны в небо взлетает осветительная ракета. В следующее мгновение тишину разрывают пулеметные очереди и выстрелы из винтовок. С нашей стороны в воздух взлетают несколько ракет, освещающих ровное заснеженное поле, простирающееся перед нами. Ничего! Никакого движения. Стрельба постепенно затихает.
Что происходит? Почему русские так нервничают? Такое случается часто. Стоит одной стороне сделать выстрел, как другая отвечает ей и в воздух взлетает ракета. Хотя по-прежнему сохраняется тишина, мы остаемся начеку и внимательно вслушиваемся. Проходит еще полчаса. Пауль толкает меня локтем в бок и говорит, что ему показалось, будто он только что слышал чьи-то негромкие голоса где-то впереди нас. Из соседнего окопа неожиданно раздается голос:
– Давай, Гейнц, запускай ракету! – произносит кто-то
В небо с шипением взлетает ракета, озаряя на несколько секунд ночное небо. Неужели мне показалось, что я заметил какие-то фигуры, поспешно бросившиеся на землю?
– Еще одну! – звучит тот же голос, и в воздух взлетает новая ракета. В ее ярком свете мы отчетливо видим фигуры в маскировочных халатах, бросающиеся на землю и пытающиеся слиться с заснеженным полем. Я опускаю ствол пулемета чуть ниже.
– Стойте! Не стреляйте! Не стреляйте! – кричит кто-то.
– Профессор! Крамер! Это вы? – спрашивает Вольдемар.
Ничего не ответив, две фигуры бросаются к нам. Им вслед ударяет пулеметная очередь. Теперь ситуация предельно ясна. Жму на гашетку и даю несколько очередей в направлении вспышки от выстрелов вражеского пулемета, который тут же смолкает. Профессор и Крамер уже успели запрыгнуть в наш окоп. При вспышке очередной ракеты мы видим, что русские лежат на земле. Один из русских добровольцев нашего стрелкового взвода кричит им что-то на их родном языке. Ему кто-то отвечает. Когда красноармейцы медленно встают, два наших солдата приближаются к ним и вскоре приводят их на наши позиции. Это была советская разведгруппа, состоявшая из шестнадцати человек. Четверо из них погибли, несколько советских солдат легко ранены.
Подползаю к окопу Профессора. Там уже собралось несколько наших товарищей. Профессор объясняет, что они заблудились и свернули куда-то направо и неожиданно оказались на ничейной земле, где совсем потеряли ориентировку.
– Одному богу известно, как нужно идти по этой снежной целине, да еще ночью, – тоскливо стонет он. – Пути не разобрать, все выглядит одинаково – белое смертельное покрывало, со всех сторон подстерегает опасность.
Он рассказывает, как они внезапно услышали впереди какой-то шум и решили, что благополучно вернулись на наши позиции. Их как громом поразило, когда перед ними неожиданно возник советский солдат и обратился с ним с какими-то словами. Профессору удалось ударить его по голове котелком. В следующую секунду тогда русские открыли огонь – именно эти звуки стрельбы мы и услышали.
– И тогда мы побежали со всех ног вперед, – вступает в разговор Крамер. – Мне пришлось бросить мой котелок и прочую жратву. Извините меня, парни.
– Да ладно, чего там! – успокаивает его Вольдемар. – С голоду не умрем! Но как же вы все-таки оказались среди русской разведгруппы?
– Мы этого не знали, – отвечает Профессор. – Это было настоящее безумие. Русские стали стрелять нам вслед, и поэтому мы со всех ног бросились к нашим позициям. Потом мы испугались во второй раз, когда оказались в самой гуще красноармейцев, которые о чем-то негромко переговаривались. Сначала я подумал, что мы ходим кругами, пока не заметил, что русские осторожно идут вперед. В темноте они, должно быть, приняли нас за своих. Потом я крикнул вам, и мы побежали к нашим окопам. Наверное, русские очень удивились. Остальное вы знаете.
1 января 1944 года. Наступил новый год. Я, несомненно, буду часто вспоминать сказочные фейерверки в канун Нового года. Ближе к рассвету начинает идти снег. Видимость скверная. Мы знаем, что враг находится перед нами, совсем близко от наших позиций. Он хорошо замаскировался. В прошлую ночь нам сказали, что, может быть, сегодня вечером мы вернемся в деревню, если на передовой не случится ничего особенного. Мы сидим в окопе, который расчистили ото льда и снега, и время от времени поглядываем в сторону передовой. Точно так же ведут себя и остальные наши товарищи.
Ночь была настолько тревожной, что у нас даже не нашлось свободной минуты, чтобы поесть, так что мы наверстываем упущенное только сейчас. Вчера, во время атаки, нам удалось разжиться двумя банками американской тушенки, которые красноармейцы оставили в окопе. Открыв одну из них, Пауль говорит, что русские неплохо живут, получая пайки, состоящие из американских консервов. Кроме тушенки, русские получают из-за океана машины и прочее военное снаряжение, которое нам иногда удается уничтожить или взять в качестве трофеев.
В банке оказывается консервированная свинина. Мой товарищ цепляет кусок на кончик ножа и протягивает его мне. Я перекладываю его на крышку моего котелка и рассматриваю нож Пауля. Я всегда с завистью поглядывал на него – охотничий нож с рукояткой из оленьего рога.
– Отличный нож, – говорю я и взвешиваю его на ладони.
– Верно, отличный. Он когда-то принадлежал моему старшему брату. Он часто брал его на охоту. Брат в прошлом году погиб в Сталинграде. Можешь взять его себе, если хочешь.
Я изумлен.
– То, что нож мне нравится, Пауль, вовсе не значит, что ты должен подарить его мне.
– Я знаю, что делаю. Если он тебе нравится, бери его.
– А ты? Он ведь тебе самому нужен.
– Смотри-ка, снова начинается! – неожиданно произносит Пауль. Я замечаю, что он морщится каждый раз, когда поблизости разрывается снаряд или граната. Успокойся, сделай вдох и не нервничай, говорю я себе уже, наверное, в сотый раз. Мы всегда радуемся той минуте, когда у «наших друзей» с той стороны передовой заканчиваются боеприпасы. Однако пока рано радоваться – жуткий фейерверк продолжается еще более часа. После этого противник все равно не унимается и время от времени ведет по нам огонь из минометов и пулеметов.
Смотрю через телескопический прицел в сторону вражеских позиций. Русские, согнувшись, бегут по ничейной земле. Они находятся в пределах досягаемости наших пулеметов. Мы же не смеем поднять голову над бруствером. Нам нельзя открыть врагу наше местоположение. Мы находимся у них под прицелом, и как только русские замечают хотя бы малейшее движение в наших окопах, тут же начинают стрелять в нас. Кроме того, где-то перед нами окопался советский снайпер. Он так надежно замаскировался, что я не могу разглядеть его даже в телескопический прицел. Его присутствие обнаруживается лишь тогда, когда со всех сторон от нас раздаются смертоносные взрывы, сопровождающиеся более высокими звуками, которые потом еще долго звенят в ушах. Сколько это еще будет продолжаться? Когда мы, наконец, сможем снова выглянуть из траншеи? Ко мне подползает Пауль.
– В чем дело? – спрашиваю я.
– Я больше не могу лежать, скорчившись, или стоять на коленях. Я скоро сойду с ума! – отвечает он. Мне прекрасно понятны его чувства, поскольку я испытываю то же самое, но я знаю, что несу моральную ответственность за моего товарища. Пауль воюет вместе с нами с конца ноября, но его поведение все еще остается импульсивным, и он не всегда прислушивается к голосу рассудка.
– Не высовывайся, Пауль! Они следят за любым движением в наших окопах! – говорю я ему.
– Мне нужно выстрелить по ним, тогда мне станет легче! – сердито отвечает он и бросается к пулемету.
– Не делай глупостей! Не накличь на себя беду! Пока на передовой все спокойно, лучше ничего не предпринимать!
Пауль приникает к прицелу.
– Да ты только посмотри на этих Иванов! Как они тут расплясались! Давай дадим по ним хотя бы пару очередей!
– Нет! – решительно заявляю я. – Никто не будет стрелять.
Интересно, почему ему так хочется пострелять? Он должен знать, что это не имеет никакого смысла: мы должны как можно дольше скрывать от противника местонахождение нашей огневой точки, потому что он может снова обрушить на нас залпы пушек и минометов. Пауль смотрит в прицел и через несколько секунд приходит в возбуждение.
– Черт! Они устанавливают пару минометов прямо у нас под носом!
Это интересно. Я отталкиваю Пауля и приникаю к прицелу. Русские устанавливают миномет прямо на открытом пространстве! Это опасно для всех нас! Автоматическим движением навожу на врагов пулемет и вцепляюсь в гашетку. Определяю цель и в это же мгновение замечаю, что за сугробом мелькает меховая шапка и винтовка. Бросаюсь обратно и тяну за собой Пауля. Раздается громкий хлопок, от которого у меня долго звенит в ушах. Я холодею от ужаса: разрывная пуля из снайперской винтовки пролетела от меня на расстоянии не более толщины волоса. Лишь в следующую секунду я чувствую, как кровь снова приливает к моему побледневшему лицу.
– Черт побери! Советский снайпер засек нас! Мы даже не сможем теперь подойти к нашему пулемету! – чертыхаюсь я.
– Но теперь ты хотя бы знаешь, где он находится. Возьми его на прицел и стреляй вслепую, ведь высота уже установлена! – предлагает Пауль.
Пожалуй, я действительно могу так поступить. Неожиданно рядом с нашим окопом взрывается граната. К счастью, мы находимся на дне окопа, иначе нас наверняка посекло бы осколками. На нас сверху летят комья земли и снег. Мы с Паулем понимающе переглядываемся. Неожиданно оживают наши минометы, направляя залпы туда, где находятся скопления живой силы противника. Пауль снова порывается встать.
– Тебе жить надоело? – кричу я на него.
– Хочу поглядеть, как чувствуют себя Иваны.
Пауль смотрит вперед, но какой-то сильный удар отбрасывает его к стенке окопа, и он падает. На пулемете я вижу пару свежих царапин.
– Надеюсь, теперь ты доволен?! – ворчу я. Теперь нам, скорее всего, придется до темноты сидеть в траншее, не смея поднять голову. Смертельно побледневший Пауль понемногу приходит в себя, его щеки снова розовеют. Он жадно хватает ртом воздух.
– Надо все-таки выкурить отсюда этих мерзавцев! – замечает он.
– Как? Они нам не дают голову поднять! Как только кого заметят, так тут же стреляют, прижимают нас к земле. Кроме того, у них много снайперов, не только этот один.
Мы сидим, скорчившись, на дне окопа и таращимся на его заледенелые стенки. Рядом с нами высится уже порядочная кучка сигаретных окурков. Во рту у нас гадко от частого курения, губы обветрели. Решаем, что пришла пора перекусить. Мой товарищ достает консервную банку с оранжевой этикеткой, в которой лежит кусок мягкого сыра, а также достает остатки консервированной американской свинины.
Пауль даже не замечает, когда я встаю и выглядываю через бруствер. Я стараюсь не высовывать голову слева от пулемета, помня о вражеском снайпере.
Вижу всего нескольких русских солдат, а вот снайпер никак не дает о себе знать. Я все-таки замечаю две головы за высоким сугробом. Приглядевшись, различаю белые маскировочные халаты и щиток пулемета. Издаю еле слышный свист, чтобы привлечь внимание товарища.
– Ну, что там? – нетерпеливо спрашивает Пауль.
– Я засек их пулеметное гнездо. Оно прямо перед нами.
– Да ты что! В самом деле? – спрашивает Пауль.
– Сиди! Не высовывайся! – резко осаживаю я его.
– Может быть, снайпер перебрался в другое место?
– Неужели ты сам в это веришь? Если он засечет нас, то не успокоится до тех пор, пока не перебьет нас по одному!
– Но он же не стрелял в тебя!
– Я же нахожусь с другой стороны от пулемета, ты этого разве не понимаешь? Что с тобой, Пауль? – Я еще никогда не видел своего товарища в таком мрачном настроении. Ему снова не терпится высунуться наружу. – Пригнись, черт тебя побери! – впервые за все время нашего знакомства я повышаю на него голос. Я рассержен, потому что он так глупо ведет себя – я помню свое обещание, данное Кате – присматривать за ним.
Когда я снова бросаю взгляд на то место, где находится вражеское пулеметное гнездо, то замечаю, что два человека остаются за пулеметом, а два куда-то уходят. Получается, что одна пара сменяет другую. Если бы я не знал о присутствии снайпера, то, пожалуй, дал бы по вражеским пулеметчикам несколько очередей. Однако в данный момент я не стану рисковать – лучше не искушать судьбу. Я немного опускаю пулемет и отвожу слегка в сторону, чтобы улучшить обзор. В следующее мгновение я как будто глохну на одно ухо. Это был выстрел! Я молнией бросаюсь вниз и тут же впадаю в оцепенение. Пауль, широко раскрыв глаза, как будто сраженный разрядом молнии, валится на дно окопа. Он, должно быть, находясь за моей спиной, все-таки привстал, вопреки моему предупреждению.
Я в ужасе смотрю на огромную, с кулак взрослого мужчины, дыру во лбу Пауля, из которой струится темно-красная кровь, заливающая его лицо. Она течет так быстро, что на дне окопа образуется небольшая лужа. Два индивидуальных пакета, которые я торопливо прижимаю к ране, никак не могут остановить кровотечение. Лужа крови с каждым мгновением делается все больше и больше. Мои руки дрожат. Колени слабеют, ноги трясутся. Мне нехорошо. Чувствую, что могу потерять сознание от вида крови. Лицо моего друга покрывает мертвенная бледность. Где-то совсем рядом разрывается снаряд, заставляющий меня вздрогнуть. Прижимаю ладони рупором ко рту и кричу:
– Санитары! Сюда! На помощь!
– Что случилось? – спрашивает чей-то голос.
– Пауля Адама ранило. Прямо в голову. Может, его еще можно спасти!
– Чертов снайпер! – отвечает все тот же голос.
Несмотря на грозящую мне опасность, я не могу усидеть в окопе, я должен что-то сделать. Охваченный паникой, вылезаю наружу и бросаюсь в направлении тыла. Вскоре я падаю в какую-то воронку, оставленную взрывом снаряда.
– Ты что, с ума сошел? Жить надоело?! – рычит на меня какой-то унтер-офицер. В моих ушах все еще стоит звон от недавнего взрыва. По краям воронки земля перепахана вражеской пулеметной очередью.
Я часто дышу, и меня охватывает дикий кашель.
– Может быть, и сошел, но моему товарищу срочно нужна медицинская помощь! Может быть, еще удастся спасти Пауля Адама!
– Успокойся! – говорит унтер. – Если у него ранение в голову, то спешить некуда, врач тут уже не поможет.
– Нужно хотя бы попытаться спасти его. Он не может оставаться там, в окопе. Если сейчас что-то начнется на передовой, я не смогу бросить его. Кроме того, мне нужен второй номер.
– Я знаю, командиру уже доложили. Он сейчас у минометчиков. Там нескольких парней убило снарядными осколками.
Возбуждение понемногу отпускает меня. Зачем я убежал из окопа? Неужели собирался привести к Паулю врача? Или просто не мог больше оставаться рядом с Паулем и смотреть на его безжизненное лицо? Мы только что говорили с ним, и через считаные секунды он умолкает и лежит передо мной с ужасной раной в голове, из которой, как из ручья, с журчанием выливалась кровь.
Я понимал, что Пауль умер сразу. Мне показалось, что он что-то говорит, но это было иллюзией, просто в последний раз дернулись мышцы лица. Чертов снайпер! Если бы он только попался мне на глаза, то я бы с удовольствием уничтожил его, без малейшего сожаления, даже если бы он на коленях умолял пощадить его. Во время короткого затишья кто-то выбирается из воронки и бежит к моему пулеметному гнезду.
– Оставайся там и жди меня! – кричу я ему вдогонку.
Я узнаю в нем нашего нового санитара и бросаюсь вслед за ним. Он славный парень, и я надеюсь, что с ним ничего не случится, – я считал бы себя ответственным и за его судьбу. Вражеские мины и пулеметные очереди заставляют нас укрыться за небольшим бугорком.
– Адам еще жив? – спрашивает меня санитар. Я отрицательно качаю головой.
– Ему выстрелом разнесло пол головы, – объясняю я.
– Я сам проверю, – отвечает санитар и устремляется к моей огневой точке. Вскоре я снова оказываюсь в своем окопе. Стараюсь двигаться осторожно, чтобы не наступить на Пауля.
– Он потерял очень много крови, – объясняет санитар, указывая на замерзшую лужу крови на дне окопа. – Тут ничего уже нельзя сделать. Он, должно быть, погиб сразу.
Я киваю.
– Что мы можем сделать? Я здесь не смогу развернуться.
Санитар смотрит на меня.
– Я понимаю, ты предпочел бы не бегать туда-сюда. Давай посмотрим, сможем ли мы перетащить твоего товарища в другой окоп, чтобы он не мешал тебе, если понадобится открыть огонь по врагу. Тут рядом есть траншея, там уже лежат два убитых солдата. Их накрыло артиллерийским снарядом, прямое попадание.
Проходит примерно час, прежде чем снова устанавливается относительное затишье, и мы осмеливаемся перенести тело Пауля в соседний окоп. Фриц Хаманн прикрывает нас огнем своего пулемета, заставив вражеских снайперов и пулеметчиков прижаться к земле. Но после этого начинается настоящий ад. Русские обрушивают на нас залпы своих минометов. Когда мне удается благополучно запрыгнуть в мой окоп, я нахожу там панцергренадера Шредера, прижавшегося к заледенелой земляной стене.
– Командир сказал мне, что я должен доложить тебе. Он назначил меня твоим вторым номером, – сообщает он.
Этого еще не хватало! Почему мне прислали вторым номером именно белокурого Шредера, он же самый что ни на есть мальчишка! Неужели не нашлось никого другого? Мне хочется накричать на него, хотя я не знаю, почему. Сажусь на ящик с патронами напротив него и закуриваю трубку. Шредер курит сигарету.
– Ты знаешь, что Пауля Адама убили? – спрашиваю я.
– Знаю. Выстрелом в голову.
– Значит, ты хорошо представляешь себе, что может случиться с тобой, если будешь без нужды высовываться из окопа.
– Такое не с каждым случается. Кроме того, нам ведь иногда и приходится время от времени поднимать голову над бруствером, верно?
Интересно, думаю я, было ли у Пауля предчувствие скорой смерти? Но Катя! Она, должно быть, что-то чувствовала, потому что попросила меня присматривать за ним. Она не может упрекнуть меня за случившееся: ведь я делал все, что только было в моих силах. Я даже накричал на него, чего никогда себе прежде не позволял. И вот теперь в мой окоп попадает Шредер! Катя просила меня присматривать и за ним тоже. О, господи! Разумеется, я сделаю все, что могу, но ведь не привязывать же мне его?
Сейчас уже вторая половина дня. Сегодня туманно, и это может стать нашим серьезным преимуществом, затруднив снайперам их смертоносную работу. Минометный обстрел ослабевает. Время от времени смотрю в сторону позиций противника. Там тоже пока все спокойно. Лишь изредка вижу отдельные фигурки красноармейцев, ползущих по снегу.
Это неприятно, но у меня нет никакого намерения использовать служебное положение в личных целях.
– Это ради твоего блага, Шредер, – объясняю я. Он уже приподнялся и встал за пулеметом. Возможно, враг до сих пор нас не видит.
– Ничего не видно, это я точно могу сказать, – откликается мой второй номер. Затем показывает рукой и возбужденно спрашивает: – Что это там такое?
Я вижу впереди лишь какую-то тонкую черную линию, движущуюся слева направо.
– Можно снять телескопический прицел и посмотреть в него? – спрашивает Шредер.
– Неплохая мысль. Снимай, но только осторожно!
Шредер медленно наклоняется вперед и откручивает винт. Прицел не снимается, должно быть, примерз. Шредер берется за винт обеими руками и слегка выпрямляется. Раздается громкий хлопок. Шредер, совсем как недавно Пауль Адам, валится на дно окопа. Прежде чем схватить бинт и наклониться к нему, я кричу:
– Врача! Шредера ранили в голову!
Уже знакомый мне молодой санитар находится неподалеку от меня и скоро оказывается в моем окопе. Он склоняется над моим раненым товарищем. Мое лицо снова побледнело, колени дрожат. Во рту пересохло. Я предупреждаю санитара о снайпере и спрашиваю:
– Шредер мертв? Санитар пожимает плечами.
– Почти такое же смертельное ранение, как и у Пауля Адама. Разрывная пуля.
Ох, уж эти чертовы разрывные пули! Двое убитых за такой короткий промежуток времени.
Пуля вошла Шредеру в левый глаз и вышла за левым ухом, где оставила огромное отверстие, из которого ручьем струится кровь. Санитар перевязывает ему голову, и бинт тут же набухает кровью. В дело идет второй бинт.
– Он жив? – взволнованно спрашиваю я.
Медик приподнимает голову Шредера, заглядывает в его бледное лицо и щупает артерию на его шее. Несчастный, должно быть, уже ничего не чувствует.
– Может, жив, а может, и нет. Не могу сказать точно. При таких ранениях в голову я тут не смогу оказать ему серьезную помощь. Попробую отнести его в медицинский пункт. Он вряд ли протянет до этого времени, но надо попытаться, пока в нем еще осталась искорка жизни.
Значит, шансов выжить у Шредера остается очень мало. Шредер – второй солдат, гибнущий в моем окопе. Я же, по какой-то непонятной причине, еще жив, хотя тоже веду себя не слишком осторожно и выглядываю из траншеи. Судьба – сложная штука, от нее не уйдешь. Пока что мне судьбой суждено быть свидетелем того, как моих товарищей смерть выдергивает по одному, и происходит это в мгновение ока. Я обречен на муки, вызванные страданиями и утратами моих боевых товарищей. Мне никуда не деться и от страха за собственную жизнь, который в последнее время становится все сильнее.
– Давай бери его за ноги, – слышу я голос санитара. Мы поднимаем безжизненное тело Шредера, вытаскиваем наружу и кладем на снег. Сейчас на передовой почти тихо, лишь изредка раздаются одиночные винтовочные выстрелы. Туман нисколько не рассеивается, и видимость остается по-прежнему низкой.
– Пусть тут немного полежит, я сбегаю за носилками на командный пункт, – говорит санитар и исчезает в тумане.
Через несколько минут он возвращается с унтер-офицером медицинской службы. Тот наклоняется над неподвижным Шредером.
– Мы вряд ли сможем ему помочь. Но все равно отнесем и двух других на медицинский пункт. Там их осмотрит хирург.
После того, как медики укладывают Шредера на носилки, я в последний раз смотрю на его бледное лицо. Мне кажется, будто его веки шевельнулись, но я не уверен в этом. Наверное, мне показалось. Малыш Шредер похож на мертвеца, я знаю, поскольку видел много наших солдат, погибших в бою. Самое удивительное заключается в том, что я увижу Шредера снова, живого. Это будет через десять месяцев, когда я окажусь в медицинском центре для выздоравливающих. В свое время на страницах дневника я еще расскажу об этом. До тех пор мы все считали Шредера погибшим. Таких случаев за всю войну было немало. Нам редко удавалось узнать о судьбе товарищей.
Когда Шредера уносят, в мой окоп приходят несколько товарищей. Мы отпускаем самые жуткие ругательства в адрес незримого русского снайпера. Его жертвами стали пять наших солдат, и все пятеро были убиты одинаковым выстрелом в голову.
Когда наступает темнота, враг уже выбит с наших старых позиций. Нас сменяют вернувшиеся из тыла подразделения. Наконец мы сможем немного отдохнуть? Но кто знает, сколько продлится наш отдых?
Когда начинает светать, мы все еще находимся в пути.
2 января. Катя, как обычно, прибралась в хате и протопила печку. На кровати Пауля Адама лежит небольшой веночек из веток, в котором установлена зажженная свеча. Койка Шредера находится в одном из соседних домов. Интересно, откуда Катя узнала о гибели Пауля? До нас никто из наших еще не возвращался с передовой. Машины, привозящей пайки, тоже еще не было. Начинаю подозревать, что Катя обладает некой загадочной способностью чувствовать происходящее.
На этот раз мы не видим ее у порога, она не приветствует нас, как делает это обычно. Свеча, судя по всему, горит совсем недолго, а значит, она была в комнате совсем недавно. Катя приходит лишь вечером. У нее заплаканные глаза, она неразговорчива.
У нас мало времени. Наша часть сейчас переформировывается, и к нам попадает из стрелкового взвода наш давний знакомый Перонье. Позднее к нам заходит наш Spiess и сообщает нам – Вариасу, Фрицу Хаманну и мне, – что уже совсем скоро мы можем пришить на рукав долгожданную вторую нашивку. Повышение в звании означает и более высокое денежное довольствие, не бог весть какое, но все-таки. Радуюсь тому, что додумался приберечь бутылку шнапса, ведь нам предстоит выставить угощение товарищам по поводу такого важного дела.
3 января. Вечером мы неожиданно получаем приказ перебраться на новое место. Отправляемся в другую деревню, расположенную недалеко от Днепровки. Мы расцениваем это как прощальный жест со стороны генерала Шернера. Все происходит так быстро, что мы даже не успеваем как следует проститься с нашей обожаемой Катей. Девушка сейчас на кухне, а в доме только ее мать. Она рассказывает нам, что дочь в данный момент сильно плачет и молится. Должно быть, на нее произвела сильное впечатление смерть Пауля. Мы видим Катю в ту минуту, когда наша машина занимает место в длинной колонне грузовиков. Скоро прозвучит команда отправляться в путь, и мы тронемся с места. Девушка пытается бежать вслед за нами, но спустя какое-то время останавливается и машет нам обеими руками.
Может, оно и к лучшему, что мы уезжаем так поспешно. Прощание получается скорым и неожиданным. Такой часто бывает и смерть: абсолютно нежданной, но окончательной и неизбежной. Хорошо, что мы не знаем, какое будущее нас ждет. Теперь все, что было с нами в Днепровке, остается в прошлом – и хорошие дни, и плохие. Это место переходит в область истории. Однако война продолжается, и в будущем мы увидим и кровь, и страх, и печаль – все это обильная жатва смерти.
23 января. Ночью поступает приказ покинуть плацдарм. Говорят, что мы вообще сдадим его противнику. Впрочем, время покажет. Погода изменилась: примерно час назад начался дождь. Пока мы ждем на мосту, пропуская машины, движущиеся в противоположном направлении, узнаем уже знакомые нам очертания «Фердинанда». Из обрывков разговоров выясняется, что саперы разбирают это самоходное орудие, чтобы затем взорвать его.
24–27 января. На рассвете подъезжаем к небольшой деревушке и занимаем пару пустых домов. Остаемся здесь в течение двух дней, после чего едем на северо-запад. Дороги совершенно раскисли и превратились в сплошное болото. Останавливаемся в очередной деревне. Почти все дома заняты нашими войсками. Мы с великим трудом находим пустую хату, которую тут же заселяем. Нас около двадцати человек, и мы набиваемся в дом как сельди в бочке. Ночью устанавливается жуткое зловоние. Утром обнаруживаем в углу кучу гнилых капустных листьев и кадушку испортившейся квашеной капусты.
2–3 февраля. Сегодня мы приехали в деревню под названием Апостолово. Деревня большая, это на самом деле скорее маленький городок. Со всех сторон до нас доносятся взрывы. Похоже, что никто не знает точно, где проходит линия фронта. Советские войска прорвали нашу линию обороны севернее Кривого Рога и быстро продвигаются на юг, преследуя буквально по пятам наши стремительно отступающие части. Дороги в кошмарном состоянии. В густой грязи относительно сносных дорог вязнет не только колесный, но даже гусеничный транспорт.
Нам постоянно приходится выходить из дома и помогать другим солдатам вытягивать машины из грязи. Когда становится совсем светло, советская штурмовая авиация бомбит и обстреливает из пушек нашу военную технику, застрявшую на дороге. Громко взрываются цистерны с бензином, в небо вздымаются высокие языки пламени. Днем на нас обрушиваются мощные залпы советской артиллерии. Узнаем, что части Красной Армии уже совсем близко. Воцаряется настоящий хаос. Все судорожно пытаются спастись любой ценой. Машины нашего подразделения буксуют в грязи. Те, кто могут, взрывают свою боевую технику, чтобы она не попала в руки врага. Нам удается забраться в свои машины, стоящие в укрытии. Трогаем с места и уезжаем. Через несколько дней нам приходится бросить наш грузовик, застрявший в непролазной грязи. Дальше нам приходится идти пешком.
8 февраля. Отступление на запад в полном разгаре. Поскольку мы по возможности стараемся спасти машины, боевую технику и снаряжение, нас используют в качестве прикрытия арьергарда. Двигаясь с боями на запад, мы добираемся через Миколаевку и Широкое к Ингулу, а оттуда направляемся к берегам Буга.
Это – самые утомительные дни. Без сна и практически без еды, шатаясь от усталости, мы идем по разбитым, утопающим в грязи дорогам. Ноги сбиты в кровь, мы натерли жуткие мозоли. В ушах звенит от нескончаемых криков «ура!», издаваемых неумолимо наступающим и постоянно теснящим нас противником. Отступаем с боями, отчаянно сражаясь за свою жизнь. У меня нет ни времени, ни возможности делать записи в дневнике. Однако как только моему измученному телу удается немного восстановить силы и отдохнуть в Вознесенске на берегу Буга, я снова описываю на его страницах мои злоключения. Я давно оставил попытки помечать датами конкретные эпизоды моей жизни в дни отступления, пытаясь точнее и полнее описать то, что, происходит со мной в этот жуткий отрезок моей жизни.
Глава 11. ПО БЕЗДОННОЙ ГРЯЗИ
Погода немного успокоилась, и ночью даже немного подморозило. Теперь машинам, возможно, удастся вырваться из вязкой грязи. Однако чем дальше мы отступаем на запад, тем хуже становятся дороги.
Наш эскадрон, которым теперь командует один молодой лейтенант, часто направляют в арьергард. Нам приходится – насколько хватает сил – сдерживать натиск врага, чтобы дать нашим главным силам отступить дальше. По возможности мы должны даже контратаковать противника. Но, как правило, русские наступают на нас широким фронтом, и, не имея соответствующего тяжелого вооружения, мы не можем сдержать их натиск. Когда они лавиной обрушиваются на нас с криком «ура», нам не остается ничего другого, как бежать. В результате численность нашего небольшого отряда тает прямо на глазах.
В начале отступления на участке Апостолово – Широкое мы еще стараемся соблюдать порядок и дисциплину. Чтобы дать время нашим обозам и боевой технике пробиться дальше на запад по разбитым, распаханным взрывами топким дорогам, мы занимаем бывшие позиции наших артиллеристов, где имеется блиндаж. Нам дан приказ удерживать эти позиции до вечера, после чего, с наступлением ночи, мы должны отступить.
В поддержку нашему эскадрону приданы несколько солдат из других подразделений, а также 75-мм противотанковое орудие с гусеничным тягачом. Поскольку артиллерийские позиции расположены в открытой степи, это представляется нам удобным – противник будет перед нами как на ладони. Лишь поле подсолнухов справа от нас несколько затрудняет обзор.
В данный момент все тихо: врага пока еще не видно и не слышно. Однако мы помним, что он неумолимо наступает на нас и может появиться в любую минуту. Русские давно поняли, что постоянной линии фронта больше нет, и поэтому часто, не вступая с нами в бой, обходят с флангов. В подтверждение этому мы часто видим слева и справа от нас облака дыма и огонь. Таким образом части Красной Армии оставляют нас в тылу, и позднее их арьергард отрежет нас от основной массы наших войск.
Наш юный лейтенант устраивает в блиндаже командный пункт. В то время как я со своим пулеметом располагаюсь в окопе справа от блиндажа, Фриц Хаманн согласно приказу будет прикрывать наш КП. Пехотинцы занимают позиции слева. Противотанковое орудие устанавливают позади кучи земли, выбранной при строительстве блиндажа.
Вахмистр Фендер предлагает откатить орудие еще дальше в тыл, потому что если вражеские танки заметят его, то угроза нависнет и над командным пунктом, и над пулеметными гнездами. Однако его предложение командир оставляет без внимания.
Когда я вместе с Францем Крамером пытаюсь поудобнее установить пулемет, в нашу сторону начинают со свистом лететь артиллерийские снаряды противника. Обстрел ведется явно бесцельно, скорее всего, это разведка боем. Такое мнение высказывает Вольдемар, стоящий в соседнем окопе. Он рассматривает в полевой бинокль ближние округлые холмы.
Через минуту он вскрикивает:
– Черт побери! Они идут сюда! Их много!
Я смотрю через телескопический прицел и тоже замечаю врага. Русские, подобно армии термитов, неумолимо надвигаются на нас. Вольдемар высказывает предположение, что враг находится на расстоянии трех-четырех километров от нас. Русские идут медленно, едва ли не прогулочным шагом. Они приближаются к нам с постоянной скоростью, без каких-либо остановок. Через час они будут прямо перед нашими позициями. Посовещавшись, мы приходим к выводу, что основная масса противника обойдет нас справа.
Тем временем советская дальнобойная артиллерия продолжает обстреливать свободное пространство впереди своей медленно наступающей пехоты. Мне приходится согласиться с Вольдемаром, который считает, что враг обойдет нас с правого фланга. Нам следует оставаться на месте, но, когда противник окажется в опасной близости от нас, мы откроем по нему огонь. Вольдемар соглашается со мной. Но наш лейтенант имеет иную точку зрения. Он приказывает открыть огонь из обоих пулеметов прямо сейчас.
– Это безумие! На расстоянии в полтора километра это напрасная трата боеприпасов. Кроме того, мы выдадим врагу свое местонахождение, – раздраженно говорит мой товарищ.
Мы не торопимся выполнять приказ, но когда оживает второй пулемет, я тоже даю короткую очередь.
Бурая масса противника впереди нас не останавливается ни на мгновение и как ни в чем не бывало следует дальше. Затем мой пулемет заедает.
Я проклинаю стальные обоймы с эмалированным покрытием, которые нередко застревают в стволе. Обычно я использую такие обоймы лишь в тех случаях, когда цель находится довольно далеко от меня, но всегда имею под рукой нормальные боеприпасы, чтобы отбивать лобовое наступление противника. Кроме того, мне нужны один-два запасных ствола на тот случай, если бой затянется. У Йозефа Шпиттки, нашего подносчика патронов, в запасе есть по меньшей мере один запасной ствол. Но где же он?
– Они, наверное, все в блиндаже, – отвечает Биттнер из соседнего окопа, когда я спрашиваю его, где наш подносчик. Мне приходится идти к блиндажу и спрашивать Вольдемара.
– Конечно, я тебя прикрою, – обещает он. – Русские пока далеко.
Он экономит боеприпасы и стреляет короткими очередями. В блиндаже нахожу лишь Фендера и двух солдат – остальных лейтенант отправил в соседнюю траншею. Я закуриваю сигарету и выхожу из блиндажа. В следующее мгновение раздается чей-то крик:
– Танк!
Через несколько секунд снаряд в щепки разносит крышу блиндажа. Противотанковое орудие успевает сделать только один выстрел, прежде чем вражеский танк уничтожает его.
Бегу к своему пулемету. Вокруг рвутся снаряды, выпущенные из танкового орудия. Быстро ныряю в окоп. Затем вижу три советских танка «Т-34», приближающихся с левого фланга прямо к нашему КП. Солдаты быстро вылезают из траншеи и убегают прочь.
– Они бегут! – кричит Фриц Хаманн и выскакивает из окопа вместе с Биттнером. Оба устремляются вслед за лейтенантом и остальными. Два танка открывают пулеметный огонь по убегающим солдатам. Третий танк ездит кругами возле блиндажа. Одним выстрелом советские танкисты добивают наше противотанковое орудие. В башне «тридцатьчетверки» открывается люк, и из него вылетают несколько гранат, которые попадают в открытую дверь блиндажа.
Мои мускулы напрягаются – я тоже хочу выскочить из окопа и броситься вслед за моими отступающими товарищами. Слишком поздно! Танк, сделав круг, давит пулемет Фрица Хаманна. После этого он проезжает мимо меня, за ним следуют еще две бронемашины. Если я встану, то меня тут же настигнет смерть. Придется сидеть в окопе и ждать дальнейшего развития событий. Вольдемар и Крамер также остаются в траншее. Фендер должен сейчас находиться в блиндаже. Или же он все-таки погиб?
Моя жизнь висит на волоске. Мои товарищи не стреляют, замерев в тревожном ожидании. Они судорожно возятся со стволом своего пулемета, в котором явно застряла обойма. К этому времени советские солдаты уже оказываются в опасной близости от наших позиций. Затем до моего слуха доносится голос вахмистра Фендера:
– В чем дело? Почему не стреляете?!
Я вижу, что он стоит возле блиндажа, крепко прижимая к боку левую руку. Он, должно быть, ранен.
– Обойму в стволе заело! – кричит в ответ Вольдемар, отчаянно пытаясь вытащить обойму. Наконец это ему удается. Он вставляет ствол, закрывает казенник и туго натягивает патронную ленту. Пулемет оживает, посылая две длинные очереди. Красноармейцы, оказавшиеся прямо перед нашими окопами, бросаются на землю. Затем пулемет снова заедает. Мне отлично знакомо чувство отчаяния, которое испытывает в такие моменты пулеметчик. При сильном перегреве ствола даже малейшая неисправность приводит к заклиниванию патронной ленты. Единственное, что можно сделать в подобном случае, – это заменить ствол и дать возможность старому немного остыть или использовать боеприпасы хорошего качества.
Надеюсь, что эта мысль придет в голову Вольдемару, но проходит несколько минут, и он начинает вести огонь из автомата. Его пулемет замолкает. Дела наши плохи – если он не исправит свой пулемет, то нас можно считать покойниками. Русские выбьют нас из окопов, а затем либо пристрелят, либо возьмут в плен. Вольдемар и Крамер, нагнув головы, возятся с пулеметом. Рядом с ними в землю со свистом впиваются пули. Вольдемар яростно чертыхается. Поглядывая время от времени на наступающих советских солдат, которые с каждой минутой подходят все ближе и ближе к нашим окопам, я чувствую, что меня охватывает паника. Начинаю корить себя за то, что не остался на прежнем месте.
Я уверен, что Вольдемар и Крамер слишком долго пользовались плохими боеприпасами, и это притом, что у них в окопе имеется по меньшей мере шесть ящиков хороших патронов. Кроме того, я лучше других умею вытаскивать обоймы из ствола – у меня, в отличие от Крамера, больше опыта в этом деле. Если обоймы застряли в двух стволах и если они выбили у них донце, то вытащить их будет крайне сложно. Обычно на это уходит очень много времени.
Эти мысли сейчас молниеносно мелькают в моей голове. Прежде чем навсегда распроститься с жизнью, я должен сделать все, что только в моих силах, чтобы пулемет снова начал стрелять. До сих пор он еще никогда серьезно не подводил меня.
Я кричу моим товарищам:
– Иду к вам на помощь, но пусть один из вас вылезет из окопа!
Окоп слишком мал для троих, Вольдемар это хорошо знает. Мы выскакиваем одновременно. Мой товарищ с двух шагов запрыгивает в соседний окоп, мне же приходится бежать немного дальше. Мчусь под градом пуль. Чувствую, как одна из них обжигает мою левую руку. Боли нет, но рукав тут же намокает от крови.
Делаю последний рывок и оказываюсь в окопе. Осматриваю стволы. Все именно так, как я думал: в обоих застряли обоймы, в обоих нет донца. Черт побери! Мне понадобится время, чтобы вытащить обоймы. Вижу несколько наших солдат возле блиндажа.
– Мне нужны запасные стволы! – кричу я им и пытаюсь вытащить обоймы при помощи шомпола. Фигуры вражеских солдат уже совсем близко, я могу даже разглядеть их лица. Слышу, как Вольдемар открывает огонь из пулемета. Несколько наших солдат, засевших в блиндаже, стреляют из винтовок. Значит, наши пехотинцы все еще живы!
Однако несколько винтовочных выстрелов не смогут остановить вражескую орду. Неужели это конец? Похоже, что да. Никогда не думал, что все случится именно так. Почему со мной должно быть по-другому? Разве я исключение? Теперь меня ждет либо смерть, либо плен, а может быть, что и похуже. Мы слышали немало жутких рассказов о том, как красноармейцы обращаются с пленными немцами. Быстрая смерть предпочтительнее неволи – русского лагеря для военнопленных я не переживу. Пробую потихоньку молиться, однако не могу вразумительно произнести ни строчки. Автоматическим жестом расстегиваю кобуру и нащупываю пальцами холодную сталь пистолета…
Неожиданно слышу у себя за спиной чье-то покашливание.
– Держи, я принес два ствола от другого пулемета! Оборачиваюсь и узнаю нашего подносчика патронов, который под градом вражеских пуль выскакивает из окопа и бросает нам два пулеметных ствола в кожухах. Они падают примерно в метре позади нас. Он замечает, что мы с Францем пытаемся дотянуться до них, выскакивает из окопа и бежит обратно. Подносчик успевает сделать пару шагов, безмолвно падает и остается лежать. Пули продолжают впиваться в его тело, но Йозеф Шпиттка их уже не чувствует. Он отдал свою молодую жизнь ради спасения товарищей.
Я задыхаюсь от охватившего меня волнения, но понимаю, что у нас всех появился последний шанс на спасение. Дрожащими руками вытаскиваю из кожуха новый ствол, который торопливо вставляю в пулемет. Франц Крамер подает мне пулеметную ленту. Я туго натягиваю ее и закрываю казенник.
Меня трясет нервная дрожь – первые советские солдаты уже совсем близко. Но тут начинает стрелять мой пулемет! Неописуемое ощущение облегчения охватывает меня после того, как я вижу, что пулеметная лента движется гладко, как смазанная маслом. Атакующие нас красноармейцы летят на землю. Франц Крамер уже открыл ящики с боеприпасами и приготовил новую ленту, чтобы сразу же, как только кончится предыдущая, «скормить» ее моему пулемету и без остановок вести огонь дальше.
Как часто стоял я за пулеметом и чувствовал силу, присущую этому механическому поставщику ее величества смерти. Однако я никогда еще не пользовался им с таким облегчением, как в эти минуты. Я вижу, как падают и умирают враги. Вижу, как они истекают кровью, слышу их крики и стоны и не испытываю к ним ни капли сочувствия или жалости. Меня как будто охватило безумие. Это – воздаяние за тот ужас и отчаяние, которые я испытал только что… Это месть за смерть Йозефа Шпиттки, а также солдат из расчета противотанкового орудия и других моих товарищей, погибших в сегодняшнем бою.
Воздаяние и месть! О, этот пламенный громогласный призыв к мести! Именно мстительными и беспощадными всегда хотят видеть своих солдат полководцы. Только безжалостные воины с сердцами, полными ненависти, способны выигрывать битвы. В таких случаях простые солдаты могут прославиться своими беспримерными подвигами. Страх можно превратить в ненависть, праведный гнев и призывы к священной мести. Это мощный мотив для ведения войны, в которой герои получают награды за свои подвиги. Но герои не должны погибать, потому что обязаны быть образцами для подражания, и остальные люди должны видеть их награды. Главная задача героев – вдохновлять на подвиги слабых. Таким образом, герои вроде Йозефа Шпиттки – по крайней мере, для его боевых товарищей он герой – незаменимая утрата. Однако в масштабах войны такие парни, как он, – ничтожные единицы, которых слишком много и которые не достойны наград. Слишком скромен их боевой подвиг.
Однако когда я смотрю на убитых мною врагов, лежащих на заснеженной земле, моя агрессия потихоньку идет на убыль. Мой разум снова обретает способность ясно мыслить. Вдали, куда не долетают очереди моего пулемета, советские солдаты спокойно продолжают наступление. Они не допускают вреда своему правому флангу, отводя его дальше от губительного огня нашего пулемета. Впереди видна лишь небольшая группа красноармейцев, которые залегли в неглубокой низине. Мы можем скосить их очередями лишь в том случае, если они попытаются встать.
Я расстрелял уже полную коробку патронов. У меня болят обожженные ладони – в пылу боя я менял ствол голыми руками. К стволам прилипли лоскуты кожи.
– У нас осталась только половина коробки патронов, – напоминает мне Франц Крамер. На его залитом потом лице лихорадочно блестят глаза. Губы запеклись, на них корочки засохшей слюны. Наверное, я выгляжу не лучше.
Русские солдаты неподвижно лежат в низине. Нас отделяет от них расстояние метров в пятьдесят, не больше. Они в опасном положении – стоит им пошевелиться, как я тут же открою огонь.
Франц облекает мои мысли в слова:
– На таком расстоянии они вряд ли осмелятся броситься на нас…
Его слова прерываются неожиданными криками, доносящимися из низины:
– Пан! Пан! Не стреляй! Мы сдаемся!
Вверх поднимается каска, надетая на ствол винтовки.
Крики повторяются:
– Не стреляйте!
Я не верю им. Что же делать? Я не выпускаю гашетку пулемета. Было бы здорово, если бы мне не пришлось больше никого убивать. Но можно ли доверять врагу? Нас здесь очень малая, жалкая горсточка. Что будет, если я подпущу их ближе, а они откроют огонь?
– Бросайте оружие! – кричу я.
Тот русский, который только что кричал, поднимается и что-то говорит своим товарищам, лежащим на земле. Интересно, в какой степени они доверяют нам? Встают несколько красноармейцев. Они продолжают держать в руках винтовки.
– Бросайте винтовки на землю! – кричит им Вольдемар.
Русские снова кидаются на землю. Остается стоять лишь тот их товарищ, который переговаривался с нами. Теперь он держит руки над головой, продолжая кричать:
– Не стреляйте! Не стреляйте!
После этого он говорит что-то, обращаясь к остальным красноармейцам. Те один за другим начинают вставать, на этот раз без оружия.
Мне становится не по себе от такого большого числа врагов, и я не выпускаю из рук пулемет.
– Наши возвращаются! – раздается из блиндажа голос Фендера.
Я быстро оглядываюсь и убеждаюсь в правоте его слов: именно по этой причине противник и решил сдаться, решив, что мы собрались перейти в контратаку. Неминуемой гибели они предпочли плен. Я облегченно перевожу дыхание, чувствуя, что опасность миновала.
Пленные советские солдаты идут к нам, подняв руки вверх. Далее их конвоируют Фендер и еще три наших солдата. Всего пленных около шестидесяти человек. Все неплохо экипированы, все люди среднего и пожилого возраста, молодежи среди них нет. Среди них один офицер, а также пятидесятилетний солдат, который немного говорит по-немецки. Это бывший школьный учитель из Киева. Его тыловую часть перебросили на фронт всего три недели назад. Комиссары внушили им, что они не должны сдаваться в плен врагу, который подвергает пленных пыткам, а затем расстреливает. В ответ на вопрос, почему они все-таки сдались, бывший учитель отвечает, что за последние недели отступления немецких войск большому количеству русских военнопленных удалось бежать от нас. По словам беглецов, их заставляли работать на немцев в тыловых эшелонах. Но эти пленные ничего не рассказывали о случаях зверского обращения, понимая, что следует вести себя осторожно, если они наткнутся на части войск СС. От русских военнопленных мне часто доводилось слышать о том, как с ними обращались немецкие солдаты-фронтовики. Эти рассказы служили целям большевистской пропаганды, чтобы красноармейцы верили в то, что лучше сражаться до последней капли крови или пустить пулю себе в лоб, чем сдаться в плен. Нисколько не сомневаюсь в том, что именно этот страх часто заставлял русских солдат проявлять невероятное сопротивление в самых безнадежных ситуациях. Но то же самое касается и нас. Я своими глазами видел последствия зверских расправ с немецкими солдатами, и страх подобной судьбы часто оказывается сильнее страха погибнуть в обычном бою. Но нам также известны и случаи бесчеловечного обращения русских со своими соотечественниками и даже убийства, когда комиссары пытались переложить вину за них на немецких солдат, особенно в безумные дни нашего отступления. Дальше в этой главе я поделюсь своим личным опытом, касающимся этой темы.
Когда пленных отправляют в тыл, наступает затишье. Профессор и Отто Крупка, которых недавно произвели в унтер-офицеры, приходят в наш окоп повидаться с нами.
– Что там с танками? – спрашиваю я.
– Их подбило наше противотанковое орудие, – печально отвечает Отто.
Профессор настроен более оптимистично.
– Это было что-то! Ты замечательно встретил русских пулеметным огнем! – делает он мне комплимент.
– У меня не было другого выбора.
– Вы же, парни, бежали, даже не попрощавшись с нами! – язвительно замечает Вольдемар.
– Мы бежали вслед за лейтенантом, – оправдывается Отто. – Когда появились танки, весь левый фланг снялся с места. После того как они уничтожили наше противотанковое орудие, их уже ничем нельзя было остановить.
– Вас никто ни в чем не обвиняет, – говорю я. – Если бы мы раньше заметили их, то бежали бы вместе с вами. Но так уж случилось, что было уже слишком поздно.
– Если бы не наш подносчик Йозеф Шпиттка, то мы все лежали бы здесь мертвыми, – сообщает Франц Крамер, явно нервничая.
Что касается нашего лейтенанта, то для него в этом тяжелом оборонительном бою не было ничего необычного. Он, пожалуй, не станет разговаривать с нами, потому что понимает, что мы о нем думаем. Лейтенант ждет, когда вместе соберутся последние солдаты нашего подразделения. Он, видимо, все понимает по нашим лицам. К нам подходят остальные солдаты, которые хотят знать подробности случившегося. Лейтенант общается только с Вольдемаром, командиром нашего отделения. Позднее мы узнаем, что он получил Железный крест 1-го класса за свой гипотетический героизм. Мы быстро забываем его, потому что в конце февраля командиром нашего эскадрона назначают уважаемого нами обер-лейтенанта Морица Оттинген-Валлерштейна.
Наступает вечер. Небо затягивается тучами, сквозь которые тускло мерцают звезды. Вахмистр Фендер говорит, что мы должны в 21:00 оставить наши позиции.
Наша часть собирается в нескольких километрах к западу от этого места. Приступаем к созданию нового оборонительного периметра. Хотя нам и удалось остановить стремительно наступающего противника, мы тем не менее вынуждены занять новые позиции, потому что русские, не встретив никакого сопротивления, обошли нас с обоих флангов, намереваясь взять в клещи. К сожалению, не всем удалось вырваться из окружения. Подобная безнадежная ситуация повторяется практически каждый день. За последнее время мы потеряли Франца Крамера, который, очевидно, не смог скрыться, поскольку нес тяжелый станок пулемета и попал в руки врага.
Мы постоянно пытаемся отбросить противника назад, однако это почти безнадежное дело, потому что мы безостановочно отступаем. Как только солдат пускается в бегство, ничто уже не способно заставить его остановиться и ждать неминуемого приближения врага.
Нам удается собраться вместе лишь 28 февраля, когда мы прибываем в Николаевку. Нами командует всеми уважаемый командир эскадрона, который после отпуска по ранению возвращается в нашу часть. Мы какое-то время сдерживаем наступление советских войск и даже предпринимаем несколько удачных контратак, но после того, как русские снова обходят нас с флангов, нам в очередной раз приходится отступить.
За деревней Петропавловка после неожиданной атаки советских войск мы вынуждены рассредоточиться. Мы не спали уже несколько суток и сильно устали и поэтому, выступая в роли арьергарда нашей части, ищем жилье в домах на окраине деревни. Через некоторое время с криками «ура» в деревню врываются советские солдаты, сметая все на своем пути. Мы с Отто Крупкой еле успеваем выскочить через окно в задней стене дома. Мне приходится оставить пулемет, да и вряд он помог бы мне, потому что патроны давно кончились.
Позднее, продолжая отступать, мы с Отто наталкиваемся на других солдат из нашего эскадрона. Усталые и голодные, мы медленно тащимся по разбитым, утопающим в грязи дорогам. Однажды мы с Отто отстаем от товарищей и оказываемся одни. Позднее нам удается присоединиться к боевой группе, набранной из солдат разных частей. Начинается дождь, и грязь становится непролазной. Ледяной восточный ветер насквозь продувает нас, выстуживая наши изможденные тела. Нас терзает мучительный голод. По ночам мы ищем пристанища в деревенских хатах. Как правило, они переполнены нашими солдатами. Комнаты забиты до отказа. Все сбиваются в кучу, чтобы было теплее. У солдат грязные лица, осунувшиеся от голода. Все тревожно прислушиваются к доносящимся снаружи звукам. Оружие есть лишь у немногих солдат.
Каждое утро – при условии, если Иваны не выгнали нас из домов – мы собираемся вместе и идем дальше на запад. В каждой новой деревне, в которую мы приходим, нам встречаются группы немецких солдат, отступающих под напором Красной Армии. Многие из них неверно оценивают скорость наступления советских войск. Эти люди – главным образом солдаты-тыловики, они служили на пекарнях, в ремонтных мастерских и в обозе и никогда не были на передовой. Порой мы натыкаемся на армейских чиновников, которым, видимо, впервые в жизни пришлось испачкать свои новенькие мундиры.
Этих парней можно сразу узнать по узким погонам. Они – самые изящные солдаты рейха, которые распоряжаются всем имуществом вермахта, причем зачастую такими вещами, которые мы, простые смертные, никогда даже в глаза не видели. В суматошные дни отступления с этими людьми нередко расправляются самым безжалостным образом, если они отказываются открыть двери продовольственных и вещевых складов сердитой и голодной массе простых солдат, стремительно отступающих под натиском советских войск. Эти тыловые крысы обычно ссылаются на приказы высокого начальства, которое давно уже находится в глубоком тылу, взрывать или поджигать склады, чтобы имущество вермахта не досталось Красной Армии.
Однажды мы с Отто оказываемся вместе с другими солдатами перед воротами такого склада. Вход загородили интенданты со своими прихвостнями. Они твердо намерены не пустить изголодавшуюся солдатскую массу внутрь. Несмотря на то, что советские войска уже совсем близко, начальство упорно стоит на своем и не пускает нас на склад, заявляя, что имеет приказ взорвать его, но не пустить никого внутрь. Когда толпа увеличивается с каждой минутой, а интенданты все так же стоят на своем, спор внезапно прерывается резкой пулеметной очередью. Ненавистных интендантов бесцеремонно отпихивают в сторону, и толпа голодных людей врывается внутрь. Нужно торопиться, потому что заряды взорвутся через двадцать минут.
Мы не можем поверить своим глазам, когда видим на полках всевозможные деликатесы. Все торопливо набивают карманы.
– Не мелочись! Берем только самое лучшее! – предлагает Отто. – Когда русские окажутся тут, тебе придется выбросить половину того, что ты сейчас взял.
Отто прав. Но что значит «самое лучшее»? Нам, сильно изголодавшимся за последние недели, все кажется ценным. Откуда взялись эти прекрасные продукты? Почему на фронте мы не видели ничего подобного? Кому предназначалась эта прекрасная твердокопченая колбаса и нежная розовая ветчина? На передовой мы в лучшем случае получали мягкий сыр или консервированную колбасу. В одном углу обнаруживаю ящики с шоколадом в банках. За все время моей военной службы я пробовал его лишь дважды.
– Ты только посмотри на это чудо! Настоящее жидкое золото! – зовет меня Отто и поднимает руку с зажатой в ней бутылкой превосходного французского коньяка. – Намного отличается от шнапса, который мы обычно получаем!
Мой товарищ разрывает несколько упаковок с «подарками для фронтовика», которые мы так редко получаем. Из них он забирает лишь пачки сигарет и решительно выбрасывает остальное. Непонятно, для кого и для каких случаев хранились на складе все эти сокровища, в то время как мы на передовой страдали от голода и ничего не ели по нескольку дней.
– Может, это предназначалось не для нас? – хочу знать я.
– Для нас, но самое лучшее разворовывалось по пути на передовую. Все уходило в штабы, я сам это видел, – отвечает Отто. – От увиденного у меня глаза лезли на лоб. Я же был вестовым, так что повидал немало. Так всегда бывает, когда продукты проходят через множество рук. Преимуществами пользуются даже не старшие офицеры, а те, кто хотят «подмазать» начальство. На кухнях царят точно такие же нравы. Лучшее идет начальству, которому подхалимы готовы лизать задницу. – С этими словами Отто засовывает в рот кусок сыра из пайка.
– Хорошо бы иметь такую шикарную должность и распоряжаться этой вкуснотищей! – заявляет какой-то солдат, наполовину опустошив бутылку коньяка.
– Да, это было бы неплохо, но такая паскудная работенка не для нас, обычной «пехтуры», верно? – Мой товарищ хватает этого парня за плечо и решительно добавляет: – Мы слишком долго кормили вшей в окопах!
Старший фельдфебель торопит нас. Нужно уходить, потому что до взрыва остаются считаные минуты. Захожу в комнату, где лежит военная форма и сапоги. Поскольку мои сапоги сильно прохудились и пропускают воду, я быстро примеряю новую пару. Однако в спешке я выбираю сапоги, которые на размер больше требуемого. Я рассчитываю носить их с дополнительной парой носков или обернув ноги газетами. Этого не следовало делать, потому что идти в них по дорожной грязи очень трудно, и я быстро натираю в кровь ноги. Иногда сапоги застревают в грязи, и их приходится вытаскивать с немалым трудом. Идти мучительно больно. Я часто отстаю от других солдат, но мой верный Отто не бросает меня. Он тоже сильно натер ноги, но терпеливо выносит тяготы отступления и не жалуется.
Я часто удивляюсь тому, откуда у меня еще берутся силы и как мне удается упрямо идти вперед. Лучше все-таки идти, потому что когда я останавливаюсь, то на меня сразу накатывает невыносимая боль. Теперь мне понятно – когда на кону стоит твоя жизнь, ты готов вынести любые испытания. В первый же день я испытываю адские муки. Ночью я не могу спать, и из короткого забытья меня вырывают крики товарищей, предупреждающие о приближении советских войск. Позднее меня по ночам мучают кошмары другого рода. Я просыпаюсь от ощущения, будто вокруг меня раздаются истошные крики идущих в атаку красноармейцев. Это было ужасно! Дать отпор врагу в подобной реальной ситуации я вряд ли смогу. У меня остался лишь пистолет, а у пулемета, который таскает с собой Отто, давно закончились патроны. В тех случаях, если нам приходится спешно покидать место ночлега, я предпочитаю бежать, какую бы боль мне ни причиняли стертые в кровь ноги. Тем, кто не успевает бежать, остается лишь посочувствовать.
Мы слышали, что их пристреливали на месте или закалывали штыками. Иные кидаются на врага с голыми руками, другие бросаются на колени и умоляют пощадить их. Советские солдаты в таких случаях со смехом уничтожают и тех, и других. Я не слышал о том, чтобы наших солдат брали в плен.
Проходит несколько дней, и нас перестают преследовать громогласные крики наступающих советских солдат, однако теперь они обходят нас с флангов, причем порой очень близко. При этом они даже не удосуживаются открывать по нам огонь. Мы действительно представляем собой жалкое зрелище – оборванные, голодные, усталые. Они как будто насмехаются над нами, двигаясь вперед победоносной гордой поступью. За ними следуют обозы, нагруженные всевозможным добром. Ситуация возникает гротескная – мы видим врага вблизи и безучастно наблюдаем за его передвижениями, не вступая с ним в бой и лишь угрожающе вскидывая сжатые кулаки.
Иногда картина меняется – наступающие части Красной Армии натыкаются на сильное вооруженное сопротивление отрядов немецких солдат. После этого они быстро отходят, оставляя множество убитых русских женщин и детей на дорогах и в деревенских домах. Это вызвано ненавистью к немцам и к тем, кто был вынужден служить им в дни оккупации. Они не спрашивают, добровольно или принудительно пошли эти люди на службу немцам, им достаточно лишь того, что они жили на оккупированных землях. Красная Армия требует беспрекословного подчинения согласно патриотическому лозунгу большевиков: «Лучше смерть, чем рабство!» Такие же слова всегда звучат с победившей стороны, и главный мотив – ненависть к тем, кто думает иначе. Если все вынуждены поступать вопреки собственной воле или вопреки убеждениям, то такое положение не приведет ни к чему хорошему. Женщины, убитые своими соотечественниками-солдатами, были самыми обычными крестьянками. Видит бог, они не хотели сотрудничать с оккупантами, им просто хотелось выжить в тяжкие дни войны.
Эти кровавые эпизоды и мысли о них заставляют меня более решительно двигаться вперед. У меня такое ощущение, будто я иду по колено в крови. Когда мы добираемся до деревни, из которой отряду наших солдат только что удалось выбить русских, я испытываю нестерпимую боль. Я просто не могу стоять. Мои ноги как будто горят огнем, мне кажется, будто я долго шел по раскаленным углям. Впервые в жизни я кричу от боли:
– Мне конец, Отто! Мне не дойти на таких ногах до Буга!
– Ты должен дойти! – настаивает Отто и пытается успокоить меня. Мы метров на сто отстаем от основной массы нашего отряда. На нас никто не обращает внимания. Да и с какой стати? Все смертельно устали. Какая разница, все ли дойдут до конца пути? Разве важно, что кто-то отстанет и погибнет? Но я не хочу умирать! Стискиваю зубы и снова ковыляю вперед. Адский огонь вряд ли может быть мучительнее боли в моих израненных ногах. До крови закусываю губу, чтобы не лишиться последних волевых усилий. Какое-то время спустя боль делается невыносимой, и я решаю отдаться на произвол судьбы. Я до конца исчерпал запас физических сил, моя воля парализована. Я больше не могу идти, мне не сделать и шага. Я со стоном опускаюсь на грязную землю. Отто заставляет меня встать и идти дальше. Он ругается на меня, кричит, прибегает к увещеваниям. Я не реагирую на его слова, мой моральный дух сломлен.
– Все кончено, Отто! Больше не могу! Я остаюсь здесь. Делай, что хочешь, мне все равно! – со стоном отвечаю я. – Брось меня! Если русские придут сюда, я воспользуюсь пистолетом. Поторопись, друг, ты еще успеешь догнать остальных!
– Прекрати! Хватит нести чушь – резко обрывает меня мой товарищ. – Давай хотя бы дойдем до ближайшей хаты. Там немного отдохнем и потом сможем пройти еще немного.
Он подставляет мне плечо, закидывает на него мою руку и помогает сделать первый шаг. Меня пронзает жаркая волна боли, к горлу подкатывает тошнота. Неужели мне действительно конец? Черт побери! На фронте я часто бывал в разных переделках, месяцами подвергал свою жизнь опасности, получал незначительные ранения в опасных боях, и вот теперь моя жизнь висит на волоске из-за пары паршивых армейских сапог, которые жутко натерли мне ноги, содрав кожу едва ли не до костей! Никогда не думал, что может случиться такое. Я давно мог бы снять сапоги и идти босиком, как поступают многие наши солдаты. Однако когда я вижу, что стало с их ногами и думаю об их болячках и инфекции, которую они наверняка подцепили в дорожной грязи, решаю не делать этого. Кроме того, сняв сапоги, я, пожалуй, больше не смогу натянуть их снова на свои распухшие ноги.
С помощью Отто мне удается устроиться в ближнем деревенском доме. Он пуст. К нашей радости, мы находим в одной из комнат кусок хлеба и свеклу в стеклянной банке. Пища придает нам сил и немного поднимает настроение. Тем не менее, чувствую себя смертельно усталым. Я не уверен, смогу ли идти дальше. Пока Отто осматривает дом и окружающую местность, я ложусь на топчан, накрываюсь одеялом и мгновенно засыпаю.
Слышу голос, доносящийся как будто издалека. Кто-то зовет меня по имени. С великим трудом заставляю себя подняться и медленно плетусь к двери. Отто, стоящий на другой стороне улицы, призывно машет мне рукой. Рядом с ним стоят две низкорослые русские лошадки с какими-то веревками вместо нормальной уздечки. Мой товарищ расплывается в довольной улыбке.
– Мне понадобилось добрых полчаса, чтобы обуздать этих красавцев. Они – наш единственный шанс выбраться отсюда. – С этими словами он забирается на одного из скакунов, сует мне в руку веревку, которой взнуздан второй, и спрашивает, умею ли я кататься верхом.
Мой конек невелик ростом, и я без усилий забираюсь на него, сжав коленями его бока. Он тут же начинает брыкаться, становится на передние ноги и, задрав круп, пытается сбросить меня. Я соскальзываю вперед и едва не слетаю на землю, однако в последний момент мне удается вцепиться в мохнатую гривку.
– Давай! Давай! – по-русски кричит Отто, ударяя пятками по бокам своего конька. Тот трусит вперед, обгоняя меня на несколько метров. Мой скакун бежит следом. Мне стоит больших трудов удержаться на нем и не свалиться на землю. Со стороны все может выглядеть довольно забавно. Ехать верхом неплохо, если, разумеется, обладаешь опытом. Я катался верхом только раз в жизни. Это было в первый год войны, когда нам в школе приказали перевезти урожай. Я хорошо помню ту верховую прогулку, она показалась мне несложной и вполне приятной, в отличие от катания на этом четвероногом низкорослом и коварном создании.
Конек Отто скачет слишком медленно, и поэтому моему другу приходится похлопывать его по холке и подгонять ударами каблуков в бока. Впрочем, пользы от этого практически никакой. Кроме того, упрямый скакун все время пытается укусить его. Мой конь подражает поведению своего собрата. Возникает впечатление, будто оба животных сговорились вести себя одинаково. Мне с трудом удается сохранять равновесие, я еду, вцепившись в гриву своего скакуна.
– Этот дьявол меня скоро в могилу сведет! – жалуюсь я. Меня покачивает из стороны в сторону, как пьяного. Чувствую себя мешком с тряпьем, который везут в старой садовой тачке. Каждая неровность дороги болезненно ощущается во всем моем теле. Особенно плохо приходится моему заду, постоянно ударяющемуся о костлявый хребет низкорослого коня.
– Я больше не могу, Отто! Я лучше слезу и пойду пешком! – жалобно произношу я.
Отто оборачивается и тут же быстро нагибается, прижимаясь к голове своего конька.
– Русские! – кричит он. В следующую секунду раздаются винтовочные залпы. Стреляют где-то возле соседних домов. Пули свистят у нас над головой.
Мой конь заставляет меня дернуться вперед, затем переходит на галоп. Мне приходится прижаться грудью к его холке и крепко вцепиться в гриву. Мы легко перегоняем Отто, конек которого тоже перешел на галоп.
Неожиданно я даже испытываю радость от езды. Мне кажется, будто я покачиваюсь в колыбели. С удовольствием отмечаю, как быстро сокращается расстояние между нами и врагом. Оба коня удачно миновали последние деревенские дома и все так же галопом устремляются в открытое поле. Затем мой скакун, по-прежнему мчащийся впереди, внезапно останавливается и начинает храпеть. Хлопья пены летят мне в лицо.
Когда я оборачиваюсь, то вижу моего друга, мчащегося мне навстречу. Гривка его скакуна развевается на ветру, а сам Отто в меховой шапке напоминает мне лихого казака на марше. Он останавливается рядом со мной. Несмотря на то, что сумерки наступят еще не скоро, оставшейся позади нас деревни уже не видно.
Мой конь переходит на рысь, и я снова начинаю раскачиваться из стороны в сторону, как мешок с тряпьем. Позднее мы подъезжаем к новой деревне. Мой скакун застывает на месте, не желая больше двигаться вперед. Конь Отто следует его примеру. Теперь животные, как мне кажется, с презрением смотрят на нас.
– Нужно спешиться, – говорит Отто. – Они почему-то упрямятся. Я такое уже и раньше видел – местные лошадки непредсказуемы.
– Отлично. Пойдем пешком. Подождем, когда они образумятся. Пусть немного разомнут ноги, – отвечаю я, радуясь тому, что скачки на какое-то время прекратятся. У меня болит все тело. Особенно тяжело пришлось моей «пятой точке». Тем не менее, благодаря сну и еде, мои силы восстановились, а ногам стало лучше. Мне уже не так больно идти.
Приближаемся к деревне. Отто разглядывает ее в полевой бинокль. Там полно русских солдат. Нам срочно приходится обходить ее стороной, и мы тут же ныряем в овраг. Когда деревня почти остается у нас за спиной, нам вдогонку неожиданно гремят выстрелы. Стреляют сзади и откуда-то сбоку. Мы снова вскакиваем на коней, у которых, к счастью изменилось настроение. Они тут же срываются с места и, перейдя на галоп, мчатся вперед с такой скоростью, будто за ними гонятся черти. Прекрасно! Кони переходят на рысь только после того, как мы удаляемся от деревни на порядочное расстояние и выезжаем на широкую дорогу.
Движемся на запад по непролазной грязи дорог и открытой степи. Часто идет дождь и дует сильный ветер. Мерзнем. Чуть позже пускаем коней пощипать травы, и поим их водой. Однако вместе благодарности те продолжают упрямиться. Время от времени они останавливаются, и никакая сила на свете не способна заставить их сдвинуться с места. Даже когда мы пытаемся припугнуть их, стреляя в воздух, они никак не реагируют на это. Маленькие дьяволы прекрасно понимают, что стреляет их временный хозяин, а не враг. Когда мы ласково треплем их по холке, агрессивные коньки не покупаются на лесть. Мы предполагаем, что раньше с ними жестоко обращались. Каждый раз, когда мой конь смотрит на меня своими желтоватыми глазами, противясь моей команде, у меня возникает ощущение, что четвероногий строптивец просто смеется надо мной.
Лишь после того, как мы накрываем наших скакунов вместо попоны старыми армейскими одеялами, они немного смягчаются и более великодушно ведут себя, позволяя недолго проехать на них. Впрочем, кони по-прежнему останавливаются, когда им заблагорассудится, и все повторяется сначала. Мы абсолютно зависим от настроения этих косматых созданий, однако испытываем огромную благодарность за то, что с их помощью нам удается немного сберечь силы и пощадить свои натруженные ноги. Правда, постоянно дает знать о себе мой многострадальный зад, отбитый о костлявый круп моего коня. Где-то далеко за Ингулом и ближе к реке Еланец наш кавалерийский поход завершается. Однажды мы заходим в деревню и отправляемся на поиски жилья, привязав наших коней к дереву. Вернувшись, не находим их. Судя потому, что веревки аккуратно отвязаны, а не оторваны, мы приходим к выводу, что коней украли. Это дело рук кого-то из наших солдат. Вместе с конями исчезли и наши одеяла.
В середине марта наступает самый пик распутицы. Мы снова присоединяемся к массе отступающих немецких солдат. Сопротивление оказываем лишь в тех случаях, когда враг подходит к нам слишком близко. Начальство постоянно пытается сформировать из усталых деморализованных людей боевые части, но после коротких боев с противником они сразу же рассеиваются.
Однажды мы оказываемся на продуктовом армейском складе. Набиваем карманы шоколадом, сигаретами и прочим добром. В ту минуту, когда мы собираемся отрезать толстый кусок колбасы, где-то рядом раздаются взрывы мин. Стоящий снаружи солдат истошно кричит:
– Русские идут!
Все бросаются к выходу. Какой-то унтер-офицер бежит от машины к складу. В руках у него пара канистр. Он поливает бензином стены здания и поджигает их. Языки пламени взлетают в небо. Русские уже возле дальнего края склада. Мы бросаемся к машинам, чтобы поскорее убраться прочь. Все отталкивают друг друга, пытаются забраться в грузовики раньше остальных.
Нам удается уцепиться за борт одного из грузовиков. Какой-то солдат сердито кричит нам:
– Места больше нет, товарищи! Не лезьте сюда, иначе мы все тут погибнем! – С этими словами этот мерзавец бьет нас по пальцам обутой в сапог ногой. Разжимаем руки и валимся в грязь. Подобным образом сталкивают и других солдат.
Отто в ярости.
– Они совсем озверели! Разве это люди? Да они хуже животных! Им плевать, что другие люди погибнут тут! Они на все готовы ради того, чтобы спасти собственную шкуру! И этот негодяй смеет называть нас «товарищами»! «Извините, товарищи»! «Места больше нет, товарищи»! – передразнивает он того солдата. – Вот сволочи! Драпают, бросая своих в беде! Я бы ему показал, попадись он мне в руки! Я бы ему морду в кровь разбил! Да что такие, как он, знают о фронтовом товариществе! Шкурники проклятые! Они произносят слова, не зная об их истинном значении! – Наконец, ярость моего друга сходит на нет, он успокаивается. Я с ним полностью согласен и готов подписаться под каждым его словом.
Мы торопливо отряхиваемся и бежим по следу, оставленному нашим вездеходом. Русские уже совсем близко, они открывают огонь по отдельным немецким солдатам, пытающимся укрыться среди домов.
– Вон еще один вездеход! – кричит Отто. – Нужно попытаться сесть в него, иначе нам крышка!
Вездеход битком набит людьми. Мы бежим рядом с ним и машем руками, пытаясь привлечь к себе внимание. Из кабины высовывается незнакомый нам штаб-вахмистр и приказывает водителю ехать медленнее. Тот сбрасывает скорость, и вездеход едет едва ли не прогулочным шагом. Мы замечаем, что на погонах штаб-вахмистра такая желтая окантовка, как и у нас. Тот тоже обращает внимание на наши погоны, протягивает нам с Отто руки и спрашивает:
– Из какого эскадрона?
– Из первого эскадрона 21-го полка! – отвечаем мы в унисон.
– Залезайте! Я из восьмого эскадрона! – отвечает он, расталкивает солдат, отправляет одного из них в кабину, чтобы освободить для нас места.
Мы на ходу заскакиваем в вездеход и держимся за ручку двери. Это именно то, что называется спасением в самую последнюю секунду!
Нам остается благодарить судьбу за то, что у советских солдат нет тяжелого оружия, иначе мы бы так легко не отделались. Мы смогли отступить с минимальными потерями, у нас всего несколько легко раненных, в их числе и я. Меня рикошетом ранило ниже колена. Это даже скорее не рана, а царапина. Проблем она у меня не вызвала, на следующей же остановке я залепил ее пластырем.
Хотя мы на несколько часов потеряли из вида остальные машины, нам удалось переехать по мосту на другой берег реки Еланец. Там мы встречаемся с другой боевой частью, в которой оказалось много солдат из нашего подразделения. Один офицер пытается организовать контратаку, чтобы сдержать наступающего противника. Это нам удается, и мы на короткое время отбрасываем врага. В одной из заново освобожденных деревень я беру у мертвого советского офицера автомат немецкого производства и несколько обойм. На его руке я замечаю две пары немецких часов.
В деревне мы снова находим свидетельства зверств, творимых советскими солдатами в отношении своих соотечественников. Проклятая война! В чем же виноваты перед ней женщины и дети? Я думаю о Кате из Днепровки, вспоминаю ее заклинания, мольбу о скором конце войны. Война капут. Как часто она и другие женщины молили об этом! Теперь, если части Красной Армии войдут в Катину деревню, ее наверняка ждет смерть. Ненависть к тем, кто жил на оккупированных территориях, носит зверский характер, она неистребима и настолько вошла в плоть и кровь красноармейцев, что они начинают убивать свой собственный народ.
И при этом большевики пишут в сбрасываемых нам листовках, что будут хорошо обращаться с нами, если мы добровольно сдадимся в плен!
Через несколько дней мы выйдем к берегу Буга. Это нечто вроде места сбора наших отступающих частей. Нам сообщают, что сильная группировка вермахта остановит и надолго задержит здесь неприятеля. Но прежде чем мы доберемся до этой реки, нам придется пережить несколько опасных дней. Наша часть сильно разбросана под мощным натиском наступающих советских войск. Испытываемые нами тяготы усугубляются проливным дождем, превращающим дороги и поля в настоящее болото, в котором вязнут и люди, и техника. Мы медленно бредем вперед, держась за борта конных подвод. Натянутый на них сверху брезент оглушительно хлопает на ледяном восточном ветру, совсем как парус. Зрелище малоприглядное.
Повозки, запряженные упрямыми и выносливыми местными лошадьми, – единственное средство передвижения для наших войск в настоящих условиях. Замерзшие, усталые и голодные как волки, мы, наконец, добираемся до сборного пункта на берегу Буга. Наша часть уже переброшена из Вознесенска в Кантакусенку, на западный берег Буга, где находится еще один сборный пункт. Здесь мы узнаем, что наша часть уже почти полностью перевезена на «юнкерсах» в Кишинев. Мы с Отто проводим в Кантакусенкетри дня, приводим себя в порядок и снова до известной степени ощущаем себя людьми. Затем, когда начальство решает, что все отбившиеся от своих частей солдаты прибыли на сборный пункт, нас на старом «юнкерсе», в котором нет сидений, перевозят в Кишинев, где уже находится наш эскадрон. Хотя я уже совершал полеты на планере – это было в Зенсбурге в Восточной Пруссии, – это мой первый полет на моторном самолете. Следует признаться, что я получаю огромное удовольствие от этого полета и не в последнюю очередь при мысли о том, что мы, наконец, покидаем Россию!
Глава 12. СМЕРТЕЛЬНОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
По сравнению с грязью и убогими деревнями России город Кишинев похож на шкатулку с драгоценностями. В нем даже есть нечто европейское. Сегодня 27 марта. Говорят, что Красная Армия уже перешла реку Прут и ступила на землю Молдавии. В Кишиневе уже нет подразделений связи, так что на его улицах теперь можно встретить только солдат из немецких и румынских фронтовых частей. Весеннее солнце пока еще лишь пробует свои силы, позволяя нам несколько дней наслаждаться относительным теплом. Почти ежедневно нам выдают вкусное золотистое румынское вино. После нескольких недель кошмара, который мы испытали при отступлении к Бугу, чувствуем, как к нам возвращаются силы и хорошее настроение, даря надежду на лучшее будущее.
Однако это продолжается недолго. Противник, продвижение которого тоже сильно затрудняется бездорожьем, пустил вперед танки и тяжелое вооружение, прорвал румынский фронт на участке Яссы – Роман и занял важные железнодорожные узлы между Кишиневом и Яссами. Мы получаем приказ отбить их у врага, и выполняем поставленную задачу при поддержке панцергренадерского полка «Гросс Дойчланд». Это не часть войск СС, носившая такое же название, а другая, хорошо снаряженная боевая часть вермахта, по соседству с которой нам часто приходилось воевать и раньше.
В эти дни я снова был ранен в ногу, но мне удалось несколько дней отдохнуть в тылу. У Вольдемара и Густава Коллера тоже возникают проблемы. В результате предыдущего ранения в ногу Густав не может бегать и поэтому вынужден оставаться в обозе. С того времени как мы перебрались в Румынию, его и Вариаса назначили в наше пулеметное отделение. Тем временем наши обозы переводят в Яссы, город с населением в 100 тысяч человек.
1 апреля. Нашу часть снова используют в боях с подразделениями Красной Армии, прорвавшими линию обороны румынских войск. Бои идут в районе Горлешти. Я все еще нахожусь в тылу и радуюсь, что пока могу немного побыть вдали от передовой. Погода ухудшается. Утром идет дождь, днем он сменяется сильной метелью, подобные которой я видел лишь в 1942 году в России. Очень быстро все вокруг завалено снегом, и дороги становятся непроходимыми. Оружие настолько замерзает, что нам приходится на какое-то время отложить контратаку.
6 апреля. Снежная буря бушевала три дня, и только сегодня мои товарищи смогли вернуться в тыл. Им пришлось пережить нелегкое время.
7-14 апреля. Враг находится всего в четырех километрах от Ясс. Он снова прорвал линию обороны румынских войск силами танков и пехоты и теперь стремительно продвигается к этому городу. В то время как наша часть охраняет позиции на северном фланге, 26-й полк и несколько танковых батальонов наступают на противника. Наше подразделение перебрасывают на этот участок фронта чуть позже, и на нас тут же обрушивается целая орда советских бомбардировщиков. В следующие дни мы участвуем в тяжелых боях и стараемся отсекать отдельные отряды Красной Армии от основной массы атакующих войск. В результате враг вынужден замедлить наступление. В праздник Пасхи мы врываемся в траншеи, удерживаемые советскими солдатами, и заставляем их отступить обратно на север.
15 апреля. Румынам удается вернуться на свои прежние позиции. Мы не устаем удивляться тому, что румынские офицеры идут в бой картинно, как на параде, они одеты в нарядные, тщательно отглаженные мундиры. Когда у меня возникает возможность поговорить с румынским солдатом, родившимся в районе Баната, который неплохо говорит по-немецки, я узнаю от него, что их офицеры часто покидают позиции по ночам. Они ездят в Яссы, чтобы «поразвлечься с женщинами». Именно этим, по моему мнению, и объясняется то, почему румыны независимо от силы вражеского наступления покидают свои позиции и отправляются в «самоволку». Между офицерами и солдатами румынской армии существуют отношения, которые просто не укладываются у меня в голове. Офицеры относятся к своим подчиненным, как к рабам. Я нередко видел, как они избивали рядовых и всячески унижали их. Это настоящее Средневековье. Кстати, подобные нравы я наблюдал и в венгерской армии. Однажды, когда мы в Яссах занимали позиции рядом с румынскими частями, то часто слышали по ночам звуки оргий, которые устраивали офицеры союзной армии. Когда нам это надоедало, мы «мило» шутили – стреляли в воздух из винтовок или взрывали пару гранат, чтобы попугать их. Мы заходились в безумном хохоте, наблюдая за тем, как пьяные полуодетые офицеры-союзники бестолково бегают по траншеям.
18–22 апреля. Вольдемар Крекель и Густав Коллер рекомендованы к представлению на звание унтер-офицеров. Я помогаю подготовить требуемые для этого документы. В нашем эскадроне все знают, что у меня нет желания становиться младшим командиром. Я никогда не объяснял этого моим товарищам, потому что не хочу, чтобы меня неправильно поняли или не стали обвинять в том, будто я уклоняюсь от ответственности. Мне кажется, что я стал умелым солдатом и научился, как я всегда надеялся, неплохо обращаться с пулеметом. Я считаю, что принесу больше пользы моей части в качестве простого пулеметчика. Но я ни от кого не скрываю тот факт, что без пулемета я как будто чувствую себя голым. Я участвовал в жестоких боях и то, что мне посчастливилось остаться в живых, объясняю божьим благословением, а также тем, что, на мое счастье, в нужную минуту у меня всегда под рукой оказывался мой верный пулемет, от которого зависит моя безопасность. Я также горжусь тем, что вместе с Фрицем Хаманном являюсь последним «первым пулеметчиком» нашего эскадрона, выжившим после кровавых сражений сентября 1943 года и последующих боев и не получившим серьезных ранений. Благодаря нашему скромному вкладу в общее дело, эскадрон все еще остается успешным и боеспособным подразделением.
Тяготы военного времени наложили на меня некий отпечаток. Постоянное нервное напряжение требует все больше времени для восстановления физических и моральных сил. Немного прийти в себя от ужасов войны удается лишь во время регулярных отпусков, однако даже кратковременное пребывание дома в кругу родных не способно полностью излечить мою исстрадавшуюся душу.
25 апреля. Во время непродолжительного затишья и отдыха бойцов нашего эскадрона награждают орденами и медалями. Кроме нескольких Железных крестов 1-го класса, мы получаем два Железных креста 2-го класса. Последние награды получает один фельдфебель из стрелкового взвода и я. За участие в рукопашных боях на никопольском плацдарме и во всех последующих мы, старожилы эскадрона, также награждаемся специальными серебряными значками. Впрочем, эти награды не слишком укрепляют мой моральный дух. Меня до сих пор еще не отпустил тот ужас, который я испытываю с тех самых дней, когда под Рычовом начались безумные гонки со смертью.
Нынешняя фронтовая обстановка существенно отличается от прежней. Я думаю, что мое душевное беспокойство вызвано многочисленными рукопашными боями, которые выпали на мою долю на передовой. Они сильно закалили меня, но за это приходится платить высокую цену. Когда несколько дней спустя я задумываюсь об этом, то прихожу к выводу, что мое нынешнее психическое состояние равносильно разглядыванию окружающего мира через некую спасительную завесу, своего рода фильтр, отсеивающий отрицательный опыт. Как только закончится война, он спадет, и я снова стану нормальным спокойным человеком. Позднее я прихожу к выводу, что внутреннее беспокойство всегда предшествует ранению, пусть даже и самому незначительному.
28 апреля. После того, как командиром эскадрона назначили нашего обер-лейтенанта, даже мы, уставшие от боев старожилы, чувствуем, что в нас снова зарождается воля к сражениям и победам. Его властная уверенность в собственных силах, проявленная в дни тяжелых боев в Румынии, придает нам силы и желание победить врага. Наш командир всегда находится в первых рядах наступающих, он ведет нас вперед под вражескими пулями к победе. Мы знаем, что готовы следовать за ним куда угодно, и в огонь, и в воду. Однако временами он бывает суров и даже безжалостен. Он не щадит ни других, ни себя. Даже во время мощных артиллерийских обстрелов, под градом снарядов или мин, он не надевает каску. Волосы у него темные, немного вьющиеся. Он всегда носит пилотку, что придает ему элегантный, молодцеватый вид. Несмотря на то, что наш обер-лейтенант несколько раз был ранен, он, как и все мы, верит, что непременно останется жив. Поскольку ему посчастливилось выйти живым и невредимым из серьезных передряг, мы считаем его символом неуязвимости. Поэтому мы были потрясены до глубины души, когда его жизнь оборвалась взрывом вражеского снаряда.
Однако не буду забегать вперед и опишу события в их хронологической последовательности. Начну с того, что в один прекрасный весенний день мы находимся на позициях близ румынской деревушки и радуемся солнцу и теплу. Хотя нам не видны передвижения врага в деревне, мы точно знаем, что он уже занял ее. Все вокруг тихо и безмятежно спокойно. Сегодня солнечный день, глаз радует сочная зеленая трава. Мы млеем от тепла, даже я на минутку вздремнул в окопе. Ищу глазами командира, который сидит на земле в соседней низине. Он ножом остругивает какую-то палочку. Мои товарищи радуются весеннему теплу и неожиданному короткому затишью в череде жестоких кровавых боев. Не слышно ни стрельбы из винтовок или пулеметов, ни взрывов артиллерийских снарядов или мин. Лишь иногда из деревни доносятся пьяные вопли русских солдат и пронзительные крики румынских крестьянок.
Всего несколько дней назад я вытащил пьяного в дым Ивана из постели какой-то истошно вопившей румынки в только что занятом нами селе. Он был настолько пьян, что не понимал происходящего, явно забыв о том, что идет война и мы, немцы, – враги советских солдат. Поскольку его невозможно было поставить в строй вместе с остальными пленными, мы решили снять с него всю одежду, которую тут же кинули в колодец. Затем мы бросили его в навозную кучу. К несчастью, у нас не было времени, чтобы проследить за его дальнейшей судьбой, нам оставалось надеяться, что румынские женщины не позволят ему бежать.
Мы как раз обсуждаем этот курьезный случай между собой – я, Вариас и Фриц Хаманн, – когда слышим голос нашего командира.
– Что там случилось с Иванами? – удивленно произносит он, заходит в мой окоп и начинает в бинокль рассматривать деревню.
– Они, должно быть, заразились какой-то тропической болезнью! – удивленно говорит он и начинает смеяться. Посмотрев на деревню в бинокль, я тоже не могу удержаться от смеха.
– Они, похоже, пьяны, герр обер-лейтенант! Танцуют как безумные! – замечаю я.
Тем временем все наше подразделение заходится от хохота. Солдаты недоумевают по поводу странного поведения русских, высказывают самые разные предположения. Действительно, почему они, оказавшиеся прямо перед деревней, дергаются, бегают и пританцовывают как ненормальные? Должно быть, так отплясывали американские индейцы, собираясь ступить на тропу войны. Я когда-то читал о них в переводных романах о приключениях ковбоев на Диком Западе. Затем неожиданно начинают вести себя подобным образом и солдаты из ближних к деревне траншей. Они выскакивают и перемешиваются с «танцорами», прибежавшими из деревни. До нас доносятся их громкие недовольные крики. Что же все-таки происходит? Неужели русские напились так, что впали в состояние необъяснимого буйства? Мы продолжаем строить самые разные предположения на этот счет.
Вариас, стоящий в соседнем окопе, зовет нас.
– Они, должно быть, перегрелись на солнце. Эй, смотрите, да они бегут прямо на нас!
И верно! Теперь я это и сам вижу. Кучка советских солдат бежит прямо на нас с такой скоростью, будто за ними по пятам следуют черти. При этом они отчаянно размахивают руками, как будто пытаются взлететь.
Что это – неужели новая тактика русских? Я занимаю позицию за пулеметом и беру на прицел приближающегося противника. На меня мчатся человек двадцать. Скоро они достигнут траншей, в которых на правом фланге размещены наши стрелковые взводы. Обер-лейтенант, в полевой бинокль наблюдающий за стремительно бегущим противником, успокаивающе кладет руку мне на плечо.
– Не стреляй! Они без оружия!
Я тут же отнимаю руки от пулемета и наблюдаю за тем, как русские один за другим перескакивают через окопы и бегут дальше. Наши солдаты пригибаются в окопах, давая русским промчаться вперед, вглубь наших позиций.
– Какого черта? Что происходит?! – слышу я голос нашего разгневанного командира.
– Пчелы! – отвечает кто-то. – Это рой обезумевших диких пчел!
Некоторые наши солдаты поспешно выскакивают из окопов и бегут вслед за русскими.
Значит, во всем виноваты пчелы. Это они вызвали такую панику, что русские солдаты побросали оружие и бросились с голыми руками на вражеские позиции! Со стороны это казалось забавным зрелищем. Однако мы рады тому, что враг не побежал именно на наши окопы. Одному богу известно, что значит подвергнуться налету пчелиного роя.
Русские солдаты, которые оказались в расположении нашей части, и многие наши товарищи сильно покусаны. Чтобы положить конец пчелиному террору, кто-то предлагает разогнать агрессивных насекомых пучками подожженной соломы. Таким образом, нам удается взять девятнадцать пленных. Однако прежде всего им оказывают медицинскую помощь. У двух солдат головы распухли от укусов так, что напоминают шары.
29 апреля. Утром, на рассвете, наши танки осторожно переходят в наступление. Они передвигаются настолько бесшумно, что мы замечаем их присутствие только тогда, когда они оказываются у нас за спиной. Наша артиллерия открывает огонь, и мы бросаемся в атаку. Нам удается застать противника врасплох, и он поспешно отступает к деревне. При этом он оставляет технику и обозы. Трофейные повозки доверху набиты продуктами и бочонками с вином. Победоносная Красная Армия живет просто по-королевски. Ее лозунг такой: «Ешь, пей и насилуй румынских женщин!» За нами наступают румынские войска, которые повторно занимают деревню. Там начинается бой. Тем временем, после короткой остановки, мы следуем на северо-запад, в направлении города Горлешти.
При поддержке румынской артиллерии и собственных штурмовых орудий мы вынуждаем врага отступить и перейти к обороне. Кстати сказать, русские обороняются весьма решительно. Особенно серьезные бои ведет наша авиация против авиации противника. Некоторое время спустя мы достигаем позиций советских войск, и там нас встречает мощный орудийный и минометный огонь. Русские больше не намерены отступать, и наше наступление захлебывается. Мы, скорчившись, прячемся в укрытиях, которые повсеместно в изобилии нарыли Иваны.
– Устанавливайте пулемет и ждите команды! – приказывает нам командир, наблюдая в бинокль за лесом, протянувшимся впереди и слева от нас, откуда красноармейцы ведут сильный пулеметный огонь. Они прочно засели на своих позициях прямо перед нами и, по всей видимости, установили в лесу минометы. Они ведут такой мощный обстрел, что осколки, пролетающие над нашими головами, впиваются в землю в опасной близости от нас. Нам приходится вжиматься в землю при каждом взрыве. Вариас, находящийся рядом со мной, жалуется:
– Черт побери! Сейчас каски были бы очень кстати! Какими же мы были идиотами, когда не вспомнили о них и не забрали из машины!
Он прав, я тоже не вспомнил о каске, которую оставил в грузовике и вместо которой надел пилотку. Да кто же мог подумать, что русские установят в лесу так много минометов? Мы действительно сильно расслабились за последние недели и перестали пользоваться касками, считая, что в жару очень неудобно и неприятно носить их. Однако настоящая причина кроется в нашей беззаботности и уверенности в том, что с нами, старослужащими, ничего не случится. Ведь до этого все было хорошо. Кроме того, наш командир, как я уже говорил, никогда не надевает каску, хотя вестовой, обер-ефрейтор Клюге, всегда носит ее на поясном ремне.
Когда осколки начинают усеивать землю с небывалой скоростью, Клюге снимает каску и протягивает ее командиру. Тот смотрит на нее, затем переводит взгляд на нас.
– Хочет кто-нибудь надеть ее? – спрашивает он. Мы с Вариасом переглядываемся и отрицательно качаем головой.
– Отлично! – обер-лейтенант пожимает плечами и продолжает рассматривать в бинокль вражеские позиции. Вопрос для него решен, однако его ординарец с неуверенным видом стоит рядом. Мы знаем, что Клюге предпочел бы силой надеть на начальника каску. Он обожает обер-лейтенанта и беспокоится за его безопасность даже больше, чем за свою собственную. Но тут он ничего не может сделать и поэтому снова прикрепляет каску к ремню. Клюге и многие другие мои товарищи оказались умнее меня и в самом начале атаки надели каски.
Я выпускаю по вражеским позициям одну очередь за другой. Вскоре обнаруживаю два пулеметных гнезда на краю леса, откуда ведется сильный огонь, наносящий серьезный урон нашим стрелковым взводам на правом фланге.
С громким хлопком прямо перед нами взрывается мина. В землю со свистом впиваются осколки. Один из них ударяет в кожух пулемета, и обер-лейтенант быстро отдергивает руку. По его пальцам струится кровь. Клюге, заметив случившееся из соседнего окопа, приходит в ужас.
– Врача! – кричит он. – Обер-лейтенант ранен! Командир достает носовой платок и прижимает его к ране. Более удивленный, нежели раздосадованный, он подзывает к себе ординарца.
– Ты что, с ума сошел, Клюге? Зачем нужен врач при такой пустяковой ране?
Клюге кричит:
– Не нужно врача! Это легкое ранение! Затем он перевязывает бинтом руку командира.
Я снова берусь за пулемет и поливаю огнем любую фигурку врага, появляющуюся передо мной. Через несколько секунд возле меня взрывается новая мина. Внезапно чувствую боль в верхней губе. Крошечный осколок угодил мне под нос. Кровь течет вниз по губе и попадает в рот. Я сплевываю ее и прижимаю к ранке носовой платок. Нос и верхняя губа тут же опухают.
– Пусть санитары перевяжут тебя и отправят в тыл. Вариас возьмет пулемет на себя! – предлагает командир.
– Пустяки, это только с виду кажется, будто рана серьезная, – отказываюсь я. – Это всего лишь крошечный осколок.
Обер-лейтенант удостаивает меня коротким взглядом и снова приникает к окулярам бинокля.
У меня такое ощущение, будто он и не ожидал от меня иного ответа. Я его подчиненный и не должен расстраиваться из-за каких-то там пустячных ранений. Он, пожалуй, разочаровался бы во мне, если бы я сейчас согласился отправиться в тыл, хотя ранение дает такое право. Признаюсь честно – если бы у меня в то время был другой командир, то я отправился бы в тыл, чтобы дать санитарам перевязать меня и выбраться из-под смертоносного огня вражеских минометов. Нервы у меня порядком растрепаны после долгого пребывания на передовой, чтобы в условиях тяжелого боя я мог терпеть это болезненное и досадное ранение. Я не трус, – мне часто приходилось бывать в самых крутых переделках, – но в то же время не хочется изображать из себя героя.
Теперь, похоже, придется взять на себя исполнение такой роли, потому что товарищи, заметившие мое опухшее лицо, удивляются, почему я еще не отправился в тыл. Обер-лейтенант придает мне физических сил и мужества, и поэтому я остаюсь на передовой. Я испытываю сильную привязанность к нему и готов пойти вслед за ним куда угодно, даже в преисподнюю. Достаточно, по моему мнению, повоевав на переднем крае, я больше не сражаюсь за фюрера, народ и отчество. Эти идеалы теперь для меня не более чем пустой звук. На фронте никто не говорит о национал-социализме и не обсуждает политические темы. Совершенно очевидно, что мы воюем лишь для того, чтобы остаться в живых и помочь выжить своим фронтовым товарищам. Впрочем, порой мы сражаемся ради наших командиров, если они достойны нашего солдатского уважения. В данном случае мы готовы отдать жизнь за нашего обер-лейтенанта, готовы выполнять его приказы, как бы тяжело нам ни было.
А за что же сражается он сам? Будучи офицером, он исполняет присягу и сохраняет верность слову чести.
Насколько мне известно, солдаты уважают его за то, что он честно несет за них ответственность перед вышестоящим начальством и всегда являет собой образец храбрости и офицерского опыта. Когда обер-лейтенант говорит с нами, мы чувствуем, что он взывает к нашей общности и чувству фронтового братства. Мне и моим товарищам это представляется самым важным и ценным в тревожные дни войны. Мы считаем, что только ради этого и стоит воевать, особенно если прочие идеалы отсутствуют. За те месяцы, пока наш командир сражается рядом с нами, мы никогда не слышали от него разговоров о политике или о национал-социализме. У меня такое ощущение, будто он стоит выше всех этих суетных вещей и никогда не примешивает политику к войне. Думаю, что главное для него – воинский долг.
Наш эскадрон не может двигаться дальше из-за сильного огня противника, и обер-лейтенант принимает решение. Посмотрев на левый край леса, он говорит:
– Нужно прорваться в лес и попытаться с фланга обойти позиции врага.
Это трудная задача, считаем мы, особенно если принять во внимание то, что в лесу находится много советских солдат.
Обер-ефрейтор Клюге высказывает вслух мнение:
– Может быть, нашей артиллерии, герр обер-лейтенант, стоит дать по русским хороший залп?
– Зачем? Обойдемся без артиллерии, Клюге. Передай солдатам, что мы выступаем первыми, затем за нами пойдет 1-й взвод!
После этого он обращается ко мне и Фрицу Хаманну:
– Вы прикрываете нас до тех пор, пока мы не войдем в лес, после чего следуете за нами и ждете дальнейших указаний. Понятно?
– Так точно, герр обер-лейтенант!
Через пару минут он возглавляет отряд солдат, устремившийся вдоль скрытой кустарником неглубокой низины в направлении леса. Мы постоянно прикрывали их огнем двух пулеметов. Когда красноармейцы видят, что к ним приближаются немецкие солдаты, то выскакивают из окопов и устремляются в тыл. Обер-лейтенант и ведомые им солдаты приближаются к лесу и скрываются среди деревьев.
– Вперед! За ними!
Я хватаю станок пулемета за две задние сошки, Вариас – за передние. Нагнувшись, мы бежим к краю леса. Рядом с нами бегут Фриц Хаманн и Клемм, недавно вернувшийся из отпуска. Наконец мы оказываемся среди деревьев и получаем возможность перевести дыхание. В следующее мгновение в нашу сторону летят мины, взрывающиеся где-то в верхушках деревьев. Иваны бьют по нам перекрестным огнем.
На нас падают отсеченные осколками ветви. Слышим отдающиеся эхом приказы обер-лейтенанта и треск очередей легкого пулемета и автоматов. Под грохот минометных взрывов ищем укрытия за стволами поваленных деревьев. Ждем дальнейших указаний.
Из дымного облачка гари появляется какая-то фигура.
– Пулеметное отделение? – спрашивает кто-то.
– Это мы. Что случилось? – спрашиваю я.
– Герр обер-лейтенант приказывает переместить второй пулемет на сто метров на правый край леса. Первый пулемет следует за нами для прикрытия нашего фланга.
Фриц Хаманн вскакивает на ноги и мчится вместе с Клеммом через кусты на правый фланг. Спотыкаясь о корни и упавшие ветки, бежим за вестовым. Над нами по-прежнему ухают разрывающиеся мины. Вариас закашливается от быстрого бега и яростно чертыхается. Я слышу его голос, но в адском шуме обстрела не могу разобрать ни слова. Наверное, в эти минуты он думает то же, что и я: мы готовы отдать все на свете за пару армейских касок. Как жаль, что у нас их нет! Единственное, что мне остается, – это вжать голову в плечи и молить господа о том, чтобы в меня не попал шальной осколок или пуля. Чувствую, что кожу головы стягивает от страха. Мне кажется, что волосы мои встают дыбом.
Наконец мы догоняем солдат из наших стрелковых взводов. Среди них уже есть несколько легкораненых. Санитар перевязывает одного из них.
– Где наш обер-лейтенант? – спрашивает вестовой какого-то унтер-офицера.
– Вон там, дальше!
Бежим в указанном направлении. Неожиданно натыкаемся на командира.
– Торопитесь, парни! – говорит он. – Нужно установить ваш пулемет на краю леса. Ваш обер-лейтенант здесь.
С этими словами он исчезает вместе с несколькими солдатами среди деревьев.
Бежим, перескакивая через пни и поваленные ветки, к окраине леса. Цепляемся сошками пулемета за кустарник, спотыкаемся и падаем. Когда мы подбираемся к опушке, до нас доносится пронзительный крик обер-ефрейтора Клюге:
– Врача! Быстро! Обер-лейтенанта сильно ранило! Мы делаем несколько шагов и оказываемся возле Клюге. Потом видим нашего обер-лейтенанта. Он лежит на спине. Его глаза закрыты, лицо пепельно-серое. Рядом валяется автомат. Его ординарец склонился над ним, и пытается бинтом остановить кровь, льющуюся из раны на голове. Ранение вызвано острым куском дерева, срезанным осколками снаряда. Клюге рыдает как ребенок, слезы струятся по его грязному лицу. Мы с Вариасом глубоко тронуты увиденным. У меня к горлу подкатывает тугой комок. К нам подходят другие солдаты. На их лицах выражение скорби. Мы стоим неподвижно и молча смотрим на командира, которого всегда считали неуязвимым.
Остается лишь догадываться, о чем думают сейчас мои товарищи, потому что, несмотря на звучащий со всех сторон грохот, мы все в эти минуты как будто онемели. Если бы сейчас мир прекратил существование, мы, наверное, не сдвинулись бы с места. Мы немного расслабляемся только после того, как унтер-офицер медицинской службы начинает перевязывать раненого.
Глядя на наши встревоженные лица, на которых написан один и тот же немой вопрос, он произносит:
– Обер-лейтенант жив! Но в голове у него застрял осколок. Нужна срочная операция. Его необходимо как можно скорее отправить на медицинский пункт, чтобы им занялись врачи.
После этого он показывает на каску, прицепленную к ремню Клюге:
– Если бы он был в каске, то этого не случилось бы.
Мы знаем, что Клюге не должен винить себя в случившемся, потому что постоянно предлагал начальнику надеть каску.
Наш старший вахмистр, также обеспокоенный состоянием обер-лейтенанта, напоминает нам, что атака еще не завершена.
– Всем занять позиции на краю леса! – командует он.
Прошло всего несколько минут после того, как произошел это трагический случай. Вскоре мы слышим треск пулемета, из которого ведет огонь Фриц Хаманн. Мы с моим вторым номером снова хватаем пулемет за сошки и быстро бежим к опушке. Мне все еще нехорошо от вида нашего раненого командира. Но что делать, мы на войне, и никому не интересно, какие чувства может испытывать простой солдат. Веду огонь не раздумывая, как автомат. Вскоре в небе появляются наши «штуки», которые сбрасывают бомбы на врага. В конечном итоге нам удается отбросить неприятеля назад на несколько километров. Образец мужества, который преподал нам обер-лейтенант, стал определяющим фактором нашей победы. Однако победа оказывается временной и не слишком значительной, потому что за нее заплачено ценой больших потерь. Кроме нашего командира, у нас еще несколько убитых и много раненых.
После того, как мы достигаем главной линии обороны на северном краю леса, мы недосчитываемся Вольдемара и обер-ефрейтора, которые во время атаки вместе с Густавом Коллером поддерживали связь со стрелковыми взводами. Густав сообщает, что Вольдемара ранило осколком в руку и бедро. Вместе с остальными ранеными его отвезли в тыл. Он успел переговорить с Густавом, попросил его передать нам привет и сказал, что мы скоро встретимся в тылу. Это может показаться странным, но я не завидую ранению Вольдемара. Ему и еще нескольким другим нашим товарищам довольно долго удавалось избегать ранений, и было бы ужасно, если бы его смертельно ранило.
30 апреля. За последние недели мы часто говорили о том, какое мы можем получить ранение, благодаря которому нам удастся на время покинуть передовую. Мы считаем, что чему суждено случиться, того не миновать. Однако несмотря ни на что, мы верим в то, что все должно обойтись без серьезных последствий. Такого мнения придерживаются Вольдемар, Фриц Хаманн, Вариас, Профессор, Густав Коллер, Клемм (который немного изменился после возвращения из отпуска) и я. Мы являемся ветеранами, сумевшими пережить суровые бои, в которых наш пулеметный взвод участвовал начиная с октября 1943 года. В стрелковых взводах таких парней, как мы, сохранилась лишь жалкая горстка. Правда, некоторые из них сумели вернуться в строй даже после ранений, полученных в боях на никопольском плацдарме.
Мне посчастливилось остаться целым и невредимым, если не считать трех незначительных ранений, о которых я рассказывал ранее. Это были небольшие осколочные ранения, которые все-таки признаются ранениями с медицинской точки зрения. За них Клемм, Густав Коллер и я получили специальные серебряные значки. Из-за крошечного осколка, впившегося в мою верхнюю губу, я смог отдохнуть в тылу три дня. За это время опухоль значительно уменьшилась. Полковой хирург не стал удалять его, и он остается у меня под носом и по сей день.
Глава 13. СМЕРТЕЛЬНОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
10 мая. После тяжелых боев последних нескольких дней у нас, наконец, появляется время подумать о самих себе. На прошлой неделе до нас дошла скверная весть о том, что наш уважаемый командир умер в результате серьезного ранения в голову. По всей видимости, он так и не вышел из комы.
Мы постоянно вспоминаем о том, какой это замечательный был человек, с какой преданностью он выполнял воинский долг. Мы с Фрицем Хаманном знаем, как он ненавидел войну и, тем не менее, постоянно вдохновлял нас своим примером, сражался так, как не сражался никто из нас. Он первым открывал по врагу огонь, когда нам угрожала опасность или когда мы переходили в контратаку. И он же радовался, когда неприятель сдавался в плен, потому что это спасало людям жизнь. Думаю, не один военнопленный удивился, когда ему предложил закурить – ну кто бы мог подумать! – немецкий офицер! Этими своими человеческими поступками он поставил себя выше той лавины ненависти, которая сейчас захлестнула воюющих. И, тем не менее, безграничная человечность не спасла нашего командира. Смерть скосила его с обычной для нее безжалостностью, оторвала от нас, его товарищей по эскадрону. Кто теперь поведет нас вперед, когда нашего славного командира больше нет в живых?
11 мая. Сегодня мне дали увольнительную на три недели. Завтра рано утром я должен уехать вместе с еще двумя бойцами нашего эскадрона на родину. Густав Коллер не упускает возможность сделать мне по этому случаю хорошую стрижку. Он наотрез отказывается взять деньги за услугу. Взамен я соглашаюсь захватить с собой связку писем, чтобы отправить их из Германии, потому что оттуда они дойдут быстрее, нежели полевой почтой.
И хотя я понимаю, что мне давно полагается отпуск, эта новость застает меня врасплох. И вот теперь, когда возможность, пусть всего на пару недель, забыть об опасности и вездесущей грязи стала реальностью, я по идее должен быть страшно этому рад, но, увы, все далеко не так. Чувства у меня смешанные. С одной стороны, я счастлив, что смогу навестить родных, смогу поспать в нормальной постели, с другой стороны – мне грустно покидать моих товарищей. Ведь через что только мы не прошли вместе – делили и радость и горе, вместе радовались победам, вместе переживали горечь поражений. Мы стали как одна семья. Застану ли я моих товарищей в добром здравии, когда вернусь обратно на фронт? Ведь если учесть время, которое у меня займет дорога туда и обратно, я буду отсутствовать на передовой более трех недель. Кто возьмется сказать, что может произойти за это время? Лишь выпив румынского вина, от которого все слегка хмелеют, я, наконец, на какое-то время забываю о горечи расставания с моими боевыми друзьями, которое ждет меня завтра утром.
12 мая. Наш водитель, обер-ефрейтор Йост, будит меня в четыре утра. Спустя полчаса мы, трое отпускников, трясемся всю дорогу до железнодорожной станции в кузове грузовика. Я успел попрощаться лишь с Фрицем Хаманном и Вариасом – остальные отсыпались после нашей вечерней попойки.
Когда уезжаешь в отпуск, все нужно делать с запасом времени – по крайней мере, так говорят опытные солдаты. Поезда больше не ходят по старому расписанию, а новое можно узнать лишь у начальника станции. Впрочем, нам удается покинуть Румынию без особых хлопот. Большинство солдат в вагоне – это такие же, как и я сам, бойцы с передовой. Так же, как и я, они предпочитают хранить молчание и вскоре от усталости засыпают под стук вагонных колес. Лишь когда мы доезжаем до Вены, где часть из них выходит, в нашем вагоне становится оживленнее. По солдатской форме моих попутчиков делаю вывод, что они из тыловых частей, да и обсуждают они главным образом свои любовные похождения на территории Венгрии и Австрии.
13 мая. Пока я ехал в поезде, меня по крайней мере пять раз, а потом и по прибытии на станции проверяли так называемые «цепные псы». Это прозвище получила ненавистная всем военная полиция, потому что на груди они носят знак данной им власти – блестящую металлическую пластину на толстой цепочке. Время от времени они кого-нибудь уводят с собой. В первую очередь полиция проверяет увольнительные документы, а также пометки в удостоверениях личности. Вдруг кто-то приписал себе лишний орден или же повышение в чине. Что ж, видимо, в военной полиции есть необходимость – для поддержания порядка в военных частях.
Из моего купе полицейские уводят с собой фельдфебеля, у которого на груди красуется Рыцарский крест 1-го класса и серебряный значок за участие в рукопашных боях. Однако, несмотря на имеющиеся награды, документы у него не в порядке. Из того, что я слышу, делаю вывод, что у него не хватает каких-то бумаг, и не исключено, что он ушел в самоволку. Поговорив с другими солдатами, я узнаю, что боевой дух в наших частях отнюдь не на высоте. Появились дезертиры, а также желающие сложить оружие. Да, плохие пошли времена! Таких солдат называют предателями, потому что они отказываются выполнять свой воинский долг, как все остальные. Мы ведь тоже ненавидим войну, но ведь все-таки воюем! Во время войны трудно оставаться самим собой – как солдаты мы принадлежим не себе, а нашему народу, нашей стране. Кстати, последняя фраза хорошо звучит – это значит, что все, что мы делаем, мы делаем ради нашего народа, наших соотечественников.
14 мая. У меня уходит два дня, чтобы добраться до родной деревни. Я, конечно, рад снова видеть мать и старшую сестру, которая приехала погостить к нам, но радость эта омрачена известием о смерти некоторых моих друзей. Наша обычно такая тихая деревушка за время моего отсутствия превратилась в шумный город. На ее улицах полным-полно солдат, а также матерей с детьми – это беженцы из Берлина и других крупных городов; они спасаются у нас от бомбежек. Но как долго они еще смогут это делать?
15 мая. Я начинаю подозревать, что мой отпуск пройдет не так гладко, как хотелось бы. На передовой наши головы заняты другими мыслями. Чаще всего нас занимает один-единственный вопрос – как остаться в живых самому и не дать погибнуть товарищам по оружию. И хотя мы давно привыкли смотреть смерти в лицо, страх все равно подтачивает наши сердца, наши нервы. От этого страха юные лица стареют буквально на глазах. И я не исключение: 1 в следующем месяце мне исполнится двадцать один год, но я чувствую себя гораздо старше, не в последнюю очередь потому, что пережил некоторых куда более юных по возрасту бойцов.
Даже если учесть пять моих легких ранений, мне, можно сказать, крупно повезло. Во время боя нервы порой подводят меня, но не до такой степени, чтобы взять надо мной верх. В эти последние месяцы я часто становился свидетелем тому, как молодые и немолодые бойцы седели за одну ночь; выдержка изменяла им, и во время артобстрела они тряслись от страха. Так неужели все это напрасно? И не дай бог, чтобы это повторилось вновь!
16 мая – 2 июня. Я пытаюсь наслаждаться отпуском и не думать о войне. Мое излюбленное занятие – это сон! Днем я достаю свой гоночный велосипед и объезжаю окрестности или же отправляюсь на озеро удить рыбу. Я часто провожу вечера вместе с друзьями в ресторанчике или в обществе подружки, с которой познакомился еще до войны. Й все равно все не так, как было в мирное время; я замечаю, что в людях поселилась тревога. Они постоянно о чем-то думают, хотя и не осмеливаются высказать свои мысли вслух.
Я слишком часто слышу, что кого-то арестовали или отправили в концлагерь. Люди говорят, что это трудовой лагерь, просто охранниками там служат эсэсовцы. В такие концентрационные лагеря отправляют тех, кто не согласен с политикой третьего рейха. Но никто точно не знает, что это за лагеря, потому что оттуда еще никто не возвращался.
3 июня. Последнее время я очень плохо сплю. Мне не дают покоя самые разные мысли: я постоянно думаю про моих друзей. У меня такое чувство, что многих из них я больше никогда не увижу. Если их только ранило, то рано или поздно они вернутся, не возвращаются только мертвые. И в каждом новом сражении есть те, кому судьба не оставила надежды остаться в живых. И чем ближе конец отпуска, тем сильнее во мне нарастает тревога за моих однополчан; это еще раз доказывает, каким крепким бывает фронтовое братство.
4 июня. Я вот уже несколько часов трясусь в поезде, возвращаясь к себе в часть. Расставание с матерью далось мне нелегко: ведь она сделала все для того, чтобы за время отпуска я по-настоящему отдохнул. Работа в магазине отнимала у нее немало сил, отчего она не могла заботиться обо мне так, как ей хотелось бы. Моего отца призвали на службу в народное ополчение, volkssturmheit, которое будет размещено в приграничных районах.
Вагон до отказа заполнен солдатами из самых разных частей. В купе, в котором я по идее должен был бы сидеть, набилось столько народу, что я предпочитаю расположиться на вещмешке в коридоре.
5 июня. Мы едем всю ночь. Дважды до нас доносится завывание сирен воздушной тревоги. Поезд останавливается среди чистого поля, но нас это не слишком беспокоит, и многие продолжают спать. Солдаты лежат вповалку на полу вагона, а некоторые умудрились устроиться на ночь в сетчатых багажных полках. В купе кромешная темень, потому что нам категорически запрещено зажигать свет. Время от времени темноту пронзает луч фонарика или же кто-то щелкает зажигалкой, предупреждая товарищей, что ему нужно выйти по малой нужде, и он не хочет наступить на чью-то голову.
Ближе к рассвету мы подъезжаем к Вене. Тем не менее, поезд в город пускают не сразу, и лишь к обеду мы наконец подъезжаем к станции и выходим. В кабинете начальника вокзала встречаю унтер-офицера из 26-го танкового полка, который, как и я, возвращается из отпуска, более того, туда же, куда и я. Оказывается, наши с ним части дислоцированы на своих прежних местах.
Мы дожидаемся вечернего поезда, чтобы вместе продолжить путешествие. До места назначения мы добираемся лишь через два дня, потому что вынуждены несколько раз делать пересадку.
6 июня. Наши полки расквартированы по соседству, в районе Яссы – Монешты. Тяжелые потери последних нескольких месяцев привели к тому, что их пришлось реорганизовать в боевые группы. Унтер-офицера быстро увезли от меня на машине, а вскоре после этого мне удается тормознуть грузовик, который и довозит меня до нашего эскадрона. Прощаясь с добрым шофером, я обещаю не забывать о нем и время от времени давать о себе знать. К сожалению, ничего из этого не получается, потому что больше судьба не сводит нас вместе; как и многие, подобные этому знакомства длятся порой совсем недолго, едва ли не считаные часы, хотя впоследствии я частенько вспоминаю их.
8 июня. Утром я на грузовике наконец прибываю в расположение своего эскадрона. Явившись на командный пункт, тотчас узнаю, что унтер-офицер Тодтенхаупт, или, как его у нас называли, Репа, отсутствует; впрочем, не вижу я и нашего ротного. Незнакомый мне унтер-офицер говорит, что Тодтенхаупт был ранен во время воздушного налета две недели назад, когда ехал в своей машине, и потому сейчас находится в госпитале.
Я встречаюсь с Фрицем Хаманном и долговязым Вариасом в нашей казарме. Мои друзья рады меня видеть вновь. За время моего отсутствия в нашем эскадроне произошло немало событий. Некоторые новости меня приятно поражают, другие – наполняют сердце болью. Самые худшие известия – на прошлой неделе погиб Клемм, а Профессору осколком гранаты оторвало руку, и он умер от кровопотери. Ефрейтор Хальбах, который служит в нашей части относительно недавно, тоже якобы серьезно ранен и, скорее всего, не выживет. Эти дурные известия тотчас возвращают меня к суровой действительности. Я также не вижу Густава Коллера и потому спрашиваю о нем, и не могу поверить тому, что слышу в ответ. Вернее, оба мои товарища выдерживают паузу, после чего дружно выпаливают: «Густав получил Рыцарский крест!»
– Не может быть! И за что? За какие такие подвиги?
– Ничего из ряда вон выходящего, все как обычно у нас на передовой, – поясняет Фриц, – с той единственной разницей, что наш дорогой Густав, который в твое отсутствие командовал пулеметчиками, потерял контакт со стрелковым взводом слева от нас. Мы вслед за ним углубились в лес, и, когда я и мой второй номер уже почти вышли на опушку, там уже стояли три танка «Т-34», а рядом – их экипажи. Солдаты о чем-то громко спорили со своим офицером. Мы с Густавом тотчас привели пулеметы в боевую готовность и густо полили русских огнем. Двоих скосили сразу, а остальных взяли в плен. И пока наши ребята охраняли пленных, до нас дошло, что эти танки охраняли позиции русских на левом фланге и что там у них был связной офицер с рацией, который помогал русским вести перекрестный огонь.
Что произошло потом – это целая история. Нам в руки сама припорхнула возможность вести от опушки леса огонь по их позициям, и уж мы ею воспользовались! Мы возобновили нашу атаку, которая до этого была прервана. Наши части вновь пришли в движение, и наш полк быстро докатился до русских позиций, причем с минимальными потерями. Вот и все – по крайней мере, так говорилось в рапорте. Атак как наш Густав захватил три русских танка и к тому же обстрелял из пулеметов позиции русских, то за это он получил Рыцарский крест, а мы с Вариасом – по Железному кресту 1-го класса.
– Черт, вот это да! – Я действительно был рад за моих товарищей. – И все это по чистой случайности, лишь потому, что Густав утратил связь со своими бойцами, оторвался от них? Я правильно вас понял?
– Правильно, – подтвердил Вариас. – Но задним числом вопросов не задают. Главное, результат.
– И где же теперь наш Густав?
– Понятия не имею. С тех пор, как он отбыл в полковой штаб получить награду, его никто не видел. Говорят, будто его повысили до унтер-офицера и теперь ему нужно пройти курс обучения. Вот и все, больше о нем ничего не было слышно.
К сожалению, больше Густава я не видел. Мы все знаем, как это бывает: стоит кому-то получить Рыцарский крест, как человек уже не тот, он превращается в знаменитость, которую демонстрируют нам, рядовым бойцам. Я знал Густава, и я не думаю, что он был особенно рад, когда из него сделали показательного героя. Уж кто-кто, а он наверняка знал, что никакой он не герой, как и все мы здесь, просто ему повезло. Как сказал Фриц Хаманн, они просто действовали правильно, когда утратили связь со стрелковым взводом. То есть поступили правильно, когда обрушили огонь на экипажи вражеских танков, прежде чем русские танкисты успели спрятаться под их броню и разнести нас самих к чертовой матери. А еще им крупно подфартило, что они оказались на вражеском фланге и потому получили возможность вести огонь по врагу, что, в свою очередь, позволило полку с минимальными потерями занять вражеские позиции.
Бедный Густав! Когда начальство попользуется тобой вдоволь, когда им надоест выставлять тебя напоказ как образцово-показательного бойца, тебя наверняка отправят назад на передовую. На сей раз твои шансы остаться в живых будут куда меньше, потому что твои начальники-офицеры также попытаются выжать из тебя все – то есть будут бросать в самое пекло, иначе зачем, скажите, существуют герои! Наверно, именно этим и объясняется то обстоятельство, что лишь считанная горстка бойцов остается в живых из тех, кого наградили Железным крестом.
Густаву Коллеру не удалось дожить до конца войны. Буквально через месяц я узнал о его судьбе, когда, выйдя из госпиталя после тяжелого ранения, я получил временное назначение в учебный лагерь для новобранцев. Там совершенно случайно я встретился с обер-ефрейтором, который вместе с Густавом участвовал в сражении на территории Венгрии. Он сказал мне, что Густав сражался в составе взвода смертников и 10 ноября 1944 года был убит при штурме вражеских позиций.
Бедняга! Недолго тебе пришлось ходить в героях, потому что буквально спустя считаные месяцы судьба решила поменять твой гордый Рыцарский крест на более скромный, деревянный. Все, что осталось от тебя, – это воспоминания твоих товарищей, которые помнят тебя как хорошего друга, который лишь по чистой случайности стал героем и, возможно, именно по этой причине погиб раньше тех, кого громкая слава обошла стороной.
Глава 14. ОБРЕЧЕННЫЙ НА СМЕРТЬ
Сегодня 9 июня, и я снова в строю. Воздушная разведка донесла, что в нашем районе наблюдается большая концентрация советских танков. Предположение, что русские готовят крупную наступательную операцию, не подтвердилось, и мы участвуем лишь в мелких вооруженных стычках. Наши потери сводятся лишь к двоим раненым.
15 июня. Сегодня мы занимаем позиции между Яссами и Таргул-Фрумосом, причем плоская зеленая равнина хорошо просматривается. За нашими спинами горят несколько ферм; причина пожара – вражеский артобстрел. Ветер то и дело гонит нам в лицо черный дым. У дыма омерзительный запах, и вскоре мы уже от него задыхаемся. Сами дома стоят пустые, их владельцы давно уже покинули их, а покидая, не успели вывести из хлева скот, чтобы забрать его с собой. Так что если несчастные коровы и не умерли с голоду, то наверняка погибли в результате артобстрела или же сгорели в пожаре. Здесь повсюду валяются трупы домашнего скота, как разложившиеся, так и относительно свежие, наполняя округу жутким зловонием.
16 июня. С наступлением темноты мы замечаем, что враг меняет свои позиции на раскинувшейся перед нами равнине. Нам казалось, что наступление будет еще не скоро, но нас всю ночь напролет поливают зенитным огнем, причем разрывными снарядами. Врагу отлично видно, где мы, потому что наши позиции вырисовываются темными силуэтами на фоне горящих коровников.
17 июня. На рассвете землю окутывает плотный туман, который, подгоняемый ветром, движется прямо на нас. Такое зрелище я вижу впервые. Не исключено, что враг решил воспользоваться им как прикрытием и теперь, невидимый, подкрадывается к нам.
Молочная стена тумана надвигается на нас, прямо на глазах делаясь все гуще и гуще. Неожиданно я различаю нечто похожее на очертания пригнувшейся к земле фигуры с рюкзаком или сумкой на спине. Я прицеливаюсь и с расстояния примерно в километр открываю огонь. Результат превосходит все ожидания, и мы дружно покатываемся со смеху. Судя по всему, русский Иван тащил на себе дымовые шашки – они и были причиной пресловутого тумана. Стоило мне выстрелить, как из мешка повалил еще больший дым. Русский же, вместо того, чтобы сбросить себя свою ношу, бросился наутек, петляя, как заяц, из стороны в сторону, словно за ним кто-то гнался. В конце концов в его мешке взрываются все шашки, и со стороны кажется, будто русский несется вперед, подгоняемый ракетным двигателем!
Мы тотчас открываем по туману пулеметный огонь и останавливаем атаку русских еще до того, как она начинается. Наконец туман рассеивается, и нашему взгляду предстает следующая картина: огромное поле, а на нем тела убитых, брошенные зенитки и другая боевая техника.
20 июня. Хотя в эти дни мы ведем в основном оборонительные бои, тем не менее мы тоже несем потери, убитыми и ранеными. Среди последних и Оbеr, который командовал нашим поредевшим эскадроном. Никто не знает, сколько раз он бывал ранен: под Никополем у него уже был золотой значок за ранение (им награждают после пяти ранений). Если рана была небольшая, он оставался при штабе, затем снова вставал в строй, но в этот раз ранение, по всей видимости, серьезное, если его забрали в полковой лазарет, а позднее перевели в тыловой госпиталь.
27 июня. 21 июня наш полк отозвали с передовой, и теперь мы стоим в районе Попешти. Хотя и я говорю «полк», на самом деле живой силы в нем наберется разве что на эскадрон. Кроме одного унтер-офицера, в нашем подразделении осталось лишь семеро тех, кто служил в нем с самого начала. Даже из числа пополнения, которое нам присылают время от времени, осталось совсем немного, ребята либо погибли, либо получили ранения. Так что теперь наши ряды пополнили новобранцы из Инстербурга, причем в их числе не только молодежь, но и мужчины в возрасте. Среди последних немало этнических немцев из Восточной Европы и русских добровольцев. Вместо того чтобы как следует вооружить нас – потому что оружия и боеприпасов нам катастрофически не хватает! – наши силы пытаются укрепить за счет наскоро собранного с миру по нитке пушечного мяса! Что за глупость!
14 июля. По нашему полку ходит парочка слухов. Согласно одному нас должны перебросить в Восточную Пруссию для охраны границ рейха. Мы задаемся вопросом: неужели командование – вернее сказать, Гитлер – считает, что враг вскоре подойдет к нашим восточным рубежам? Поговаривают также, что для того, чтобы укрепить численность наших рядов, нам в подкрепление собираются прислать так называемых фольксгренадеров. Страшно даже представить себе, что это будет за «пополнение». Солдаты то и дело шутят по этому поводу: мол, это в основном наши деды, которых призвали за неимением более юных рекрутов. Новобранцы, которые прибыли к нам в последние несколько дней, рассказывают также о каком-то «оружии возмездия», которое вот-вот будет опробовано на полях сражений. Интересно, когда же это произойдет? Неужели после того, как наши города будут стерты с лица земли вражескими бомбами? Я слышал про это «чудо-оружие» еще будучи в отпуске, и, по-моему, это не более чем слухи, призванные воодушевить людей на ратные подвиги.
15 июля. Несколько дней назад к нам в качестве нового командующего эскадроном прислали лейтенанта. Я уже сбился со счета, сколько офицеров командовали нами, начиная с октября сорок третьего года. Этот, по первому впечатлению, не так уж плох. Правда, он совершенно не способен вселить в солдат эскадрона чувство товарищества и боевого братства, а ведь это так важно. Не знаю, но чего-то ему явно не хватает, и мы, нюхнувшие пороху ветераны, это чувствуем. Слишком много новых лиц перебывало перед нами, и нам давно пора к этому привыкнуть.
Наш брат старослужащий образовал нечто вроде своей компании. Новоприбывшие восхищаются нашими наградами, нашим мужеством и выдержкой на передовой, но мы держимся обособленно, сохраняем дистанцию. То же самое и с новыми командирами – они не знают нас и потому не могут объективно судить о нас, а значит, не могут правильно расставить силы. Что ж, подождем, когда мы вновь окажемся на передовой. Вот где человек зависит от товарища, а чувство локтя рождается само собой.
18 июля. Период отдыха подошел к концу. Сначала нас на машинах подвозят в Роман, а остаток пути до железнодорожной станции мы преодолеваем своим ходом. Нас действительно хотят перебросить в Восточную Пруссию, но по пути приказы меняются, и вместо Восточной Пруссии мы оказываемся в Польше. Говорят, будто русские уже форсировали Буг и стремительно наступают на запад.
20 июля. На Гитлера совершено покушение. Причины нам неизвестны. Ходят слухи о заговоре, якобы имевшем место в рядах высших офицеров, которых теперь ждет казнь. Мы также, к своему великому изумлению, узнаем, что отныне вместо того, чтобы отдавать по старинке военную честь, мы должны выкидывать вперед руку в немецком салюте, как то делают солдаты СС. Но приказ есть приказ. Не думаю, чтобы это нововведение было способно поднять наш боевой дух. Наоборот, мы не можем взять в толк, с какой это стати начальству понадобилось приближать нас, простых солдат, к партийным бонзам. Понятное дело, они ведь прихлебатели, и мы еще покажем им, что мы о них думаем. Считается, что они нужны для того, чтобы держать политических офицеров даже при штабах, а тем в свою очередь якобы надлежит доводить до нас, рядовых бойцов, идеалы национал-социалистической партии! Чушь собачья! Можно подумать, это помогло кому-то остаться в живых! Слава богу, что мне не доводилось встречаться с их братом пропагандистом. Впрочем, не думаю, что кому-то из них хватило бы духу сунуть нос в окопы. Как говорится, кишка тонка.
21 июля. Мы в Польше. Нам поручено удерживать линию фронта возле Ярослава на реке Сан. Неприятель уже пытался форсировать реку в нескольких местах. В наш первый день пребывания на польской земле нам повстречались немецкие подразделения, отрезанные от своих основных частей, – поддавшись панике, они бесцельно бродили по равнине вдоль берега реки. По их словам, многие их товарищи пали от пуль польских партизан. Ночью мы ввязываемся в тяжелый бой, однако нам удается предотвратить высадку неприятеля на другой берег.
25 июля. Пока не рассвело, танковое подразделение предпринимает попытку наступления. У нас нет противотанкового оружия, и мы вынуждены оставить наши позиции. Все бегут в панике, ища спасения среди высоких хлебов на поле. Танки подходят все ближе и ближе и, в конце концов, догоняют нас. Советская пехота бросается в атаку, и многие из нас гибнут в рукопашном бою. Мы с Вариасом успеваем спрятаться под соломой, которую прибило к земле дождем. Благодаря темноте мы остаемся не замеченными.
Спустя час, когда нашим частям удается уничтожить несколько вражеских танков и в конечном итоге отбросить русских на исходные позиции, мы осмеливаемся покинуть поле. Слава богу, мы живы, сумели уберечь себя от пулеметного огня противника.
Денек выдался кровавый, наше подразделение понесло тяжелые потери. Немало наших парней погибло в страшной рукопашной схватке с вражеской пехотой. Вот они лежат, с размозженными головами и вспоротыми животами. Многих в лепешку раздавило танковыми гусеницами. Во время нашего бегства через поле наш командир, тот самый лейтенант, о котором я уже упоминал, пропал без вести. Последний раз нашего нового командира видели в ту минуту, когда его почти настиг танк, – он пытался спастись бегством вместе с несколькими солдатами. Никто не знает, ранен он или погиб, или же, быть может, попал в руки к врагу. Хотя, судя по кровопролитию, русские не брали пленных. Слово «пропал без вести» вселяет в близких надежду, хотя те, кто на своей шкуре испытал войну в России, понимают: эта надежда не стоит и ломаного гроша. В русских накопилось столько ненависти, что любого, кто попадет к ним в руки, ждет смерть, и любая надежда тает, как снег на солнце.
И хотя мы не слишком хорошо знали нашего лейтенанта, мы переживаем его потерю. Пусть ему подчас не хватало опыта, зато у него было развито чувство долга, и он был во всех отношениях образцовый офицер. Фриц Хаманн потерял в этом бою своего помощника, а с ним и станок пулемета. Теперь у нас остался лишь один-единственный исправный пулемет – мой.
26 июля. Нам в качестве командира дали нового обер-лейтенанта. Под его начало переходит весь наш крошечный отряд и то, что осталось от седьмого эскадрона. Неприятель продолжает атаковать наши позиции у городка Воля Пелькинска. Потери у нас растут с каждым днем, причем не только ранеными, но и убитыми. В промежутках между боями нам сообщают, что наш новый командир убит. Ужасающая скорость, с какой гибнут люди, свидетельствует лишь об одном: стороны бьются не на жизнь, а на смерть. И с каждым днем положение становится лишь хуже и хуже, один командир сменяет другого. Из-за нескончаемого кровопролития у новобранцев нашего эскадрона все чаще и чаще сдают нервы. Бойцы сражаются лишь из чувства долга, который в них вбило начальство. Как только начинается бой, они идут вперед неохотно, стараются под любым предлогом остаться в укрытии.
Если во время боя у меня вдруг заканчиваются боеприпасы, можно глотку сорвать от крика, призывая подносчика, потому что он засел в каком-нибудь окопе и боится высунуть нос. В результате мы с Вариасом вынуждены сами сломя голову бежать в тыл за боеприпасами. Наши подносчики, некоторые из них – добровольцы, утверждают, что не слышат нас из-за грохота боя. Таким образом, мы дважды подставляем себя под пули, и результат не заставляет себя долго ждать. Мой товарищ Вариас ранен в плечо, и его отправляют в полевой лазарет.
Теперь, когда рядом со мной нет Вариаса, я чувствую себя в одиночестве. На меня накатывается уныние, и я с удовольствием забрался бы в первый попавшийся окоп. Однако я чувствую, что мой упавший боевой дух отрицательно сказывается на новобранцах, ведь в их глазах мы, старослужащие, – бесстрашные, закаленные в боях воины. Вот почему я должен хотя бы внешне притворяться, что я бравый солдат и мне все нипочем. Добиться этого впечатления мне помогает привычка и до некоторой, степени упрямство, которое овладевает мною в бою.
27 июля. Неприятель на севере форсировал реку Вислок и теперь рвется вперед. Мы пытаемся сдерживать его наступление между Ландсхутом и Рейхсхофом, но полного успеха не достигаем. Мой новый напарник – обер-ефрейтор Дорка, раньше он служил в седьмом эскадроне. Дорка, как и я, «старик». На никопольском плацдарме он получил ранение, однако, выписавшись из госпиталя, еще в Румынии вернулся в родную часть.
После дня тяжелых боев мы отступаем для отдыха в Рейхсхоф. Здесь происходит переформирование. Никто теперь точно не знает, в каком подразделении он служит. Остатки нашего эскадрона перетасованы в некое подобие боевой группы, которой командует штаб батальона, а в Инстербурге в наши поредевшие ряды вливается тонкий ручеек пополнения.
К моей великой радости, в их числе оказывается мой старый друг Вольдемар. Он окончил курсы младших офицеров и теперь носит положенные его новому рангу знаки отличия. Сначала его хотели отправить куда-то еще, но он добился перевода в свою старую часть и теперь будет командовать отрядом. Он искренне удивлен, что мы с Фрицем Хаманном все еще в боевом строю, однако не скрывает своей радости по этому поводу. Он говорит, что наш обер-лейтенант – наш Князь – якобы подал документы, чтобы нас обоих представили к самой высокой награде, однако после его гибели 5р/е55 не передал их дальше по инстанциям. Это он узнал от Репы, вместе с которым выздоравливал после ранения в одном лазарете. Нам ничего про это неизвестно, но, с другой стороны, стоит ли чему удивляться? Можно подумать, мы не знаем, как это часто бывает, когда постоянно зависишь от того, что думает о тебе начальство. Главное для нас совсем в другом – и Фриц в этом полностью со мной согласен – любой ценой остаться в живых в этой проклятой войне. До сих пор это нам удавалось, и думаю, что с божьей помощью так будет до самого ее окончания. Увы, это счастье обошло стороной нашего товарища Вольдемара.
28 июля. Вольдемара не узнать, так сильно изменился. Теперь у него на рукаве нашивка, на него возложена большая ответственность, и он должен личным примером вдохновлять на бой новобранцев. Чего он, однако, не делает. Он вечно нервничает и чего-то опасается. И хотя он пытается прятать этот свой страх от окружающих, меня не проведешь. И мне понятно, что с ним творится, – слишком долго мой друг отсутствовал на передовой и потому успел забыть, что такое война. И вот теперь он вынужден вновь привыкать к ней – привыкать к тому, что вокруг нас царит смерть, и вместе с тем не прятать голову в песок.
Как-то раз, когда мы с боем шли через лес, где окопался враг, Вольдемар куда-то пропал. В конечном итоге мы были вынуждены отступить по причине мощного ответного огня противника, и тогда я обнаружил моего товарища. Он прятался в том же самом укрытии, что и в начале нашей атаки. Размышляя над этим, прихожу к выводу, что у него было предчувствие насчет того, что вот-вот должно было случиться с ним.
Несколько дней спустя на местном спиртзаводе мы разжились несколькими бутылками шнапса и после боя осушили их до дна. Во время нашей попойки Вольдемар говорил какие-то странные вещи, которые я тогда принял за обыкновенные пьяные сентиментальные разглагольствования. Он много рассказывал о своем друге Фрице Кошински, который погиб, когда мы пытались удержать наши позиции на никопольском плацдарме. А еще он рассказывал нам про свою бабушку, что она умерла, но он якобы слышал звон погребальных колоколов, хотя ее уже давно нет в живых. Этот разговор вспомнился мне на следующий день утром, когда буквально на моих глазах Вольдемара скосила вражеская пулеметная очередь. Юный родственник нашего бывшего командира также отдал жизнь за фюрера, народ и отечество, как то принято писать в некрологах.
5 августа. В тот вечер нас сменил на позициях другой отряд, и остаток ночи мы провели в пути. Утром мы заняли пустующий дом на Щучинском плацдарме, и я весь день провел, отдыхая и набираясь сил. В Галиции на складах есть все, что только пожелает солдатская душа. Мы, можно сказать, катаемся как сыр в масле. Боеприпасов, которых раньше вечно не хватало, здесь хоть отбавляй, и мы затариваемся ими под самую завязку. Да, что там мы! Здесь есть чем разжиться даже отрядам, вооруженным противотанковыми ружьями, которые поражают танки с малого расстояния.
6 августа. Сегодня состояние моего духа упало до нулевой отметки. Я искренне полагал, что мне хватит мужества не думать о неприятных вещах, но, похоже, что я заблуждался. Как будто что-то не дает мне покоя, и я постоянно возвращаюсь в мыслях к моим погибшим товарищам. Увы, я вынужден признать, что я в числе тех немногих, кто еще жив. Я убежден, это бог услышал мои молитвы, но, с другой стороны, разве другие тоже не молились, однако, несмотря ни на что, были убиты. Так в чем же здесь секрет? И ради чего это нужно? Кто мне объяснит, почему бог выбирает для людей разные судьбы?
7 августа. На фронте нелегко даже просто остаться в живых. К тому же порой это означает лишь новые страдания. Потому что любой скажет вам, что человек, побывавший на волосок от смерти, уже не тот. Нервы его на пределе. Им овладевает бессознательная тревога, ему повсюду мерещится опасность. У меня почему-то такое чувство, что вскоре наступит наша очередь с Фрицем. Когда находишься на передовой, гарантии остаться в живых нет ни у кого из нас. Именно эта неопределенность, эти новые лица, которые окружают меня, постоянная смена командиров лишает чувства уверенности в себе, и в душу ко мне закрадывается страх. Кроме того, мне кажется, что наше командование просто не знает, что делать с возросшими силами врага. Из чего следует, что все наши так называемые боевые операции есть не что иное, как латание дыр на прохудившемся кафтане. Мы просто затыкаем дыры в линии нашей обороны в тех местах, где ее прорвал враг, затыкаем не оружием, а человеческими жизнями, что для нашего брата, рядового бойца, равносильно смертному приговору.
Хотя сегодня, как обычно, я пытаюсь сосредоточиться на боевом задании, одновременно я ощущаю внутри себя необъяснимый страх, который с каждой минутой становится все сильнее и сильнее, нарастая, словно девятый вал, который подомнет под себя все мое существо. Я не могу избавиться от чувства, что со мной неминуемо должно случиться нечто ужасное. Оно настолько укоренилось в моем сознании, что мне начинает казаться, что это нечто вроде дурного предчувствия. Правда, если задуматься, такое случалось со мной и раньше, причем всякий раз предшествовало ранению. Спокойствие возвращалось ко мне лишь после того, как я выздоравливал. Правда, сегодня эта тревога, которую я для себя называю дурным предчувствием, гораздо сильнее, чем прежде. Слава богу, получен приказ грузиться в машины, и это помогает мне переключить мысли в другом направлении.
Наше подразделение перебрасывают в другой сектор вместе со всей имеющейся техникой. Перед тем как войти в деревню, мы должны взять под контроль берег Вислы. Неприятеля нигде не видно, однако нам известно, что он уже не раз пытался форсировать реку в самых разных местах.
От края деревни и до самой реки, где оно резко обрывается, уходя вниз к воде, протянулось необъятное пшеничное поле. Крестьяне явно не успели собрать целиком урожай, и потому густые хлеба помогают нам замаскировать наши позиции в верхней части поля. Перед сжатой частью поля протянулась узкая полоска луга, за которой начинаются кусты, редкие деревья, а потом и небольшой лесок. Сама река течет позади этого леска, и с наших позиций ее не видно.
Следуя полученным приказам, мы занимаем позиции перед деревней и начинаем рыть окопы. Земля твердая и сухая от солнца. Стоит жаркий августовский день, и вскоре наши спины начинает припекать. Хотя с нас градом катится пот, рыть окопы совсем не трудно, по крайней мере, моему помощнику обер-ефрейтору Дорке и мне. Я, кажется, уже упоминал о том, что Вилли Дорка и я вместе вырыли не меньше ста окопов. Но сейчас мы готовы разорваться от злости, а все потому, что к нам подошел унтер-офицер, заявивший, что мы должны передвинуть наш пулемет чуть дальше вдоль линии обороны, на склон пшеничного поля. Мы не верим собственным ушам. Или, может, мы ослышались? Зачем нам менять позицию, откуда хорошо простреливается местность, а главное, есть где спрятаться, чтобы подставить себя под пули врагу? И кто только отдает такие идиотские приказы? Он на своем веку явно не нюхал пороха. Сам унтер-офицер доволен – с легким пулеметом ему поручено занять позиции в поле справа от нас. Стиснув зубы, мы принимаемся рыть новый окоп. По нашим спинам градом катится пот, но чем глубже мы роем, тем более влажной и прохладной делается земля. Наконец укрытие готово, мы ныряем в него, маскируясь сверху снопами.
Постепенно темнеет, и мною овладевает тревога. Как правило, мы сменяем друг друга каждые два часа, чтобы немного вздремнуть. Но сегодня, судя по всему, я не усну. Поэтому я заступлю в первую смену и разбужу моего товарища, лишь если в этом будет необходимость. С Вислы веет приятной ночной прохладой, и поначалу этот освежающий ветерок даже радует.
На небе ни облачка, на темно-синем бархате высыпали звезды. Над полем висит густой запах свежеубранной пшеницы. Этот запах будит во мне воспоминания – я снова дома, пусть даже всего на несколько недель, на пару с моей девушкой Траудель помогаю собирать урожай. Траудель – настоящая крестьянская девушка, и однажды она сказала мне, что для нее колосящееся поле – это символ роста, развития, поисков своего места в жизни. Мне понятно, что она хотела этим сказать, но сегодня этот запах, смешанный с гнилостным душком камышей, который ветром приносит нам от берега Вислы, действует мне на нервы. Постепенно от реки начинает подниматься молочный туман; он ползет через лесок, через луг, с каждой минутой подкатывая к нам все ближе. Вскоре он уже такой густой, что становится трудно дышать, туман же продолжает колыхаться вокруг, словно некое скопище призраков.
Я вглядываюсь в молочно-белую завесу и вскакиваю, заслышав даже самый слабый шорох: судя по всему, это мыши-полевки бегают вокруг нас и шуршат сухой травой. И все равно меня не отпускает гнетущее чувство. Более того, оно становится еще сильнее, когда до меня доходит, что в поле мы одни, рядом с нами никого нет. Даже второй пулемет вместе с фельдфебелем прячутся где-то за нашими спинами.
Туман тем временем подбирается все ближе, и теперь он такой густой, что мне видны лишь смутные очертания деревни. На пулемете конденсируется влага, и мне становится зябко. Я поднимаю воротник и глубже залезаю в укрытие. Дно мы предусмотрительно прикрыли соломой. Дорка сидит в углу, сжавшись в комок, спиной к стенке окопа. Он глубоко дышит, и мне слышно, как он негромко похрапывает. Пусть себе спит, думаю я, хотя по идее он еще час назад должен был сменить меня в карауле. Ладно, разбужу его, когда сам начну валиться с ног от усталости.
Я как раз собираюсь зачехлить пулемет, чтобы уберечь его от сырости, когда откуда-то из тумана доносится какой-то писк, а затем чьи-то голоса. Русские! Я вздрагиваю и, стараясь не дышать, прислушиваюсь. Они медленно двигаются в нашу сторону. То, что поначалу принял за писк, на самом деле скрип колес вокруг несмазанной оси. Я осторожно бужу своего напарника. Он, как за ним водится, вскакивает и хочет мне что-то сказать, но я спешно закрываю ему ладонью рот. После чего мы прислушиваемся уже вместе.
Похоже, что русским удалось переправить через Вислу свои противотанковые орудия и минометы, и теперь вражеские отряды направляются в нашу сторону. При этом они даже не стараются производить как можно меньше шума – по всей видимости, не догадываются о том, что мы здесь, можно сказать, прямо у них под носом. И если они подойдут еще ближе, нам ничто не мешает удивить их пулеметным огнем, а то и вообще, обратить в бегство при помощи наших пушек. Помнится, в Румынии нам как-то раз удался этот номер. Дорка снимает с пулемета брезентовый чехол, а я занимаю свое место. Мы ждем, всматриваясь в туман, однако, судя по всему, неприятель прекратил свое продвижение. Затем неожиданно до нас доносятся новые звуки, а именно стук и лязг лопат – похоже, что русские взялись копать землю.
– Черт, они роют укрепления прямо у нас под носом! – возмущается Дорка, а потом добавляет слегка растерянно: – Ну и ну! Что же нам теперь делать?
– Пока ничего, – отвечаю я довольно нервно. – Туман слишком густой. Мы ведь даже точно не знаем, где они. Не вести же нам огонь вслепую! Тогда они быстро обнаружат нас и прикончат в два счета.
– Да, но ведь мы не можем сидеть сложа руки и ждать! – говорит Дорка. Мне видно, что он взволнован. Он не может стоять спокойно и переминается с ноги на ногу. – Ведь стоит им окопаться здесь, и тогда один только господь будет знать, что случится с нами, когда рассветет. При таком расстоянии они тотчас засекут нас.
– Кажется, я знаю, – говорю я, а сам чувствую, как от одной мысли о том, что может случиться завтра утром, сердце мое в буквальном смысле уходит в пятки. – Здесь нам оставаться нельзя. Думаю, что в этой ситуации лучше поступить так. Ты вернешься к обер-лейтенанту и спросишь у него, куда нам переместиться. Вдруг он пришлет нам подкрепление, и тогда мы устроим русским сюрприз, пока они заняты рытьем окопов.
Дорка выскакивает из нашего окопчика и со всех ног несется к деревне. Вскоре он возвращается, и мне слышно, как он негромко ругается себе под нос.
– Ну, что он сказал? – спрашиваю я, нутром чувствуя, что ничего хорошего в ответ не услышу.
– Этот ублюдок велел нам оставаться на месте. – Дорка даже плюнул с досады. Я не верю собственным ушам.
– Быть того не может! Ты сказал ему, что они ставят свои орудия прямо у нас под боком?
– Сказал. А он мне ответил, что ему, мол, уже известно о том, что русские роют укрепления прямо перед нами. Мы должны оставаться на своих местах, пока не подойдут наши танки.
– И что конкретно мы должны здесь делать?
– Он не сказал. Но унтер-офицер взвода, что расположен справа и сзади от нас, рвет и мечет. По его мнению, этому гаду, нашему шефу, прекрасно известно, что никаких танков не будет, потому что вчера им было велено передислоцироваться на другие позиции.
– Что ж, похоже, что самое время писать завещание. И как только офицер может проявлять такую безответственность! Когда туман рассеется, русские не оставят от нас живого места своими снарядами. Ведь судя по производимому ими шуму, они так близко, что при желании могли бы забросать нас камнями. И если мы останемся в нашем окопе, рассчитывать нам не на что. Потому что остаться здесь – значит подписать себе смертный приговор. В этом не приходится сомневаться. Ну какой идиот прислал нам этого ублюдка в качестве командира, чтобы он потом решал за нас, жить нам или умереть? Если только этот неизвестный мне офицер не принял такое решение лишь по недомыслию, значит, он нарочно решил пожертвовать нами ради спасения собственной шкуры.
Эту последнюю фразу я бормочу себе под нос, но Дорка все равно ее слышит и, скорчив гримасу, говорит:
– Думаю, этот болван уже наложил полные штаны, если считает, что мы продержимся здесь ровно столько, сколько ему требуется на то, чтобы драпануть отсюда. Давай-ка мы сорвем его планы и вернемся на нашу исходную позицию в верхнем конце поля.
– Ты что, совсем рехнулся, Дорка? – пытаюсь я образумить его. – Или ты хочешь, чтобы нас с тобой отправили под трибунал? Нам остается одно, оставаться здесь и ждать, что произойдет дальше.
Я произношу эти слова, а сам знаю, что наша жизнь не стоит даже той соломы, что расстелена у нас под ногами. Я на передовой давно не новичок и с первого взгляда вижу, к чему идет дело. Можно, конечно, надеяться, что нелегкая пронесет, только это мало кому помогало. Остается разве что молиться, просить бога о том, чтобы он не оставил нас в этот трудный час. В отличие от меня, Дорка – католик, и пока я молюсь про себя, он осеняет себя крестом и дрожащими губами произносит слова молитвы. В эти минуты он ужасно напоминает мне Свину тогда, в Рычове. Свина был глубоко верующим человеком, вот только господь почему-то его не спас.
Ближе к утру туман становится еще гуще. Мы напрягаем глаза, всматриваясь в густое молоко тумана, и прислушиваемся. До наших ушей, приглушенные туманом, доносятся команды русских офицеров. Молитва на какое-то время успокоила нас, но, с другой стороны, что еще нам остается? Только молиться. Весь мой опыт, накопленный за время войны, внезапно превращается в ничто. Он не стоит и ломаного гроша, потому что, когда сидишь в окопе, словно мышь в мышеловке, зная, что некуда отсюда не деться, какая от него польза.
В течение последующего часа туман потихоньку начинает рассеиваться. Нам уже видны первые дома за нашими спинами, после чего первые солнечные лучи падают на сжатое поле. Я взглядом ищу легкий пулемет, который по идее должен находиться неподалеку от нас. Ага, кажется, вижу, судя по наваленным кучей снопам.
Из-под них высовывается чья-то рука и машет мне. Я машу в ответ. Мне почему-то кажется, что легкий пулемет будет задействован лишь при необходимости. Но до того момента ребята должны сидеть и не высовываться. Наш тяжелый пулемет должен, наоборот, быть готовым открыть по врагу ответный огонь. Мы слегка опустили дуло и замаскировали его соломой, однако, учитывая расстояние и склон, думается, что стоит нам открыть огонь, как враг тотчас обнаружит нас.
Так оно и есть! Стоило ветру разогнать последнюю дымку тумана, как мы смотрим прямо в дула четырех орудий, от которых нас отделяют метров сто, не больше. Судя по всему, противник обнаружил наши позиции или же просто первым делом обстрелял те участки поля, где стоят снопы. Из дула вырывается вспышка огня, и мы ощущаем, как по земле прокатывает ударная волна. Еще бы, ведь они совсем рядом. Затем раздается взрыв, снопы взлетают вверх, и тогда просыпается наш пулемет.
– Противотанковые орудия! – кричит Дорка и вновь осеняет себя крестом.
В этот же самый миг разрывается второй снаряд и разносит наш пулемет к чертовой матери. Дорка вскрикивает и хватается за горло. Затем, не веря своим глазам, смотрит на окровавленную руку и вновь прижимает ее к ране. Охваченный паникой, он выскакивает из нашего окопчика и бежит по полю в направлении деревни. Прямо у него за спиной грохочет очередной взрыв, отрывая ему обе ноги. Его ягодицы взлетают в воздух и, истекая кровью, падают на землю. Прошли лишь считаные секунды. Я вновь осмеливаюсь поднять глаза, и в следующий момент из дула русского орудия вылетает новая вспышка. Снаряд впивается в землю передо мной, и теперь мой окопчик наполовину засыпан землей. Я вытаскиваю из нее ноги и ложусь. Следующий разрыв гремит впереди меня; в мою сторону летит раскаленный осколок. Он попадает мне в правое предплечье, а еще несколько других осколков, меньшего размера, вонзаются мне в грудь. Я тотчас чувствую на себе горячие ручейки крови, как они стекают и капают с моего рукава. Несколько мгновений я не чувствую никакой боли, но вскоре она приходит, жгучая, нестерпимая.
Здесь в окопе недолго окочуриться от кровопотери! Стоило мне только подумать об этом, как меня охватывает неописуемый ужас. Я должен как можно скорее вырваться отсюда. Теперь мною движет животный страх, и я выпрыгиваю из окопа. Левой рукой я зажимаю рану и бегу. Инстинкт самосохранения подсказывает мне, что бежать к домам – значит делать из себя мишень, и я, повинуясь ему, устремляюсь направо, к леску. Мне известно, что для того, чтобы взять на прицел новую цель – в данном случае меня, – вражеским артиллеристам придется развернуть орудие. Так что снаряды начинают рваться вокруг меня лишь после того, как я уже пробежал какое-то расстояние. В меня палят, словно в зайца – да я и есть заяц, бегу, петляя из стороны в сторону. Я продолжаю свой бег, и враг вынужден то и дело менять прицел.
Увы, я чувствую, что выбился из сил. Мои легкие надрывно дышат, словно пара кузнечных мехов, и у меня потихоньку начинает кружиться голова. А еще я не могу остановить кровотечение. И хотя я прижимаю к ране левую руку, кровь продолжает стекать по рукаву. Теперь у меня в крови даже штаны. Противотанковые снаряды рвутся справа от меня, в лицо мне летят комья земли. Но я, задыхаясь, из последних сил петляю зигзагами по полю, бегу, спасая свою жизнь, бегу, охваченный ужасом, опасаясь, что в любое мгновение меня может взрывом разнести на куски. Но, похоже, лесок уже близко, еще минута, и мне до него остается буквально пара шагов. Неужели я, наконец, смогу спрятаться от вражеских пулеметчиков? Теперь снаряды свистят в кронах деревьев, срезая на лету ветки и верхушки. Чувствуя, что мне не хватает дыхания, я тем не менее продолжаю бежать, пока не валюсь в изнеможении на землю.
Я в безопасности, но еще не спасен! Я вновь поднимаюсь с земли, но ноги не держат меня. Видно, я потерял много крови, раз ощущаю во всем теле слабость. Но мне нельзя останавливаться. Я должен бежать дальше. Собираю последние остатки сил и бегу через лес и, под укрытием холма, устремляюсь к деревне. До ее края мне осталось всего метров двести. Когда я добегаю до ближайших домов, колени мои дрожат.
Между домами я замечаю машины. Два офицера изучают склон, что ведет к Висле. Неприятель теперь ведет обстрел по деревне, но мы со своей стороны открыли по нему ответный огонь из тяжелых пушек. Стоило офицерам заметить меня, как у них возникает вопрос, почему я появился с такого странного направления. Я объясняю им, где получил ранение и что обер-ефрейтор Дорка убит. Ни майор, ни риттмейстер, похоже, не знали, что в потайном месте на сжатом поле были мы, пулеметчики. Они пребывали в уверенности, что окопы на краю деревни – это и есть наши передовые позиции. А еще им с трудом верится, как это мне, учитывая полученные мною ранения, удалось спастись от вражеской артиллерии. Но в следующее мгновение я теряю сознание, и лишь чудом один из водителей успевает подхватить меня. Майор приказывает своему шоферу отвезти меня в полевой лазарет.
В медицинской палатке помимо двух фельдшеров находится сам главный врач нашего батальона. Мы с ним уже знакомы, потому что именно он зашивал мне в конце апреля верхнюю губу. Он приветствует меня как старого знакомого и тотчас взрезает мне рукав.
– На этот раз, приятель, тебе досталось по полной программе, – говорит он, обнажая большую открытую рану на предплечье, а затем обнаруживает в груди два небольших осколка. – Особенно мне не нравится твоя рука. Одно хорошо: судя по всему, кость не задета.
Он занимается моими ранами: вынимает из грудины осколки – они засели под кожей, – затем туго прибинтовывает к телу правую руку и говорит отеческим тоном:
– А теперь живо на сборный пункт. Там тебе подыщут лангет и отправят домой. Если считать царапины, то это, если не ошибаюсь, твое шестое ранение, – добавляет он в шутку. – Правда, должен тебя огорчить, золотой значок за ранение, в отличие от Рыцарского креста, не украшен бриллиантами.
Вскоре врач куда-то уходит: поступило еще двое раненых. Я тем временем прошу его написать пару слов для Фрица Хаманна, который лежит со своим легким пулеметом где-то в поле перед деревней, и неизвестно, встретимся ли мы с ним еще. Поскольку меня увозят в тыл, Фриц в нашей части последний из тех, кто служил в ней, начиная с 1943 года. До самого окончания войны мы так больше и не встретились.
8 августа. На сборном пункте, как и сказал главврач, мне подыскивают лангет, чтобы полностью обездвижить мою раненую руку. Осколок пока еще остается на месте: его извлекут после того, как в тыловом госпитале будет сделан рентгеновский снимок, потому что, судя по всему, он крепко засел в кости. Лишь в санитарном поезде до меня постепенно начинает доходить, что мне крупно повезло. Вот только надолго ли? Как бы то ни было, в самом начале мне в госпитале наверняка понравится. Рана ужасно болит, но что эта боль по сравнению с тем адом, из которого я чудом выбрался?
Санитарный поезд везет большинство раненых до Гротткау, небольшой деревушки в Верхней Силезии. Там нас выгружают из вагонов и везут в сияющий чистотой военный госпиталь.
Глава 15. СТЕРВЯТНИКИ НАД НЕММЕРСДОРФОМ
30 августа. Пребывание в Гротткау, которое началось 9 августа, стало периодом моего выздоровления. После того, как мне из правого предплечья извлекли осколок длиной в пять сантиметров, рана зажила довольно быстро. Вместо неудобного гипса я просто ношу больную руку на перевязи. Вместе с раненым фельдфебелем из другой армейской части мы совершаем вылазки в расположенные в городке питейные заведения. Иногда нам даже удается выпить настоящего, а не эрзац-пива. Остальное время я либо играю в карты, либо читаю.
Пока я лежал в госпитале, ко мне приезжала мать. Я передал ей мои записки, которые делал с момента окончания моего отпуска, пока мы воевали в Румынии. Мать привезла мне табака и сигарет, что весьма кстати, потому что курю я много, а наш паек, в том, что касается, табака, интенданты постоянно урезают.
4 сентября. Сегодня я во второй раз еду в специальную роту для выздоравливающих в Инстербурге. Из-за тяжелой обстановки на фронте никакой отпуск как для перенесшего ранения мне не полагается. Слава богу, рана не беспокоит меня, от нее остался лишь красный круглый шрам, размером в два раза больше циферблата наручных часов. Я никого не знаю в палате в казарме, где мне выделили койку, однако, если верить тому, что говорит один обер-ефрейтор, там по идее должны быть еще несколько солдат из 1-го эскадрона нашего полка. Что ж, оказывается, они здесь действительно есть, но я с ними не знаком. Так много новых людей прошло за последнее время через нашу часть! Некоторые успели побыть в наших рядах всего несколько дней, а потом кто-то погиб, а кто-то получил ранение.
Спустя несколько дней, к моему великому удивлению, я встречаю человека, которого уже давно считал мертвым. Это коротышка Шредер, который в январе 1944 у меня на глазах, сидя в нашем окопе, получил в голову снайперскую пулю. Ни фельдшер, ни я тогда не думали, что он выживет. Правда, несмотря на все наши сомнения, фельдшер настоял на том, чтобы его отправили в госпиталь. Хотя Шредер за это время заметно поправился, а вокруг левого уха у него шрам размером с суповую тарелку, я моментально его узнаю.
Мы оба обрадованы нашей встрече. Шредер рассказывает мне, что после того, как его ранило, он пришел в себя лишь в тыловом госпитале. Выздоровление заняло долгое время, но врачам удалось спасти ему жизнь. Что само по себе сродни чуду, если учесть, что дырка у него в голове размером с кулак, от виска и до уха. Сейчас он переведен в отделение для выздоравливающих и ждет выписки.
До того как Шредера выписали, я провел в его обществе не один час. Пока мы вспоминали с ним бои на никопольском плацдарме, мне постоянно приходила в голову Катя. Мы всегда считали ее чем-то вроде нашего ангела-хранителя. Интересно, осталась ли она в живых, когда пришли русские? Для Шредера война уже окончена, хотя он и заплатил за это немалую цену. И теперь до конца жизни его ждут немалые трудности – частичная глухота, нарушение зрения, приступы головокружения.
8 октября. Впрочем, встретил я не только одного Шредера, но и нашего обера. После седьмого ранения его перевели командовать учебной ротой, в которой он до сих пор служит. Думаю, что и там он честно выполнял свой долг, ведь он привык находиться на передовой. Хотя я никогда не стремился стать командиром, обер добился, чтобы меня направили в ту же роту инструктором новобранцев.
9 октября. Готовить к службе на передовой нам предстоит разношерстный сброд – немолодых этнических немцев из стран Восточной Европы, многие из которых были основными кормильцами в семье, и моряков, которых из-за нехватки кораблей решено переделать в пехотинцев. Дисциплины бывшим флотским явно недостает; часть из них многие годы прослужили в морской пехоте. По этой причине к ним в качестве инструкторов приставили ветеранов-орденоносцев, потому что они единственные из нас, кого моряки уважают. Но даже таким инструкторам с ними нелегко, приходится то и дело повышать голос, чтобы только быть услышанными.
10 октября. Русские подошли еще ближе. Говорят, что они уже заняли северный берег реки Мемель. Поговаривают также, что нашу учебную роту перебросят в Польшу, по крайней мере, в ту ее часть, которая еще незанята русскими.
16 октября. Враг наступает со стороны Литвы танковыми частями при поддержке боевой авиации. Во многих местах вдоль линии фронта ему удалось прорваться далеко вперед. Наша рота приведена в состояние повышенной боеготовности, нам выдали свежие боеприпасы. С трудом верится, что игра в войну окончена и впереди нас ждут настоящие, а не инсценированные бои.
Но такова реальность. Вражеский сапог вот-вот вступит на землю нашей родины. Какой позор для нас, тех, у кого в руках оружие.
21 октября. Предполагается, что русские углубились на нашу территорию на десять километров к юго-западу от Гумбиннена, а на западе дошли до небольшого городка Неммерсдорфа, что на реке Ангерапп. В нашей роте царит неразбериха. Машины с офицерами носятся туда-сюда, повсюду раздаются самые разные приказы. К нам то и дело приезжают допотопные грузовики с дровяными генераторами. В их кузовах – новобранцы, еще не прошедшие курс боевой подготовки. До сих пор эту технику использовали лишь на подсобных работах. И вот теперь нас сажают на эти колымаги, и мы вынуждены в тесноте сидеть на полу среди ящиков с боеприпасами и мешками дров.
Не успеваем мы отъехать на несколько километров, как застреваем в пробке. Дорога забита беженцами, их повозками и лошадьми, и мы вынуждены искать окольный путь через леса и поля, чтобы прибыть в пункт назначения неподалеку от Неммерсдорфа. Во второй половине дня мы слезаем с наших грузовиков и движемся дальше пешком по обочинам с обеих сторон дороги. Что удивительно, здесь тихо, никаких взрывов, никакой перестрелки. Увы, эта тишина длится недолго, вскоре ее нарушает огонь башенных орудий вражеских танков. Судя по всему, неприятель стоит всего в двух километрах от нас и ведет обстрел дороги. Мы все как по команде за неимением другого укрытия бросаемся в придорожную канаву.
Ближе к вечеру под покровом темноты мы приближаемся к деревне и роем окопы на невысоком холме. Разведка доносит, что в течение последних недель русские заняли окопы, выкопанные бойцами фольксштурма и местным населением для защиты деревни. И вот теперь нашей учебной роте предстоит с криком «ура!» взять эти укрепления. По крайней мере, так нам сказано.
Ночь проходит тихо, однако новобранцы нервничают и никак не могут уснуть. Для них и для моряков это будет боевое крещение.
22 октября. Сегодня над полями висит туман, так что вместо деревни нам видны лишь смутные очертания домов. Наша рота заняла позиции на правом фланге и ждет дальнейших приказов. Правда, похоже, что нашим новобранцам не сидится на месте. Не дожидаясь приказа, они с криками «ура!» устремляются вперед, однако тотчас принимают на себя ответный автоматный огонь. Мне слышно, как чьи-то голоса зовут санитаров. Затем мы снова идем в атаку. Как ни странно, вражеский огонь сейчас гораздо слабее. И все равно у нас четверо раненых, трое с легкими ранениями и один с тяжелым. Думаю, что потери других рот значительно больше наших: там потеряли убитыми и ранеными не только рядовых солдат, но и младших и старших офицеров. Впрочем, враг в своих окопах тоже несет тяжелые потери. Те, кому повезло остаться в живых, пытаются бежать, но мы их ловим, и они один за другим попадают к нам в руки.
Больше нам на пути не встретилось русских. Мы свободно проходим через деревню. По дороге мы видим изуродованные человеческие тела – следы страшных зверств, вроде тех, что русские творили над своими соотечественниками весной 1944 года. Я был тому свидетелем во время нашего отступления. Вот и здесь я вижу тела убитых немецких женщин. Одежда на них бесстыдным образом порвана, а сами они изуродованы ужасным образом. В сарае мы находим тело старика, которому вилами проткнули горло, и теперь его тело, словно тряпка, висит, переброшенное через дверь. В одном доме все перьевые подушки вспороты и перемазаны кровью, а среди пуха и перьев лежат расчлененные трупы двух женщин и двоих детей. Вид этого зрелища столь ужасен, что некоторые из новобранцев выбегают на улицу, их рвет.
Невозможно описать чудовищные зверства, что предстали нашему взору в Неммерсдорфе. Для их описания у меня просто не хватает слов. И тем более жутко рассказывать о тех надругательствах, что выпали на долю ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. В какой-то момент я задумываюсь о том, что сказал один из новобранцев, когда увидел стаи воронья над деревней. Он их тогда назвал стервятниками. Неужели то было обыкновенным совпадением, что над деревней собралась черная туча птиц? Что это было? Может, дурное предзнаменование. К сожалению, я не могу обсуждать эту тему с молодым человеком, потому что он в числе тех, кто получил ранение во время утренней атаки.
23 октября. После боя за Неммерсдорф нам становится известно, что местное отделение национал-социалистической партии не предупредило население деревни и не предприняло мер по его эвакуации. Вот почему русские застали людей ночью врасплох, когда те мирно спали в своих постелях. Чего не скажешь о самих партийных функционерах. Вот кто успел вовремя унести ноги.
25 октября. Объединенными усилиями немецким частям вновь удается отбросить русских назад, и линия фронта на какое-то время стабилизируется. Наш резервный батальон еще на несколько дней остается в Неммерсдорфе, чтобы занять позиции в окопах и на близлежащих высотах. Этим утром нас сменили, и мы возвращаемся в наши казармы в Инстербурге. В течение последующих дней учебный центр свертывает свою работу. Учебные роты наконец-то будут задействованы на передовой.
27 октября. Сегодня мы покидаем Инстербург, но никто толком не знает, куда нас перебрасывают. По лагерю ходят самые разные слухи. Кто-то говорит, что нас отправят на передовую, другие – что просто перебросят в другой учебный центр где-то на территории Польши. Тем временем часть бывших моряков отправили в другие части, зато им на смену прислали бывших летчиков люфтваффе.
29 октября. Ну все, кажется, ситуация прояснилась. Нас высаживают в Лодзи, после чего мы с песнями маршем входим в ворота польских казарм, которые станут нашим домом на предстоящие несколько недель.
Глава 16. ИЗ ПОЛЬШИ В РАЙ ДЛЯ ГЛУПЦОВ
10 ноября. Мы уже почти две недели обитаем в одной из бывших польских казарм. Это красное кирпичное здание, обнесенное со всех сторон высокой стеной. В последние дни ударили морозы, и нам выдали теплые шинели. Каждое утро мы с песнями маршируем вместе с другими учебными ротами по улицам Лодзи, направляясь к тренировочному полигону за чертой города. Полигон огромен и хорошо оснащен. Здесь есть даже противотанковые окопы. Натаскивать бывших летчиков и моряков, пытаясь сделать из них пехотинцев, дело нелегкое, хотя и имеет свои положительные стороны.
На кормежку жаловаться не приходится. Если что урезали, так это пайку табака, и заядлым курильщикам, вроде меня, ее не хватает. Не удивительно, что некоторые солдаты пытаются наладить контакты с местным населением, чтобы разжиться на черном рынке польскими папиросами, – так называются сигареты с длинным мундштуком, – чтобы потом перепродавать их другим. Эта торговля сопряжена с определенным риском, и в одной из частей солдаты были предупреждены о том, что любые контакты с местным населением чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. Некоторые солдаты уже за это поплатились.
Торговля из-под полы незаконна, поэтому происходит в сомнительных местах. Немецких солдат нередко нарочно заманивают в темные углы и подворотни. Как правило, этим занимаются участники польского сопротивления с единственной целью: убить наивного немца. Практически каждый день мы слышим о том, что где-то нашли мертвое тело либо кто-то пропал без вести. В нашей казарме было два таких случая – новобранцы ушли в город и бесследно исчезли. По словам других бойцов, дезертирство не входило в их намерения.
7 января 1945 года. В нашей казарме вновь царит полная неразбериха. В очередной раз нас отвозят на товарную станцию и грузят на поезд. Нам не говорят, куда мы едем, но слухов по этому поводу хоть отбавляй. То и дело выдвигаются разные версии, хотя мы, как инструкторы, знаем от командира батальона, что на фронт нас точно не отправят, потому что наши подопечные еще не до конца прошли курс боевой подготовки. Обычно мы передвигаемся ночью, а поскольку города подвергаются массированным бомбардировкам, то наши остановки нередко бывают в чистом поле. Нас везут через Берлин и Гамбург дальше на север, в Данию. Наконец мы доезжаем до Архуса. Здесь нас ссаживают с поезда и везут в небольшую деревню.
10 января – 6 марта. Наша учебная рота размещена рядом с портом, в новенькой, недавно построенной школе. Условия размещения отличные; здесь хватает места для проведения тренировок и обучения обращению с оружием. На улице царит жуткий холод. Поля припорошены снегом. Надо сказать, что наш гарнизон расположен очень удачно, всего в нескольких минутах ходьбы от полигона, где можно проводить занятия по пулеметной стрельбе.
Мы делаем ознакомительную вылазку в деревню и остаемся довольны. Такое впечатление, что мы в раю, потому что здесь можно купить то, без чего мы обходимся вот уже долгое время. Например, пирожные и булочки с кремом – они продаются в любой кондитерской. Вряд ли я в ближайшее время запихну в себя столько заварных пирожных, сколько поглотил их за последние несколько дней.
Наше пребывание в Дании началось, казалось бы, удачно, однако после того, как имели место несколько неприятных и провокационных случаев, для меня и моих товарищей пребывание здесь превратилось в невыносимую пытку. Причиной всему – наш новый ротный командир, который ничего не смыслит в боевой подготовке. Мы успели убедиться в этом уже в самый первый день, как только прибыли на место. Поскольку, по его мнению, наша рота должна была стоять по линейке, когда Transportfuhrer явился к нему с рапортом, он целый час продержал нас по стойке смирно на морозе перед зданием школы. Лишь после этого он принял рапорт и дал команду вольно. С его стороны это была довольно эгоистичная выходка – ему хотелось продемонстрировать свою власть над нами. Вместо этого он выставил себя полным кретином.
А вообще это был комичного вида лейтенант из той породы, что обращают главным образом внимание на то, как начищены у солдат сапоги. В последнее время таких, как он, – не иначе как из жалости – стали производить из фельдфебелей в офицеры. По крайней мере, в его случае, так оно и есть, потому что он где-то успел лишиться левой руки и одного глаза, что помогло ему получить серебряный значок за ранение и Железный крест 2-го класса. То, что он потерял левую руку, ничуть не мешает ему пользоваться правой – он то и дело нервно вскидывает ее, словно фельдфебель в учебке, а то и вообще хлопает нас по отдельным частям тела, чтобы мы не забывали о солдатской выправке. Все это происходит на глазах у новобранцев, когда мы докладываем ему во время построения. Унижать нас так в присутствии наших подопечных очень глупо. Это дико смотрится со стороны. С трудом верится, что подобные глупости допускает человек, который старше нас по рангу. Из-за этих вечных придирок – то ему не нравится, как кто-то чересчур приподнял плечо, то ему кажется, что чья-то ладонь при отдаче чести не дотягивает до линии бровей – он заработал себе прозвище Нокаиде (Деревянный Глаз).
На протяжении последующих недель Деревянный Глаз совершенно измучил нас своими придирками, чем напрочь отбил у всех желание служить в его роте. Однажды, после столкновения с отрядом датских партизан, которые взорвали железнодорожную ветку, мы узнали от вахмистра из другой роты, что свой чин наш командир получил всего несколько месяцев назад и мы у него – первые подчиненные. С нами он обретает опыт командования. Судя по всему, ему даже в голову не приходит, что если берешься командовать людьми, то будь добр изменить свои взгляды на жизнь и отношение к людям. Пусть Деревянный Глаз носит офицерскую форму, из-за своих детских выходок он как был, так и остался тупым фельдфебелем.
8 марта. Мы провели в Дании почти два месяца, и вот теперь новобранцам приказано отправляться на передовую. И хотя мы, казалось бы, ждали этот приказ, все равно он явился для нас неожиданностью. Я моментально столкнулся с дилеммой: то ли мне оставаться здесь и дальше терпеть придирки нашего Деревянного Глаза, то ли добровольцем отправиться вместе с остальными бойцами на фронт. Поговорив с нашим обером, – тот занял весьма мудрую позицию, предпочитая не втягивать себя в дрязги, и потому советует мне остаться: я понимаю, что не в силах изменить порядок вещей в нашей роте. И потому принимаю для себя решение мой долг – сражаться на передовой, а не подвергать себя всяческим унижениям здесь, в учебном центре.
Не скажу, что это решение далось мне легко, однако оно явилось очередным свидетельством того, насколько я устал и разочарован службой. Я сообщаю нашему ротному о своем решении сражаться на передовой. Мне понятно, что я тем самым ставлю его в довольно щекотливое положение. В своей обычной напыщенной манере он напоминает мне о моем золотом значке за ранение и других наградах, после чего спрашивает, хорошо ли я все взвесил, ведь я уже сделал для отечества больше, чем другие. За эти слова мне хочется ему нагрубить и остаться – можно подумать, я не знаю, что жутко раздражаю его тем, что я, обыкновенный обер-ефрейтор, успел удостоиться высоких наград, а с его самомнением это впрямь задевает его за живое.
10 марта. Наша учебная рота – теперь именуемая резервной – погрузилась на поезд и приехала в Гамбург. Здесь нас встречают и везут в казармы. После нас прибывает еще одна рота – как и мы, она проходила подготовку в Дании, а с ней и Герхард Бунге, с которым мы вместе проходили курс молодого бойца в Инстербурге в 1942 году. Бунге тогда решил пройти дополнительный курс подготовки и за это время успел дослужиться до фельдфебеля-фаненъюнкера. Он воевал на передовой и удостоился Железного креста 2-го класса и бронзового значка за участие в боях.
Он рассказывает мне, что наша дивизия сражалась в Восточной Пруссии, однако в настоящее время существует лишь как боевая группа. Нам должны выдать новую форму, потому что сейчас мы – пополнение для элитной дивизии «Гросс Дойчланд», которая понесла тяжелые потери в живой силе в боях под Штеттином на правом берегу Одера.
Бунге прав. В те дни, когда я сам был новобранцем, я, наверно, с гордостью бы носил на рукаве узкие черные нашивки с серебряной надписью «Бригада сопровождения фюрера «Гросс Дойчланд». Теперь же слово «Гросс Дойчланд» (Великая Германия) воспринимается как насмешка, и не в последнюю очередь потому, что сегодня так называемая «элитная» часть – это разношерстная кучка наскоро обученных юнцов из гитлер-югенда, наскоро переобученных моряков и летчиков люфтваффе, а также пожилых этнических немцев из восточно-европейских стран, которые говорят на ломаном немецком. В общем, жуткий сброд, какого я отродясь не видал, даже в 1942 году, когда мы отступали от Сталинграда.
14 марта. Нам выдали форму, оружие и боеприпасы, так что теперь мы готовы к отправке на фронт. Однако не успеваем мы получить приказ ехать на передовую, как нам тут же велено оставаться на месте. Судя по всему, не хватает транспорта, и нам приказывают оставаться в казарме и ждать дальнейших указаний. Неужели это наш последний краткий период отдыха перед тем, как все будет кончено? Мы не теряем времени даром: спешим познакомиться с Реепербаном (знаменитый квартал красных фонарей в Гамбурге), но вот досада! Оказывается, многие публичные дома лежат в руинах после бомбежки! Единственное место, где мы, солдаты, можем слегка развлечься, это ипподром, но уже через полчаса раздается завывание воздушной тревоги. Все тотчас бросаются в подвалы или же в подземные бункеры. Я впервые на собственном опыте узнаю, что такое массированные бомбардировки союзников.
Война теперь повсюду! Она разрушает города, убивает людей с воздуха. Ужас читается на человеческих лицах – страх, страдания, подавленность. Все кажутся старше своих лет. Война ежедневно изматывает нервы, ежедневно собирает свою скорбную дань убитыми и ранеными. Она жестокой рукой разрывает нити дружбы и семейные узы, навлекая на людей неописуемые страдания и несчастья.
Война капут! Помнится, в таких словах выразила Катя свое желание, полное отчаяния и боли, когда мы стояли на никопольском плацдарме. Думаю, это самое желание тысячи раз повторяли многие люди – скорее бы только закончилась эта проклятая война! Но, увы, она продолжается. Она превращает в руины все вокруг, не разрушает она только себя. Все фанатики, которым сейчас не позавидуешь, должны либо признать свою неправоту, либо их следует призвать к ответу. Многие им до сих пор верят. Еще бы, ведь они умеют вывернуть правду наизнанку. Они верят в силу сверхсекретного «чудо-оружия», о котором говорят на каждом углу. Лично я настроен скептически – очень даже скептически, – потому что нам уже успели наобещать златые горы, вот только где они? Зато я не сомневаюсь в одном – у меня нет желания подставлять себя под пули. Меня не оставляет чувство, что для нас все быстро идет к своему финалу. Советские войска вышли к Одеру; их союзники англичане и американцы вот-вот форсируют Рейн.
19 марта. Приказ на марш пришел два дня назад. Нас погрузили на поезд и отправили в Штеттин. Уже рядом с вокзалом мы попадаем под вражеский огонь; в результате: один убит и двое ранены. Пока мы сгружаемся с поезда, вокруг нас царит полная неразбериха. Все бегают туда-сюда, как те курицы, когда им отрежут головы, и нам, старослужащим, приходится как следует потрудиться, чтобы сохранить хотя бы видимость порядка. После нескольких месяцев в тылу мне, похоже, вновь придется привыкать к фронтовой жизни. Например, к мысли о том, что Иван готов в любую минуту вонзить в меня свои железные когти. Как долго это протянется на сей раз? И чем все закончится?
20 марта. После утомительного марш-броска мы, наконец, достигаем части, к которой приписаны. На просторной деревенской площади нас встречает офицер, несколько фельдфебелей и унтер-офицеров, которые тотчас же принимаются сортировать и строить долгожданное подкрепление. Немолодой майор, со значком Железного креста времен Первой мировой на груди, похоже, не ожидал получить пополнение. Он подходит ко мне и спрашивает:
– Как дела, старина?
Я смотрю на него и думаю: а он прав, если только он имеет в виду мой возраст. Однако я беру себя в руки и отвечаю:
– Если герр майор имеет в виду мой боевой опыт, что ж, таковой у меня имеется.
Он кивает и уже без обиняков спрашивает, где я воевал и что делал до сих пор. В конце концов я рассказываю ему, что буду рад, если мне вновь поручат тяжелый пулемет.
Майор качает головой.
– Боюсь, что места пулеметчиков уже все заняты, а должность командира отделения была занята пару дней назад.
Его слова означают для меня одно: надо готовиться к худшему. Расстроенный, я отвечаю:
– Значит, меня бросят на передовую с винтовкой в руке, я вас правильно понял, герр майор?
Он смеется моим словам и дружелюбно хлопает меня по плечу.
– Разумеется, нет! – говорит он решительным тоном. – Это было бы слишком. Кроме того, я не люблю, когда гибнут хорошие парни.
Что ж, приятно слышать, говорит мне мой мозг. С каждой минутой майор нравится мне все больше и больше. Но затем он умолкает, и я вижу, что он что-то обдумывает.
– Вы умеете ездить на мотоцикле? – неожиданно спрашивает он.
– Разумеется, герр майор! – тотчас выпаливаю я, причем не без гордости. – У меня имеются армейские водительские права. Я имею право садиться за руль любого транспортного средства вплоть до бронетранспортера.
– Вот и отлично! – восклицает майор и кивает, довольный моим ответом.
– Начиная с завтрашнего утра я назначаю вас главным моторизованной курьерской службы при штабе нашего полка – вам все понятно? А через несколько дней ждите приказ.
Его предложение застает меня врасплох, однако я без колебаний отвечаю:
– Слушаюсь, герр майор!
Что еще мог сказать ему я, обыкновенный обер-ефрейтор? Мог ли я отказаться? Поступи я так, тем самым я бы огорчил его, и кто знает, куда бы он послал меня в таком случае? Моторизованный курьер – что ж, может, оно даже к лучшему. Разумеется, особой радости по этому поводу у меня нет – до сих пор я имел весьма смутное представление о том, с чем связаны обязанности курьера. Что ж, как говорится, поживем – увидим. Тем более что ждать осталось считаные дни.
21 марта. Мы в жуткой спешке. Сегодня мне выдали мотоцикл и необходимое снаряжение. На данный момент курьерская служба состоит из пяти человек, и расквартированы мы при штабе полка. Сам штаб, вместе с главнокомандующим, расположен в подвале школы. Роты стоят примерно в двух километрах перед городом и вынуждены постоянно отбивать атаки противника. В штабе царит суета, народ беспрестанно снует туда-сюда. Я впервые на собственном опыте сталкиваюсь с атмосферой полкового штаба. На линии фронта противник постоянно пытается прорвать нашу оборону, однако пока что мы каждый раз отбрасываем его назад. Его тяжелая артиллерия поливает деревню нескончаемым огнем, и снаряды порой рвутся совсем близко.
Хотя передовые части постоянно выходят на связь по радио, нас, курьеров, задействуют всякий раз, когда нужно отдать какой-то важный приказ. Уже в самый первый день все мои курьеры давно в пути, пора и мне самому садиться в седло. Минут десять-пятнадцать, и я начинаю проклинать мое новое назначение. То, что с майорской точки зрения было едва ли не безделицей, оказывается сущим адом: сидя за рулем мотоцикла, я подставляю себя под пули даже чаще, чем когда сражался с врагом на передовой, сидя в окопах. Моим курьерам и мне приходится вести мотоциклы по мягкой земле и воронкам от бомб и все время увертываться от вражеского огня. Однажды, в самый первый день, земля передо мной неожиданно проваливается от взрыва, и я с моим мотоциклом лечу в яму! Пока я пытаюсь выбраться из воронки, рядом разрывается еще один снаряд, и я вновь падаю в яму. Надо сказать, что мне везет – мимо едет тягач, который при помощи троса вытаскивает меня на твердую почву.
Мотор рычит, пальцы впиваются в руль, и я головой припадаю к нему – вот так я лечу на передовую, чтобы успеть вовремя передать приказ. А это не так-то легко сделать, потому что рота, в которую я должен его доставить, уже успела под лавиной вражеского огня сменить позиции, и мне приходится спрашивать, где она сейчас находится. Я вновь совершаю бросок по адскому полю под артиллерийским огнем и градом пуль. В конце концов шинель на мне вся изодрана в клочья, но я сам каким-то чудом цел и невредим, если не считать нескольких царапин.
26 марта. Риск, который несет с собой курьерская служба, – эти безумные гонки по грязи и воронкам – это игра не на жизнь, а на смерть. Но, с другой стороны, я играю в нее всего пять дней. За эти два дня двое моих курьеров вышли из строя по причине ранения, я же должен обучить тех, кого прислали взамен. А пока, как говорится, лукавый не дремлет. После крупного наступления с нашей стороны, которое, правда, не дало ощутимых результатов, русские развернули контрнаступление. Нам, курьерам, в эти дни пришлось нелегко, и я в очередной раз проклял майора, который обещал «не подставлять» меня под пули.
Когда летишь по полю на чертовом мотоцикле, защиты ждать неоткуда, а я то и дело ношусь как заяц по полям в поисках нужной мне роты. Когда я подхожу к моей машине и снимаю кожаные ремни с вещмешка, в котором храню еду, я слышу, как рядом со свистом пролетает граната, после чего грохочет взрыв, причем в непосредственной близости от нашей школы. Осколки впиваются в каменную кладку. Я слышу, как они проносятся мимо, и инстинктивно втягиваю голову в плечи и пригибаюсь. Увы – слишком поздно! Не иначе, как на одном из них было написано мое имя. Сначала я чувствую лишь легкое прикосновение к моему прорезиненному плащу, а затем что-то больно ударяет меня по локтю. Я ощущаю резкую боль, по рукаву стекает ручеек крови, но зато неожиданно я чувствую себя свободным, словно с моих плеч сваливается тяжкий груз. А еще мне понятно, что и на этот раз, как и прежде, у меня имелось дурное предчувствие.
Глава 17. ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ СИБИРЬ
Спокойно, как ни в чем не бывало, я спускаюсь обратно в подвал, где фельдшер накладывает мне повязку. Огромный осколок протаранил плоть над локтевым суставом и угнездился вплотную к кости. Доктор надеется, что осколок не повредил саму кость. Поскольку майор в настоящий момент отсутствует на командном пункте, я отправляюсь к командиру полка и в соответствии с уставом докладываю о своем ранении. И когда он протягивает руку, меня постигает ощущение, что oberst больше моего рад, что мне разрешено съездить на побывку домой. Однако некоторые из присутствующих здесь ревностно и, более того, с завистью воспринимают тот факт, что, пробыв здесь меньше недели, я получаю разрешение оставить поле боя из-за незначительной раны, по сути дела царапины, не угрожающей жизни. Это я точно знаю, потому что некоторые выкрикивают мне вслед оскорбления. И хотя на командном пункте никто открыто этого не показывает, я вижу, что все здесь по горло сыты войной. Люди сражаются лишь потому, что в свое время, как немецкие солдаты, они принесли присягу верности флагу и дали клятву о недопустимости дезертирства.
Я также не могу освободить себя от этого обязательства, хотя и не верю больше никакой пропаганде. Не думаю, что на данном этапе войны найдется хотя бы одна наивная душа, которая действительно верит в то, что война закончится в нашу пользу. И те бои, что мы сейчас ведем, это не более чем жест отчаяния, последний вздох перед поражением. Однако никто не осмеливается открыто говорить о таких вещах. И вовсе не факт, что если я нахожусь среди друзей, то одновременно пребываю в кругу единомышленников. Например, по дороге сюда мы видели военную полицию. Вот кто, не раздумывая, расстрелял бы любого инакомыслящего или в целях устрашения предал бы публичному повешению.
Один из моих курьеров на мотоцикле довозит меня до медицинского пункта, где спустя некоторое время меня пересаживают в машину «Скорой помощи», которая, по всей видимости, должна доставить нас в Штеттин. Тем не менее говорить о том, что мы в безопасности, еще рано, пока мы не пересечем другой мост через Одер, расположенный вне пределов досягаемости вражеской артиллерии. Мост поврежден, и нам приходится ждать наступления ночи, прежде чем удается спокойно пересечь его. Мне уже лучше – впервые за долгое время.
27 марта. «Скорая помощь» привозит нас в большой военный госпиталь в Штеттине, до предела забитый ранеными. Здесь только два медика, которые помогают выгружать из машины тяжелораненых и тех, кто не может передвигаться без посторонней помощи. До меня и еще двоих с легкими ранениями им нет никакого дела. Из-за всей этой лихорадочной суматохи невозможно найти доктора, который осмотрел бы наши ранения, поэтому мы пребываем в полусонном состоянии всю ночь и искренне рады, когда поутру нам дают горячий кофе с хлебом и мармеладом. Поскольку я могу действовать только правой рукой, парень с ранением в голову помогает мне резать хлеб.
28 марта. За все утро никто так и не уделил нам внимания, хотя медицинская сестра из организации Красного Креста присматривает за нами и снабжает болеутоляющими. Она рассказывает нам, что в городе полным ходом идет эвакуация раненых в другие военные госпитали на западе, и нам следовало бы попытаться попасть на один из этих эвакуационных поездов.
«Отступаем в Гамбург!» – заявляет обер-ефрейтор из нашей группы, с повязкой на голове. Выясняется, что это Детлеф Янсен из Бремерхафена. Мы с несколькими другими ранеными приходим к выводу, что нас объединяет одно-единственное желание – оказаться как можно дальше от Восточного фронта. И даже если нам придется попасть в плен, пусть уж лучше это будут британцы или американцы.
29 марта. Мы вместе с четырьмя другими ранеными едва успеваем добраться до Шверина, как нас тут же останавливают «цепные псы», снимают с поезда и подвергают «проверке». Свиньи! Они не церемонятся с нами, жестоко срывают повязки с наших ран, хотя мы самым очевидным образом показываем свои нашивки о ранениях. Когда же мы пытаемся протестовать против их действий, они ссылаются на «правила», которые якобы им спущены свыше: мол, таким образом, они выявляют и отлавливают дезертиров и симулянтов. Мне остается лишь стиснуть зубы и дать перевязать себя снова. Больше всего раздражает то, что эти гады мнят из себя бог весть что, а нас, бойцов с передовой, даже не считают за людей; а ведь кто как не мы рискуем собой ради них под вражескими пулями.
10 апреля. Следующие несколько дней провожу в военном госпитале в Йене. Здесь все тихо и спокойно. Госпиталь расположен в бывшей школе на окраине города. Мою повязку поменяли, гноящуюся рану промыли.
Осколок предполагается вытащить, поскольку он причиняет мне неудобство.
Кормежка здесь отличная, однако по части табака не густо – каждому из нас положено лишь по пачке. Понятное дело, что нам ее не хватает, и мы пытаемся разбавлять табак листьями ежевики. Вкус отвратительный! Немолодой солдат, пробывший здесь некоторое время и знающий все ходы и выходы, приносит нам какую-то траву, которая растет в соседнем лесу. Мы сушим ее, а затем смешиваем с табаком и таким образом растягиваем нашу скудную пайку. Вопрос в другом: как долго смогут наши легкие выдержать эту адскую смесь.
12 апреля. Буквально накануне над лагерем нависло ощущение грядущей катастрофы. Готовится эвакуация. Сегодня я, наконец, сумел связаться с отрядом противовоздушной обороны возле Апольды, в котором служит Траудель, моя девушка. Их отряд также находится в самом разгаре сборов с тем, чтобы двинуться на новое место, поэтому мне удается поговорить с ней всего несколько минут. Это была наша с ней последняя встреча.
13 апреля. Я решил присоединиться к группе раненых, которая едет в Плауэн, но и здесь меня ожидает та же проблема – переполненный госпиталь. Никому нет до нас дела; все озабочены только одним – как спасти свою шкуру.
Я знакомлюсь с одним ефрейтором, родом он из Мариенбада, что в Судетской области. Он рассказывает, что его родители держат там маленький часовой магазин. Наш разговор заставляет меня вспомнить про солдата, которому ампутировали ногу на Рождество 1942-го и который был моим соседом в санитарном поезде после кровопролития под Рычовом.
Тот солдат тоже рассказывал мне, что он родом из Мариенбада. Он расписывал красоту этого места в таких страстных выражениях, что мне тогда захотелось там побывать. И вот, по милости судьбы, сейчас я оказался совсем близко к этому прекрасному курорту. Я не стал долго раздумывать, а тотчас присоединился к молодому, светловолосому ефрейтору и еще нескольким бойцам, которым также нужно было попасть туда.
14 апреля. Прошлой ночью мы остановились в Эгере, где получили щедрые походные пайки. Нам повезло поймать попутку от станции. Грузовик этот едет на склад военного снабжения, и мы преодолеваем на нем довольно приличное расстояние. Остальную часть пути мы совершаем пешком. Погода стоит прохладная, но, как бы в компенсацию этого, солнечная.
Дорога, что ведет сквозь чудесный сосновый лес, пошла мне на пользу, и я с удовольствием вдыхаю полной грудью лесной воздух. Я бы чувствовал себя совсем хорошо, если бы не давала о себе знать рана, которая из-за всех этих передряг начала гноиться. Так что я счастлив, что мы, наконец, достигаем Мариенбада. В местном госпитале мне наверняка окажут медицинскую помощь.
21 апреля. Время бежит здесь намного быстрее, и любой из нас был бы не прочь замедлить часы, будь это возможно. Мы с пристальным интересом наблюдаем за продвижением неприятеля на обоих фронтах. Каждый надеется, что американцы окажутся здесь первыми; более того, многие рассчитывают добраться до американских позиций пешком. Но американцы еще довольно далеко от этих мест. В Мариенбаде и его окрестностях по-прежнему тихо.
Выздоравливающих солдат вновь начинают отправлять на передовую. Так как я еще не полностью выздоровел, то остаюсь в госпитале для дальнейшего лечения. Моя рана все еще гноится; процесс, судя по всему, затронул и саму кость. Отлично! Я не слишком переживаю по этому поводу, поскольку боль вполне терпима.
29 апреля. Вчера прошел слух, что американцы придут с запада и, возможно, окажутся здесь, в Судетской области, раньше русских. Мы вздыхаем с облегчением и надеемся, что так оно и будет. Мариенбад – это по сути один большой лазарет, никаких боевых частей здесь нет. Следовательно, город будет сдан победителям без боя. Правда, на окраинах города и в лесах все еще остаются немецкие войска.
Ходят слухи о некоем упертом командующем, чьи солдаты пытаются оказывать американцам сопротивление. Несомненно, даже сейчас, когда военная драма неуклонно приближается к финалу, найдутся поврежденные умом войсковые командиры, которые будут беспрекословно следовать приказам Гитлера и сражаться до последнего патрона. Они вольны поступать, как им вздумается, но я надеюсь, что они будут делать это в одиночестве, не ставя под угрозу чужие жизни. Сражаться с американцами сейчас было бы не просто безумием, но и предательством по отношению ко всем раненым, находящимся в этом прелестном городе. Потому что поступить так – значит напрасно задержать американцев, и тогда первыми в Мариенбад войдут русские. В таком случае одному богу известно, что ждет нас, раненых, и гражданское население. Храни нас, Господь! Уж если нам суждено попасть в плен, то будем надеяться, что к американцам. Известно, что, в отличие от русских, они обращаются с пленными в соответствии с Женевской конвенцией.
30 апреля. Мы все чувствуем, что конец уже не за горами. Даже снабжение продовольствием прервано, и кое-кто начал подчищать склады. Сегодня я проходил лечение в госпитале, поэтому лишь под вечер узнал о том, что склад с военной формой разграблен. Все солдаты снуют вокруг в новых мундирах и сапогах. Мне удалось заполучить пару коричневых башмаков, которые оказались малы всем остальным.
1 мая. Ефрейтор Бирнат из нашего пансиона и обер-ефрейтор Фогель из моей комнаты неожиданно взяли в руки учебник английского языка. Они заучивают слова, которыми встретят американцев, и отрабатывают их произношение. Большинству из нас не по душе то, что они делают: по нашему мнению, они оба предатели и после нашего поражения с готовностью станут работать на врага, лишь бы заполучить хоть какие-то блага. Впрочем, не знаю, имею ли я право судить о них слишком строго. Возможно, они не держат зла на противника, в руки которого нас теперь передадут без суда и следствия. Эти двое служили в зенитной части и, значит, не видели ужасов фронта – счастливчики, они относительно легко отделались и потому смогут скоро забыть ее, в отличие от меня и многих других, которые прошли через ад Восточного фронта и сейчас стоят перед грудой развалин. Мне не дает покоя чувство, что меня обманули, и я ненавижу все, что так или иначе имеет отношение к этой войне.
4 мая. В последние несколько дней в город нескончаемым потоком прибывали отбившиеся от своих частей солдаты, но их тотчас же отлавливают и отправляют на передовую. Близлежащие леса сейчас ими кишмя кишат – люди ищут убежища на западе, чтобы только не попасть в лапы русским. Три дня назад мы узнали о самоубийстве Адольфа Гитлера и Евы Браун. Мы были потрясены тем, что гордый вождь нации решил свести счеты с жизнью столь малодушным образом. Правда, спустя несколько часов о нем уже забыли: с нас хватает собственных забот. Говорят, что русские уже совсем рядом и скоро окажутся здесь. Так что спим мы беспокойно. Да и как тут уснешь, когда поблизости с двух сторон грохочет вражеская артиллерия.
5 мая. Начало дня было облачным. Солнце нагрело молодую зеленую листву и ветви и прочертило четкие тени на аккуратных пешеходных дорожках. Трава в садах и парках темно-зеленая, а кустарник вдоль дорог в самом цветении и источает сказочный аромат. Этот весенний день прекрасен – не в последнюю очередь благодаря известию о том, что сегодня Мариенбад будет сдан американцам без боя. И мы вот уже в течение нескольких часов ожидаем бескровного прихода американцев.
Интересно, какие они? Когда мы узнаем об их приближении к городу, я и еще группа солдат идем по улице и останавливаемся возле большого госпиталя. Солдаты, раненные на Западном фронте, рассказывают, что американцы вооружены намного лучше нас, но гораздо более изнежены. Если бы их не кормили на убой и не будь у них такого количества оружия, им бы никогда не одолеть нас, немецких солдат. Да что там! Даже просто выжить в бою. Но к чему подобные сравнения? Они победители, и нам вскоре предстоит встретиться с ними лицом к лицу.
Теперь лязг гусениц слышится уже близко. Вот они! Идут! Я недоумеваю, отчего столько солдат сидит поверх танков, как если бы они готовились открыть огонь. Вскоре они совсем близко, и я чувствую, как у меня по спине забегали мурашки. Да они же точь-в-точь как русские, только форма другая! Они заняли позиции для стрельбы с колена и держат автоматы наготове. Их лица жестоки, в глазах настороженное выражение, так хорошо мне знакомое. Проезжая мимо нашей группы, они нацеливают автоматы на нас. Я вижу недобрый блеск в их глазах, читаю на их лицах готовность убивать. А еще я вижу страх. Неужели они не видят, что мы все в бинтах? Ни у кого и в мыслях нет оказывать им сопротивление. Или же они просто уважают немецких солдат, отсюда и их нервозность? Остается лишь надеяться, что никто из американцев, будь то белый или черный, не поддастся минутной ярости и не спустит курок. Потому мы сохраняем спокойствие и остаемся недвижимы, пока они не проедут. Но тут внезапно появляются несколько женщин и девочек с полевыми цветами в руках. Лед сломан!
6 мая. Наша свобода кончилась: приказано с сегодняшнего дня отправить всех немецких солдат в бараки. Из окрестных лесов все еще доносятся звуки перестрелки; очевидно, некоторые наши части так и не сложили оружия и продолжают оказывать сопротивление. Наш госпиталь находится под охраной, и никому не разрешено выходить без пропуска. Часовые используют боевые патроны и не задают вопросов. Перед нашим пансионатом припаркован джип с двумя чернокожими солдатами. Они неустанно что-то жуют. Завтра в госпитале будет проверка на наличие в нем эсэсовцев и выздоравливающих солдат.
8 мая. Сегодня нас перевели из пансионата в большой военный госпиталь с претенциозным названием «Бельвю». Вчера американцы в неизвестном направлении транспортировали грузовиками многих выздоравливающих и солдат из войск СС. В результате в госпиталях народу значительно поубавилось.
9 мая. В нашей пище больше нет соли. Жидкий суп на вкус совершенно пресный. Говорят, что чехи конфисковали всю соль. Не иначе как нам в отместку. Когда я выглядываю в окно, то удивляюсь, откуда только взялись все эти чешские солдаты. Между тем с капитуляцией гросс-адмирала Дёница война официально закончена.
13 мая. Неожиданно события принимают стремительный оборот, и у нас нет времени на раздумья. Будь оно у нас, мы непременно пытались бы бежать. Вовсю гуляют слухи о том, что нас скоро передадут русским. А ведь как мы надеялись, что американцы обойдутся с нами по-человечески, что они не станут выдавать пленных Красной Армии. Но этим утром нас вызвали в госпиталь, велели построиться и ждать транспорта. Нам стало ясно, что надежды наши рухнули. По пути в бараки мы встречаем нескольких женщин и девушек. Они в курсе, что нас передают русским, и они, пока не поздно, разыскивают родных и близких. Они неистово машут нам, но никто им не отвечает. Мы сидим в грузовиках в полной тишине, с бледными каменными лицами, неспособные постичь, как так получилось, что наши надежды рухнули в одночасье, что вместо человеческого обращения в американском плену, на которое мы так надеялись, нас ждут ужасы плена русского. Нас везут в Россию, а это означает не что иное, как лагеря в Сибири!
Сибирь! Какое ужасное слово! Оно стучит, гремит внутри моей головы. Могут ли американцы представить себе, что означает слово «Сибирь»? Способны ли они осознать весь тот страх, ужас и ощущение полной безнадежности, которые оно вызывает? Мы, сражавшиеся против советских войск, можем представить, что ждет нас в Сибири.
В бараках мы впервые почувствовали вкус того, что нас ожидает. Нас разместили в комнатах, обставленных нарами, наскоро сбитыми из голых деревянных досок, прикрытых одним покрывалом. Мы все еще под стражей американцев, но все меняется, когда в конце бараков останавливается товарняк и из него выходят несколько русских. Меня охватывает дрожь! Меня всегда пугали и эти лица, и эта форма! Я думал, что смогу забыть о них, но ошибался. И даже если их не будет рядом со мной, они еще долго будут преследовать меня в ночных кошмарах.
Нам приказывают построиться. Подходит переводчик. Он требует, чтобы все, кто служил в СС, сделали шаг вперед. Только несколько человек подчиняются этому требованию. Затем сделать шаг вперед велят тем из нас, кто сражался только на Восточном фронте. Переводчик призывает нас сознаваться и не лгать, потому что лживые сведения легко проверить. Я просто молчу. Мой мозг лихорадочно работает, пытаясь придумать, как мне отсюда выбраться. Я не хочу, чтобы меня отправили в Сибирь! Пусть уж лучше я получу пулю в спину при попытке бегства, как это случилось с двумя солдатами, рискнувшими бежать, когда мы строем входили в лагерь.
14 мая. Из личного опыта мне известно, что меня лихорадит всякий раз, когда рана начинает гноиться, – значит, я должен спровоцировать новое заражение. Осколок гранаты пробил что-то вроде туннеля от точки входа до кости; сразу после ранения оттуда вытекал гной. Затем отверстие заросло тонким слоем кожи, и именно его мне предстоит вскрыть. Я заставляю себя взять ржавый гвоздь. Осознаю всю серьезность последствий, но в таком безысходном отчаянии пусть я лучше умру от заражения крови, чем позволю отправить себя в сибирский ледовый ад. Морщась от боли, я прокалываю недавно зажившую кожу гвоздем, пока не проступает кровь, и, чтобы ускорить инфекцию, проталкиваю в рану несколько сантиметров марлевой повязки.
15 мая. Похоже, мой план сработал. Всю ночь меня мучили страшные боли в руке, зато днем лоб становится горячим, и я сваливаюсь в лихорадке. Пока я бреду к медпункту, голова кружится, и я чувствую, что теряю сознание. Санитар уносит меня на носилках и осматривает. Смутно помню, как обращаюсь к больничному водителю с просьбой отвезти меня в госпиталь в Байришер Хоф, что он и делает. Дальше я ничего не помню.
17 мая. Утром я просыпаюсь весь в поту. Мне снилось, что я вновь на передовой, что вокруг меня царят смерть и разрушение. Понемногу голова начинает проясняться, я понимаю, где нахожусь. Я лежу в чистой постели в госпитале в Байришер Хоф с тремя другими ранеными, в светлой и хорошо проветренной палате. Улыбчивая сиделка приносит кофе. Она дает мне в руки чашку. Вкус как у кофе в зернах, но слабый, будто его вторично подогрели. Когда я пытаюсь сесть, понимаю, насколько ослаб и что моя левая рука плотно перебинтована выше локтя.
Входит доктор. Он спрашивает, почему я не в постели. Не иначе, он накладывал мне повязку. Будто прочитав мои мысли, он говорит:
– В вашей ране застрял целый метр марли. Пришлось сделать длинный надрез выше сустава. Я поспел вовремя: еще пара часов, и можно было заказывать отходную. – Я собираюсь что-то сказать, но он не дает мне и, подмигнув, добавляет: – Все в порядке. Я просмотрел вашу солдатскую книжку и понял, почему вы это сделали.
3 июня. Как быстро летит время! Госпиталь постепенно пустеет, остаются лишь несколько человек, нуждающихся в лечении и уходе. Кормят заметно лучше, зато больше не дают табака. Некоторые пациенты имеют связь с внешним миром и умудряются время от времени разжиться американским табаком – его выбирают из пепельниц немцы, работающие на американцев!
Лично я выменивал у американцев свои награды, одну за один раз, на сигареты «Лаки Страйк», «Кэмел» или «Честерфилд». И черные, и белые американские солдаты с ума сходят по немецким медалям; возможно, они будут хвастаться ими по возвращении домой. Они даже приходят к нам в госпиталь и пытаются перебить друг у друга цену за наши награды количеством пачек сигарет. Какая мне польза от этих побрякушек? В отличие от других немецких солдат, для меня они всегда мало что значили. Я уже говорил, почему. И сейчас, когда мы потерпели поражение в войне, цена им ломаный грош. В лучшем случае это цена металла, из которого они сделаны. Уж лучше я получу за них несколько пачек американских сигарет, иначе как мне, заядлому курильщику, пережить тяжелые времена?
6 июня. Неприятности, как правило, застают нас врасплох. Так случилось и сегодня. Как раз после завтрака мне говорят, что я выписан из госпиталя и около полудня грузовик отвезет меня в лагерь для военнопленных. И хотя рана моя зажила, рука еще плохо действует, и я вынужден носить ее на перевязи. Нас везут в открытом грузовике, и спустя полчаса мы подъезжаем к лагерю.
Лагерем называется огороженное колючей проволокой место с изрядно вытоптанной травой, по периметру которого стоят американские часовые. Время от времени они резким движением перекидывают свои недокуренные сигареты через забор и гогочут, когда какой-нибудь жалкий немецкий солдат устремляется подобрать окурок, а потом, сделав несколько жадных затяжек, передает по кругу дальше, от человека к человеку. Многие пленные специально караулят под забором, чтобы ухватить выброшенный окурок. Иногда охранник устраивает целое представление: вынимает сигарету, закуривает ее, но после нескольких затяжек намеренно бросает на землю и тушит подошвой сапога. Мы готовы убить такого гада на месте!
11 июня. Ежедневно освобождают небольшое количество заключенных – тех, чей дом находится в оккупированной американцами зоне, либо тех, у кого там есть родственники и он может сообщить их адрес. Это сделано специально для тех, чей дом, как указано в их военных билетах, остался в оккупированных советскими войсками землях. Поскольку я могу представить соответствующие доказательства, то получаю свой освободительный документ и вместе с группой других солдат прохожу мимо чернокожего охранника через ворота на свободу. Через несколько метров я останавливаюсь и бросаю взгляд на грязные, жалкие фигуры пленных, согнанных в кучу на клочке земли, похожем на вспаханное поле. Впервые меня пронзает мысль, что для меня все закончилось относительно гладко. А ведь я мог бы прозябать здесь годами, за этой колючей проволокой. Я благодарен Всевышнему, потому что, наконец, вышел на свободу. И дело не только в грязи и мусоре или в никчемной потере времени, а, что гораздо хуже, в унижении, которое приходилось бы терпеть от каждого паршивого караульного солдата американской армии.
Теперь все это позади – я свободен! И с каждым шагом, отдаляющим меня от лагеря, я освобождаюсь от тяжкого бремени, давившего на меня последние недели. Постепенно во мне вновь просыпается надежда, и я начинаю воспринимать окружающее в новом свете.
Я смотрю на свои старые солдатские штаны – их нижняя часть полностью износилась. Они не вполне подходят к моим новым коричневым закрытым башмакам. Я рад, что мне удалось разжиться башмаками тогда на складе, – кто знает, когда бы мне посчастливилось обзавестись новой парой? В тот момент, когда я достаю из кармана лоскут, чтобы их протереть, надо мной нависает какая-то темная тень. Я поднимаю голову и вздрагиваю: передо мной стоит чешский солдат и на ломаном немецком требует отдать ему ботинки. Я делаю вид, будто не понимаю, что он говорит, и пытаюсь уйти, но он достает русский автомат Калашникова и толкает меня дулом в грудь. Мне видны его полные ненависти глаза, и я не сомневаюсь: он без колебаний спустит курок. Я его враг, а он победитель. Я в его власти, и ему ничего не стоит пристрелить меня, стоит лишь захотеть. Поэтому я поспешно снимаю ботинки и отдаю их чеху. В то же время чех снимает свои стертые башмаки и бросает их мне под ноги. С довольной улыбкой он надевает мои и уходит.
Как мне хотелось тогда побежать вслед за этим подонком, отнять у него мои ботинки! Но он был вооружен и жаждал мести. И мне не оставалось ничего другого, как стиснуть зубы и надеть его мерзкие башмаки, чтобы не оставаться в одних носках. Эта встреча с чешским ополченцем со всей ясностью дала мне понять, насколько беспомощен проигравший и какие глубокие корни ненависть и жажда мести пустили в наших бывших врагах.
Война капут! Пылкое желание многих людей сбылось, и война окончена. Но окончена ли она в их сердцах? Сколько потребуется времени, чтобы в людях умерли ненависть и жажда мести? Есть, я знаю, люди, которые, несмотря на жестокость и зверства, преодолели в себе ненависть и пытаются найти взаимопонимание с бывшими врагами. Именно они и подарили мне новую надежду.
Когда же люди поймут, что любой из нас может стать жертвой манипуляций помешанных на власти маньяков, которые знают, как принуждать народ в своих собственных целях? Пока сами они в безопасности, пока им самим ничего не грозит, они, не дрогнув, отправят на смерть миллионы простых людей – во имя так называемого «патриотизма». Поднимется ли когда-нибудь человечество против них? Или те, кто погиб в бою, преданы забвению, как и то, во имя чего они отдали свои жизни?
Я никогда не смогу забыть тех, кого знал. Они для меня – постоянное напоминание о том, что мне было суждено пережить их.
Назад к списку