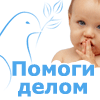Священник Тимофей Буткевич, Язычество и Иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа:
Священник Тимофей Буткевич
ЯЗЫЧЕСТВО и ИУДЕЙСТВО
ко времени земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа
Оглавление
А. ЯЗЫЧЕСТВО........................................................................................................................... 1
ГЛАВА I. Объединение народов древного мира в Римской империи................................................................... 1
ГЛАВА II. Жизнь религиозная........................................................................................................................................ 5
ГЛАВА III. Жизнь нравственная.................................................................................................................................. 14
Б. ИУДЕЙСТВО.......................................................................................................................... 22
ГЛАВА I. Страна и народ Иудейский......................................................................................................................... 22
ГЛАВА II. Правители Палестины................................................................................................................................ 32
ГЛАВА III. Синедрион и первосвященники.............................................................................................................. 46
ГЛАВА IV. Книжники Иудейские.................................................................................................................................. 51
ГЛАВА V. Жизнь богослужебная................................................................................................................................. 58
ГЛАВА VI. Иудейские народные партии................................................................................................................... 67
ГЛАВА VII. Мессианская надежда иудеев............................................................................................................... 76
ГЛАВА VIII. Иудейство в рассеянии........................................................................................................................... 84
А. ЯЗЫЧЕСТВО
ГЛАВА I.
Объединение народов древнего мира
в Римской империи
Евангелист Лука (2:1) своим указанием на повеление Октавиана Кесаря – сделать перепись по всей земле – вводит нас, так сказать, в самое сердце тогдашнего мирового царства, средоточным пунктом которого был Рим.
Древний мир рухнул; вместе с ним пали и восточные царства – Ассирия, Вавилон, Персия, Египет. Александр Македонский, этот последний и самый блистательный представитель древней греческой национальности и цивилизации, движимый тщеславием и своими удачами в завоеваниях, много прилагал старания к тому, чтобы осуществить свою заветную мысль о мировой империи, которая объединила бы Восток и Грецию; но его «чудовищное, солдатское на насилии основанное царство», как известно, распалось между его наследниками на отдельные части почти тотчас после своего образования, а неспособные и слабохарактерные преемники великого завоевателя, будучи не в силах сохранить за собой полную самостоятельность в управлении разноплеменным составом своих уделов мало-помалу должны были подчиниться всесильной власти могущественного Римского государства.
Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа Рим, таким образом, уже владычествовал почти над всем известным тогда миром и его справедливо называли «собирательною силою древнего мира, средоточным пунктом, в котором концентрировались нити всей античной жизни. Соединить в одно целое все существовавшие тогда элементы слить их в одну форму и обобщить все достигнутое развитие мысли и деятельности в одном цельном и нераздельном образе представления – вот задача и назначение Рима в мировой истории. Рим представляется как бы сосудом, в который были влиты все элементы предшествовавшего развития жизни, дабы, насколько то было возможно для духа древнего мира, образовать единое тело человечества». Да, владычество Рима распростиралось почти на всю арену древней истории; римские орлы – так назывались римские знамена – водружены были на берегах Евфрата на востоке; Египет и все северное побережье Африки также были подвластны им на юге; в подданстве Рима находились народы даже у Столбов Геркулеса – на южной границе Испании и в диких германских областях на севере.
Рим стоял на высоте своего могущества. Битва при Акциуме в 31-м году до Р. X. дала ему императора, а вместе с ним – и идеальный пункт объединения могущественного государства обнимавшего собой весь тогдашний культурный мир. Но что самое главное, – так это то, что в этом политически объединенном государстве при Октавиане Августе царил мир, благодаря которому отдельные народности все ближе и ближе могли сходиться между собою. Римляне – народ не отвлеченной мысли, а живого дела храбрости, войны и государственной мудрости – теперь стали искать уже своей славы не столько в выгодных сражениях, сколько во внутреннем благоустройстве своей государственной жизни, стали заботиться более об организации приобретенного, чем о новых завоеваниях, более старались, так сказать, связывать, чем разрушать. В особенности они много сделали в это время для сношений и торговли. Они создали дороги и мосты, чтобы крепче связать отдельные страны, сооружали стены и неприступные крепости, чтобы сберечь приобретенное усиленным трудом и великими жертвами. Благодаря таким заботам римлян в первое время империи, их государство представляло, действительно, высокую степень внешнего благоустройства. Прекрасно устроенные дороги тянулись по всему пространству Римской империи; правильно установленное почтовое сообщение приносило в Рим вести из многочисленных провинций; в определенных пунктах путешествующие всегда находили станционные здания и дворы, где им переменяли лошадей для их дальнейшего путешествия и где они могли укрыться от непогоды, найти для себя полное спокойствие и отдых. Так, одна дорога шла от Гадеса в Испании через нынешнюю Францию и далее – в Италию; отсюда, помимо водных путей, шли сухопутные дороги в Грецию, продолжавшиеся затем в Азии по ту сторону Средиземного моря. Наконец, дороги тянулись и по областям Египта, и другие – по странам придунайским. По этим дорогам императорские войска могли быстро передвигаться в разные местности и завоеванные страны, послы и вестники без задержек доставляли свои известия из провинций в Рим и из Рима в провинции. А путешествующие ради удовольствия ехали, куда только хотели, и также сравнительно с удобством могли достигать своих целей. При безопасности, обеспеченной для путешественников, какой раньше никогда не было, явилась и возможность оживленных сношений по суше и воде между соединенными под одной властью народами. Все нации теперь стали ближе соприкасаться между собой в обширной Римской империи; небольшие местности и страны, присоединенные при посредстве завоеваний и захватов к государству цезарей, уже более почти не сохраняли строго определенных границ, которые отделяли и разъединяли их одну от другой. Вследствие этого не только предметы, необходимые для внешнего существования, но и блага духовные могли быть теперь уже общим достоянием многих. По этим же причинам было возможно также и для проповедников Евангелия сравнительно легко и скоро обойти все страны и все местности римского государства и пронести по ним благовестив о Христе.
Если некоторые из провинций и завоеванных стран, именно на востоке империи, еще и имели вид самостоятельности, если их правители – этнархи и цари – еще и стояли к Риму в отношении так называемого союзничества, пользуясь титулом величества и называясь regibus sociis, «союзными царями», если некоторые колонии и города еще и пользовались относительною свободою, – то все-таки они хорошо сознавали, что фактически они всецело были подчинены римскому правительству, были его рабами, его слугами, и что все их мнимые права и привилегии находились в полной зависимости от Рима, от благоволения римских императоров. Вообще же, за немногими, только что указанными исключениями, в административном, судебном и финансовом отношении все провинции Римской империи были управляемы непосредственно римскими должностными лицами. Правда, – и это отрицать нельзя, – такое управление в отдельных местностях часто ложилось слишком тяжелым бременем на население, в особенности что касается нередко чрезвычайно и непомерно высоких налогов и податей; за то единство управления для всех составных частей разноплеменной Римской империи и римское законодательство, более или менее влиявшее на законодательства частных стран и присоединенных провинций, составляли широкое поле для сближения между собой отдельных народностей, волей или неволей подчинившихся скипетру римских императоров.
Кроме того, в высшей степени важным средством в деле всеобщего объединения и сближения, а в особенности в деле духовного общения народов того времени следует признать весьма широкое распространение в тогдашней Римской империи греческого языка. Правда, латинский язык был еще языком законов, языком суда и языком солдат, – и там, где были устроены многочисленные крепости и колонии, заселенные инвалидами, несомненно, латинский язык смешивался с грубым местным наречием и, в конце концов, становился в действительности языком господствующим; так это было, например, в теперешней Франции и в Испании. Но что касается восточной половины Римской империи, то там латинский язык встретился с более развитым греческим языком и греческою культурою и был не в силах вытеснить их, а напротив, даже уступил им первенствующее значение. Особенно со времени похода Александра Македонского в Азию и основания так называемых македонских государств в восточных странах греческий язык постепенно стал пользоваться все большим и большим распространением. При Селевкидах он вошел уже во всеобщее употребление в Сирии и Финикии и даже в городах на Тигре и Евфрате. Палестина, при своем местном арамейском наречии, также, как увидим ниже, не могла не нуждаться в греческом языке, а Александрия в Египте стала даже одним из главных пунктов греческой науки и греческого искусства, а потому греческий язык был в ней даже языком господствующим. Да и для жителей самого Рима также положительно были необходимы греческий язык и греческое образование как сами по себе, ввиду их значительного превосходства и пред латинским языком, и пред римскою образованностию, так и для сношения с многочисленными подданными Римской империи, говорившими только по-гречески. Таким образом, ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа греческий язык все более и более достигал своей популярности и силы; он не только был известен в кружках людей образованных, но он стал языком мировым, языком народных отношений, по крайней мере, настолько, или даже еще более, чем в наше время французский, немецкий или английский языки. Поэтому Элий Аристид имел полное право сказать о греках: «В победе, одержанной их языком, они достигли гораздо большего торжества, чем на Марафонском поле. Все государства и все народы усвоили себе наш образ жизни и язык. Столпы Геркулеса не заградили им пути; им не положены пределы жителями Ливии, Босфорами, или теснинами Сирии и Киликии; но как бы по божественному водительству весь мир охвачен ревностным стремлением к нашей мудрости и образованию; этот язык признали общим все подобные нам существа; а чрез него весь земной шар в одном и том же звуке стал понятным для самого себя». Но если это тот самый язык, который объединил народы Римской империи, то не есть ли он также и тот язык, на котором, например, апостол Павел мог сделать свою проповедь легко понимаемою всеми в Малой Азии, в Афинах или Риме?
Город Рим был сердцем мировой империи, и далеко пред ним отступали назад даже такие значительные пункты, как Александрия, Антиохия или Коринф. К нему тяготели, в него стекались все нации древнего мира. Рим был, как часто говорили, общиною, образованною из соединения всех народов, сборным местом земного шара. В этом городе ежедневно можно было видеть самые разнообразные, разноплеменные и бесчисленные костюмы; сюда являлись и ученый грек, и александрийский купец, и пронырливый в торговле иудей; смуглый африканец и загорелый азиат здесь встречались с белолицым европейцем. Торговые ряды, лавки и магазины были всегда наполнены самыми редкими произведениями отдаленнейших стран и провинций, прекраснейшими работами ремесел и искусства всех народов. «В Риме можно было изучать вблизи блага всего мира», говорит Плиний[1]. Нагруженные корабли летом и осенью плыли сюда из всех стран света и везли с собой в огромных запасах шерсть, шелк и полотно из Александрии, вино и устриц – с греческих островов, морских рыб – из Черного моря, целительные травы – из Африки, москательные[2] товары – из Аравии, платья и драгоценные камни – из окрестностей Вавилона. В Рим были приносимы гонцами непрерывные известия даже из отдаленнейших пределов. Иностранные художники показывали здесь свои прекрасные произведения, поэты и ораторы публично читали здесь свои творения и произносили речи. Одним словом – в Риме концентрировалась жизнь всего древнего мира.
Из Рима, наоборот, все двигалось до отдаленнейших провинций Римской империи; войска маршировали на места своих стоянок; императорские чиновники, нередко окруженные многочисленною свитою и толпою рабов и прислужников, ехали в округа своего управления, путешествовавшие ради удовольствия – в какие им было угодно отдаленнейшие страны, а купцы из главного города возвращались опять в свои отечественные местности, сообщали своим землякам новейшие известия из римской жизни и, таким образом, сами, не сознавая того, поддерживали связь своей страны с главным городом империи. Последнему в особенности много содействовали римские колонии, насаждавшие в завоеванных странах вместе с римским устройством также и римскую цивилизацию; таковы, например, воинские станы в Британии или на Дунае, на Рейне или в Сирии. И если римлянин искал для себя светского образования, как уже указано, у греков, ради чего в Италию стекались многие философы и риторы, учителя и лекари, распространявшие там греческий язык, философию и нравы, а, к сожалению, очень часто только одну греческую распущенность; то с другой стороны – любознательные римские юноши и мужи, чтобы достигнуть известной степени высшего образования, отправлялись в страну эллинов, именно – в Афины, Коринф или Родос.
Короче сказать, – единство империи и единство столь влиятельного главного города Римской империи давали себя чувствовать повсюду. Что стало твердой ногой в Риме, то уже легко могло найти для себя доступ и во весь мир. После этого можно ли удивляться, что в Рим именно стремились также и первоверховные апостолы – Павел и Петр? что из Рима христианство получило весьма широкое распространение? Было бы великой ошибкой – не обращать внимания на то важное и исключительное значение, которое в то время, несомненно, имели и политическое владычество могущественного Рима, и популярность греческого языка, и распространенность эллинской образованности, которые одни только могли сблизить и объединить исторические народы древнего мира. Если кто, то именно римляне описываемого времени всеми силами своими стремились совершенно уничтожить всякого рода односторонность, замкнутость и узость национального партикуляризма, чтобы получить возможность с полной свободой стремиться к развитию величественного универсализма. Вследствие этого только национальное сознание римлян и могло расшириться до границ сознания мирового, универсального. А не следует ли на все это смотреть, как на дело десницы Божией, как на подготовительную работу для христианского универсализма и как на подготовительную ступень работы самого христианства, которое должно было победить мир и объединить в себе все народы земного шара?
ГЛАВА II.
Жизнь религиозная
Не одни только приведенные обстоятельства подготовляли почву для мировой религии, какой явилось христианство; внутренняя жизнь всех народов Римской империи в религиозном и нравственном отношениях также указывала на то, что и в ее области должно наступить изменение к лучшему.
Но посмотрим, прежде всего, на религиозную жизнь языческого мира.
Древнее, дохристианское язычество существовало не без религии; об этом свидетельствует и великий апостол языков – Павел, когда в Афинском ареопаге (Деян. 17:22) он назвал греков, а в более обширном смысле – и всех язычников вообще, – людьми «весьма набожными». Во всем древнем мире и в особенности в век, близкий ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, у язычников мы, действительно, встречаем великое множество богов и богинь, бесчисленные храмы, сооруженные в честь них, разнообразные богослужения и самые причудливые священнодействия. В городах и поселках, на полях и в лесах находились языческие капища; и если не везде можно было встречать храмы, то зато уже везде непременно были священные деревья, камни и различные богослужебные места. Вся жизнь язычника была проникнута его религией; а потому ежедневно, ежечасно он должен был прибегать к помощи своих богов и различным религиозным действиям. Боги были вопрошаемы жрецами по поводу каждого государственного предприятия; но и каждый шаг в частной жизни также сопровождался богослужебными действиями, – причем соответствующему богу всегда приносилась обыкновенно и его дань; каждый семейный праздник был вместе с тем и семейным богослужением; каждое сословие имело свои собственные божества, и во всех событиях своей жизни оно видело их прямое или косвенное участие; своих собственных богов, как выразился в одном из своих сочинений Тертуллиан, имели даже дома разврата, харчевни и темницы.
Но как ни разнообразна, по-видимому, была религиозная жизнь древнего языческого мира, как ни многочисленны и ни различны были также и языческие боги, насколько мы можем судить о них по дошедшим до нас известиям, все-таки их с полным удобством можно разделить на три группы: на богов Востока, Греции и Рима.
В противоположность Западу Восток всегда имел тяготение ко всему древнему, ко всему, дошедшему до него по преданию. Он всегда питал любовь к таинственному и блестящим, торжественным культовым формам. В общем своем мировоззрении он всецело боготворил природу. Его божества суть скрытые, таинственные, недоступные для человека силы самой же природы. И они проявляются прежде всего в ней, то творя и созидая, то оживляя и сохраняя, то снова разрушая ими же самими созданное раньше. У индийцев благополучие людей в особенности зависело от явлений атмосферической области, а потому мы и находим у них молниеносного Индра, бога облаков Вритра и разгоняющего облака Аги. Раньше индийцы почитали в особенности Браму как единственного, бесконечного первовиновника мира, по мановениям которого и действовали как олицетворенные божества все силы природы. Дальнейшее обоготворение природы привело индийцев к признанию уже трех главных божеств: рядом с Брамою, душою мира, особенною, невидимою жизнию в творении, были поставлены еще Вишну, в котором сосредоточиваются все благоприятные явления в природе, и Шива как непреоборимая сила мира, производящая из разрушения новую жизнь. У мидян и персов также ясно обнаружилось сознание противоположности основных элементов природы – в Ормузде, боге света и виновнике всего доброго, и Аримане, боге тьмы, источнике всякого зла. Но примирения этих противоположностей не могли достигнуть ни персы, ни мидяне. Религиозные воззрения египтян вышли, несомненно, из простого почитания солнца и Нила и лишь постепенно достигли своего высшего, но крайне безотрадного для человека развития. Для вавилонян и ассирийцев Ваал был только активною силою природы, Милитта – пассивною; первый – творческий принцип, последняя – сила, производящая на свет, рождающая. Природа была обоготворяема в древнем мире также и на берегах Финикии. Ваал и Ашера, или Астарта, – это обоготворенная природа в обширнейшем смысле этого слова; в лице Ваала она представляется силою творческою, производящею, в лице Ашеры – зачинающею, рождающею; а оба – Ваал и Ашера – сливаются в одно как божество мужского и женского рода. Религиозные празднества финикиян обыкновенно примыкали к годовым изменениям в жизни природы. По своему характеру, вообще, языческие боги Востока являются добрыми или мрачными и жестокими. Приносимые им жертвы часто поражают нас своею безнравственностью, бесчеловечностью и жестокостью. Вспомним только о Молохе, олицетворении невыносимого, убийственного солнечного жара, который жаждет воплей горящих детей, или о культе в честь Милитты, когда женщины легкого поведения завлекали мужчин к разврату, а девицы приносили в жертву богине свое целомудрие. Но не лучшим был и культ Ваала, требовавший целого сонма жрецов, которые не только воскуряли истукану фимиам, но и приносили ему в жертву детей, плясали вокруг его алтаря, а когда божество медлило исполнением их просьб, надрезывали себе тело ножами, надеясь этим возбудить его сострадание.
Таким образом, на Востоке мы находим естественную (языческую) религию слишком пустою и бессодержательною. Ее жребием была безысходная неподвижность. Вечное однообразие внешней жизни природы не рождало никакой новой мысли, а потому этот вид языческой религии и не сообщал потомкам более широкого импульса сравнительно с предками, и народы Востока мало-помалу становились совершенно равнодушными к такой религии. Человек, правда, еще принимал ее в свою службу, но уже она зависела от него, а не он – от нее. Жреческое сословие было не в силах спасти ее от падения, и потому вместо живого богопочитания восточный языческий культ для массы превратился в пустое суеверие, а для людей мыслящих – в предмет насмешек и издевательств. Таким образом, восточная языческая религия падала все более и более, а восточным народам боги их прямо надоели уже к тому времени, когда Александр Македонский покорил их и вместе с владычеством своим распространил среди них также и греческий культ.
В противоположность Востоку греки в своих богах идеализировали не только природу, но и человека. Их божества суть уже нравственные силы жизни природы и человека, ярко и живо очерченные творческой, поэтической фантазией. Правда, им недоставало строгости и выдержанности восточного языческого богослужения, но за то у них не было также мрачности и необузданности его. Грекам не чуждо было предчувствие нравственного мироправления. Эллин знал, что не только в природе господствуют непреоборимые силы, от которых он зависит, но что существуют вечные законы и для нравственных действий человека, против которых безнаказанно никто не может погрешать. Поэтому если для Востока Ваал был только солнцем, созидающим и согревающим жизнь, то для греков Зевс был уже хранителем закона и справедливости, всевидящим оком, правдивым возмездием. Если Астарта была только чувственным побуждением природы, то Гера стала уже охранительницею семейной жизни и брака, нарушение которого должно было влечь за собою наказание по определенному закону. Паллада-Афина стала представительницею ясного рассудка, всепобеждающей мудрости, а бог света Аполлон стал богом откровения греческой религии, освещающим тьму, открывающим вину и примиряющим человека с самим собою и окружающим его миром. Все является здесь более осмысленным, чем в язычестве Востока; но и здесь среди богов легко возможны были всегда и всякого рода преступления. Очеловеченные греческие бога имеют почти все человеческие недостатки и пороки, а Олимп, в конце концов, является только отображением естественного бытия и греческой народной жизни.
Если судить о религии греков по песнопениям Гомера, то Олимп – это настоящее политическое учреждение, греческое государство времен афинской гегемонии, с конституционным, олигархическим образом правления. Во главе олимпийского управления стоит, конечно, Зевс, – этот «отец богов и людей», олицетворяющий собой высшее представление тогдашних греков о божестве. Своей силой и могуществом он превосходит всех богов и людей, держит их в своей власти, правит как Олимпом, так и землей, творит суд и произносит безапелляционное решение, – и горе тому, кто вздумал бы противиться его решению. Ему принадлежит инициатива и последнее слово в мировых событиях. Он не действует непосредственно, но имеет для этого особых вестников, которые и исполняют все его поручения. Успех или неуспех человеческого предприятия всецело зависит от его воли. Его трепещут люди, но его боятся и бессмертные боги. Посейдон не хочет принимать участия в заговоре Геры, потому что Зевс очень силен. Как владыка природы Зевс обладает громом и молнией, дождем и реками; ему повинуются облака и бури; ветры дуют по его повелению; он управляет метеорами и небесными светилами; от него зависит восход и заход солнца и т. д. Но, с другой стороны, у того же самого Зевса нельзя не видеть и множества характерных черт чисто греческого домохозяина. В этом отношении он является типом древнегреческого архонта. Он женат и имеет много детей, обладает большим состоянием, окружен огромной свитой своих родственников, приближенных и слуг. В отношении к подчиненным он хочет быть беспрекословным повелителем; но в тоже время он большой трус, потому и мало верит даже в свою собственную силу и свое могущество. Он сам говорит, что для него было бы трудно совладать с силою Посейдона. Однажды боги возмутились против него. Его жена Гера, брат Посейдон и дочь Афина намеревались даже заковать его в цепи. И он ищет помощи у космогонического существа – сторукого Эгиона, который и усмиряет богов одним появлением своим. Несмотря на то, что Зевс управляет всей вселенной, он сам постоянно нарушает законы своего управления, которым подчинены как низшие, так и высшие боги, – и это тем хуже, что в основе этих нарушений заключается не иное что, как безграничная его преданность низким страстям. Разнузданные страсти у Зевса достигают своей высшей степени. Супружеской верности для самого Зевса как бы не существует. Моногамия у него обратилась в полигамию, и брак не удерживает его от прелюбодеяния. В песнопениях Гомера ясно выступает различие между законными женами Зевса и его наложницами. По уму Зевс также был не особенно далек; он три раза поддается обману своей хитрой Геры, которая не только его перехитряет, но и делает многое совершенно без его ведома. По своему темпераменту он большой флегматик; он любит покой и терпеть не может всякого рода хлопот и беспокойства, а потому он часто сердится на Ареса за его любовь к спорам; потому же и Гера составляет для него мучение, когда она постоянно хлопочет о своей Греции. Как ни всесилен, по Гомеру, Зевс, – он, однако же, ничуть не бесконтрольный монарх на Олимпе; власть его ограничивается собраниями богов. Собрания эти разделяются на два рода: «βουγη» и «αγορη». «Βουγη» состоит только из таких божеств, которые имеют на Олимпе свои собственные дворцы, построенные Гефестом, олимпийским художником и архитектором. Напротив, на «αγορη» допускались и низшие боги, но только без права голоса. Словопрение и судоговорение дозволяемы были только Зевсу, Посейдону, Афине и Аполлону. Прочим божествам на совете богов позволялось лишь заявлять свои жалобы. Так, Гефест хлопотал на Олимпе об интересах своей матери; Гелиос обращался к совету богов по своим делам. Но ни Гелиос, ни Афродита, ни Арес, ни Гермес, ни другое какое-либо подчиненное божество никогда не выступали пред советом даже в качестве ораторов. Таким образом, действительными членами собраний являются собственно только боги-аристократы. На этих собраниях решались все дела, как божественные, так и человеческие; здесь же, между прочим, решена была и участь Трои. С Олимпа же боги смотрят вниз, что делается на земле; но по большей части они любят созерцать события вблизи и потому сходят на землю, принимая часто человеческий образ; один Зевс только правит с Олимпа и почти никогда не сходит на землю. К своим родственникам, как и люди, боги стоят ближе и относятся симпатичнее, чем к божествам, не родственным с ними. Лучшие области господства в мире перешли именно к более близким родственникам Зевса. Жены Зевса, как и жены греков, занимают после мужа самое почетное место. Главная цель их существования – рождать и воспитывать детей. По временам греческие боги устраивают довольно богатые пирушки, на которых, впрочем, ни в каком случае не допускается безразличия отношений. При появлении Зевса и Геры на эти пирушки все боги встают со своих мест и почтительно приветствуют их поклоном; сам же Зевс никому не кланяется, а только свысока кивает головой. Затем каждое божество садится на принадлежащее ему место. Зевс, разумеется, занимает самое почетное место; после него первое место занимает Гера как царица Олимпа, затем следующие места принадлежат Афине, Аполлону и т. д. Кушанья и напитки подаются на стол также не кем-нибудь и не как-нибудь, но и при этом соблюдается известный этикет: главным официантом при олимпийских пиршествах является, собственно, хромой и выпачканный сажей Гефест; кушанья подаются прежде всего Зевсу, а потом уже и всем прочим божествам, начиная с сидящих по правую сторону Зевса. Любимым кушаньем богов была амброзия, а любимым их напитком был нектар. Пообедав, олимпийские боги, любят послушать музыку Аполлона и пение муз.
Таким образом, по песнопениям Гомера, боги греков мало чем отличались от людей; религия греков – религия очеловеченных богов; в этом – ее величие, высший пункт ее развития, в этом же – и начало ее окончательного падения. «Человеческий образ богов, – говорит Шеллинг в своей «Философии мифологии» (S. 651), – является таким же необходимым концом мифологического процесса, каким необходимым концом является человек и в процессе природы». – Вообще же, нужно сказать, что если круг религиозных представлений у греков был и богаче, и нравственнее, чем у азиатских народов, то зато он никогда не имел над умами такой власти и такого господства, какое имели религии Востока. Еще задолго до того, когда греческая религия была принесена на Восток, греческие философы, как, например, Пифагор и Платон, жаловались на поэтов (в том числе и на Гомера), что они унижают богов, а народ жаловался на философов, хотевших своими учениями создать более чистые представления о божестве и порицавших религию отечественную. Вырабатывались новые образы богов и новые рассказы о богах; но мыслящий дух скоро пришел к тому, что признал греческих богов только образами своего собственного мировоззрения. С этим, разумеется, находилось в безусловной и неразрывной связи падение религии и религиозной жизни в Греции, а ко времени пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа падение это было уже ясно как день.
В Италии религиозная жизнь рушилась вместе с началом падения, или – лучше сказать – с достижением высшего пункта развития государственной жизни. Древние латинские боги, как известно, были только сухими, отвлеченными абстракциями гражданских и общественных учреждений. Фидес оберегала верность в общественной жизни и делах, Термин – границы полей, Юнона – верность супругов и чистоту брачной жизни, Веста – домашний порядок, Эскулап – честность торговли и аккуратность платежей. Сверх того были боги, которые, по мнению римлян, учили детей кричать, охраняли их в колыбели во время сна, приучали их есть и пить, помогали им учиться говорить и петь. Подобным образом, римляне думали, что и каждое событие в жизни отдельного лица, семейства и народа, было управляемо тем или другим покровительствующим божеством, которому, поэтому, нужно было постоянно молиться и которое нужно было просить об его помощи и содействии. Вследствие этого в общественной и частной жизни древних римлян была соблюдаема большая строгость только внешнего религиозного культа; отсюда же – истолкование каждого частного события и его значения чрез авгуров, этрусских гадателей и понтифексов.
Но мало-помалу только государство и гражданская жизнь стали главным предметом внимания, особенных забот и положительного благоговения римлян. Этой же цели стала служить также и их религия. Вследствие этого боги римлян являются уже лишь силами, от которых зависит государственное благоустройство, величие, порядок и могущество. Капитолийский Юпитер превратился, собственно, в главное римское божество, а в своей последней основе божество это составляло лишь олицетворение государства. Марс, бог войны, и Виктория, богиня победы, были те именно священные силы, пред которыми римлянин всегда преклонялся и которым он всегда охотно и усердно молился. И до тех пор, пока в римском народе были сильны те чувства, с которыми находилось в неразрывной связи почитание этих божеств, римский народ был верен своей религии и предан своим богам, а эта религиозность, несомненно, освежала и укрепляла народную жизнь. Но с разложением римского государства стала разлагаться и падать также и религиозная вера древних римлян. Это понятно само собой, ибо, если национальная религия римлян, понимаемая практически, состояла только в том, чтобы при ее помощи создать мировую империю, то, естественно, она должна была пасть, как только эта цель была достигнута, что, действительно, и случилось. Если прежде представителем государства был Юпитер, то теперь такими представителями государства стали уже императоры, а потому они лично, еще при жизни своей, и являлись во главе целой толпы римских богов. Таким образом, государственную религию римлян составляло не что иное, как официальный императорский культ; и древнее римское язычество здесь уже буквально закончилось обоготворением человека, и притом человека не идеального, как в Греции, а простого, обыкновенного, действительного, вместе со всеми его пороками и недостатками. Известно, что при погребении Августа вылетел орел из костра дров, приготовленных для сожжения трупа умершего императора, и один сенатор клятвенно свидетельствовал, что он видел императора восходившим на небо. Вследствие этого, по определению римского сената, императору Октавиану были возданы божественные почести, установлены праздники, устроен храм, составлен штат жрецов. И затем то же самое повторялось уже в честь каждого умершего римского императора, над чем император Веспасиан шутил на одре своей болезни, говоря: «Скоро буду я богом!»[3], хотя на самом деле он строго запретил оказывать ему после его смерти какие-либо божественные почести. Но Калигула не дождался даже и своей смерти; на прекрасные по своей работе статуи богов, головы которых он приказал срубать, он поставил изображение своей собственной головы, дабы вместо богов римляне поклонялись только ему одному. Подобным же образом поступали и все другие римские императоры, а в особенности Нерон и Домициан, из которых последний в своих эдиктах уже прямо называл себя «господом и богом».
При таком положении дела, как могла устоять древнеотеческая языческая религия римлян? Какое влияние она могла оказывать на сердца людей? И наоборот, – не должна ли была, вместе с утратой внутренней силы, совершенно пасть древняя римская религия, а с ней и религиозная жизнь?
И именно около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа по многим признакам мы замечаем наступившее разложение Римской религии. В это время римляне были уже недовольны своими собственными богами; они искали для себя богов новых. Этим объясняется и основное положение римского государственного закона – оказывать полную терпимость к местному культу покоренных народов и не приписывать особенного значения их вероучениям и представлениям в религиозной области. И это, действительно, так было на самом деле. Афиняне воздавали почести своей патронессе Афине и после 146 года до Р. X.; а иудеи беспрепятственно почитали своего Иегову и после 63 года той же эры. Такой веротерпимости полагались пределы лишь тогда, когда религиозные учения покоренных народов практически вторгались в жизнь Римской империи или же когда чужая религия вызывала среди исповедующих ее народов активную враждебность к самому Риму. Но если можно видеть и проявление политической мудрости в том, что римляне щадили чужие национальные святилища и беспрепятственно оставляли покоренным народам их нравы и обычаи, не препятствовавшие повиноваться победителям и платить Риму дани; то с другой стороны, особенно если обратить внимание на то, как римлянин старался достигнуть благоволения чужих богов, в этом нельзя не заметить и ясного признака того, как уже неудовлетворительны были для него свои боги и как он ждал чего-либо лучшего от чужих.
Правда, de jure еще существовало древнее основное правило римского народа – не почитать в Риме иных богов, кроме отечественных, и только в крайней необходимости, по торжественному и единогласному постановлению сената, чужеземные божества принимать в главный город и причислять их к божествам отечественным. Но в действительности положение дела было совершенно иное. Благодаря тому обстоятельству, что резкая изолированность наций, входивших в состав Римской империи, была уже сглажена и отношения народов стали живыми и постоянными, подданным Римской империи был дан большой толчок к перенесению отдельных религиозных культов из своего отечества в Рим и другие страны римского государства. Понятно, что именно в Италии, и в особенности в Риме, имело место наибольшее сосредоточение самых разнообразнейших языческих культов. При молчаливом одобрении большинства римлян там беспрепятственно были выставляемы статуи чужих богов, созидаемы в честь них храмы и капища, а вместе с этим, разумеется, было дозволено и открытое совершение чужеземного богослужения. Против этого не могли ничего сделать ни протесты некоторых ревностных римлян, ни строгие эдикты отдельных императоров. Таким образом заняты были в Риме места для греческих храмов; но там же встречались и фригийские жрецы Кибелы, и жрецы египетской Исиды; некоторые римляне почитали даже иудейского Иегову, другие совершали священнодействия, занесенные издали восточными прорицателями и волшебниками, математиками и астрологами. Персидский культ Митры (бог солнца у персов) и даже фетишизм находили себе приверженцев среди римского народа, – даже Нерон, когда ему не стала более покровительствовать Астарта, в конце концов, почитал уже различные амулеты. И чем отдаленнее были страны, из которых были занесены в Рим те или другие культы, тем больше последователей они находили для себя в народной толпе.
Таким образом, не подлежат сомнению следующие два положения: 1) чужие культы, бывшие первоначально национальными культами и не связанные более с определенной нацией, сами по себе должны были мало-помалу потерять свою силу и свое собственное значение, вследствие чего вера в богов вообще была поколеблена, было потрясено все существо языческой религии. А 2) иначе и быть не могло; после того как в Римской империи фактически наступил религиозный хаос на место национальной древнеотеческой религии, римлянин все более и более должен был презирать и разрушать и свою отечественную религиозную веру.
Правда, древнее язычество, и в особенности римское язычество, еще не скоро вполне отжило свой век. Богов и их поклонников в Риме было еще довольно, языческие храмы стояли еще во всем своем блеске, а празднества и жертвоприношения были совершаемы с необычайной пышностью; при вступлении, например, на царство Калигулы в три месяца было заклано сто тысяч жертвенных животных. И более продолжительное существование язычества казалось обеспеченным в силу его твердой связи с жизнью государственной, в силу существовавших еще религиозных обычаев, домашней жизни и в силу строго поддерживаемого и охраняемого языческого культа в некоторых отдельных местностях. Но если в это время мы еще и находим среди римского народа много проявлений внешней религиозной жизни, то это именно потому, что глубокой внутренней веры уже не было, а в высших сословиях уже открыто обнаруживалось почти повсюду совершенное неверие, возбужденное в особенности полученным из Греции просвещением. Катон и Цезарь проповедовали его публично; Лукреций с горячею ревностью нападал и порицал всякую религиозную веру как исполинский мираж, а богов как порождения неразумного страха; Плиний же признавал положительным выводом науки то, что никаких богов не существует и что только одну природу следует признавать богом. В противоположность этим отрицателям языческих верований напрасно некоторые из римских мыслителей старались еще поддерживать древнеязыческую религию римлян, – как, например, Дионисий, прославлявший в своей римской истории Ромула за его пребывание в благоволении богов, или Плутарх, заявивший себя вполне по-язычески верующим и язычески набожным.
Большинство людей образованных стремилось проложить для себя средний путь: не устраняя совсем народной веры ради ее консервативного характера и ради ее значения для государственной жизни, они считали для себя приличным лишь одно высшее познание. Вследствие этого в Риме можно было различать два рода религии: эзотерическую религию людей образованных и экзотерическую – толпы. Даже Варрон от религии народа отделял мифическое понимание для поэтов и физическое – для философов.
Можно было бы думать, что ищущая истины философия, которой римляне занимались не без удовольствия, будет деятельно поддерживать языческую религию и возбуждать у римлян религиозные устремления. Но она-то именно в кружках людей мыслящих и занимающихся ею более всего и содействовала религиозному упадку. Она действовала, просвещая и разрушая старое, не будучи способной дать взамен разрушенного ничего нового, что стояло бы выше всякого сомнения и в то же время вполне удовлетворяло бы требованиям сердца. Но если бы она и была даже способной к поддержанию падающей языческой религии, то не нужно забывать, что она могла быть достоянием лишь небольшого числа передовых людей, да и тут вследствие разнообразия своих систем она могла производить только путаницу понятий. Таким образом, языческая философия по самому существу своему была неспособна, так сказать, реставрировать политическую, религиозную и нравственную жизнь древнего мира.
Из трёх наиболее распространенных философских систем того времени – скептицизма, эпикуреизма и стоицизма – ни одна не представляла собой надежной опоры для языческой религии. Скептицизм «эпохи» Пиррона («Воздержание от суждения»), отвергая возможность положительного и точного знания, пришел лишь к утверждению простой «вероятности» и всеобщего «сомнения» в истине сущего, а скептик Лукиан утверждал далее, что решительно все неизвестно, что все подлежит сомнению, в том числе даже и существование богов. Между прочим, в своем «Jupiter tragoedus» он позволил себе сделать следующее ироническое умозаключение в доказательство существования языческих богов: «Если существуют жертвенники, то должны существовать также и боги; жертвенники существуют; следовательно, существуют также и боги». Эпикуреизм также отвергал всякую возможность объективного познания и если прямо и открыто не отрицал существования богов, то, во всяком случае, не особенно о нем и заботился. В большинстве случаев он относился к религии, как и нравственности, совершенно индифферентно и смотрел как на высшее благо на одно только «удовольствие», на одно только «наслаждение». Выше обеих названных философских систем стоял, конечно, стоицизм, искавший высшего блага в «добродетели». Последователи этой философской школы в то же время могли бы быть названы и языческими теологами посредствующего, или примирительного, направления, так как они всячески старались примирить языческую религию с философией, веру со знанием. Они признавали одного верховного бога, именно пантеистического всебога; но рядом с ним допускали и существование многих низших богов, которые совпадали с богами народной религии. Таким образом, только у стоиков снова объединяются эзотерическое и экзотерическое религиозные понимания; в этом отношении стоики вообще были лучшими и благоразумнейшими мыслителями древнего мира, наиболее предчувствовавшими нужду в христианстве. Конечно, спасти древнюю языческую религию они также были не в силах.
Итак, характерным признаком язычества эпохи близкой ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа было постепенное падение, или – лучше сказать – вымирание отечественной религии. В кружках людей образованных вера в богов древней религии почти совершенно исчезла. Народ внешним образом сравнительно еще был привязан к своим богам; но и у него не было уже твердого доверия к ним; с большей охотой он придерживался лишь наиболее видимого из них, – «divus Caesar Augustus», – обоготворенного римского императора. Полный атеизм и нигилизм в языческом мире, и в особенности в Римской империи, был, однако же, явлением весьма редким, напротив, у многих проявлялся и находил для себя поддержку положительный пантеистический монотеизм, вышедший из разлагавшегося политеизма. Все вместе взятые языческие боги превратились здесь в одного бога – природу, природа – в Бога! А в этом монотеизме не заключается ли предчувствие и о едином истинном Боге? – Но только предчувствие, а не что-либо другое.
Говоря вообще, все древнее дохристианское язычество находилось в безысходном и безотрадном положении. Оно слишком удалено было от истины и явно охвачено было погрешностями и заблуждениями всякого рода. Ему, например, недоставало даже представления о загробной жизни, о бытии по ту сторону гроба. Цель, к которой оно стремилось, для него всегда заключалась только в этом мире. Жизнь древних язычников всегда ограничивалась лишь интересами о земном счастье, о земном благополучии; только лучшие из язычников успокаивали свой томительный взор на восхищении величием мира и человеческой жизни, на произведениях искусства и могуществе государства. Правда, к идеальному счастью, какого на земле найти было нельзя, стремились и язычники, но пути к нему открыть они не могли. Идолы и истуканы также не могли им указать его, не могли руководить ими к достижению высших целей, а между тем и в обыкновенном языческом культе многие уже не могли более находить для себя успокоения. Что же оставалось делать утружденному и обремененному язычеству? Оставалось или отчаиваться, или искать помощи и поддержки помимо не сгодившихся богов язычества. Характерными представляются нам при этом молитвы к языческим богам. У своих богов римляне просили богатства, удобства и счастья в жизни, удачного исхода в различных предприятиях. Но они никогда и не думали о том, чтобы просить у них благ нравственных. «Юпитер дает мне жизнь и богатство, – говорит Гораций[4], –- но чувство покоя и довольства я уже должен создать для себя сам». И Сенека учит[5], что человек должен сам себя сделать счастливым, так как стыдно относящимися к этому просьбами отягощать богов. Максим Тирский посвятил даже целую книгу доказательству того, что люди делают вообще лучше, когда совершенно перестают молиться богам. На практике, впрочем, бывало и того хуже: нередко случалось, что не достигнув желаемого своими жертвами, молитвами и обетами, язычник выражал свой гнев на богов поношениями и дурным обращением с их идолами.
Итак, как самосозданные боги, так и философия были не в силах, как мы видели, указать несчастному язычнику путь к спасению и нравственному удовлетворению. Не могли этого сделать ни Эпикур со своим «наслаждайся!», ни скептицизм со своим «откажись достигнуть точного познания!» – ни стоицизм со своим «воздерживайся и охраняй себя! будь доволен самим собой!» Да, стоики были также неспособны к этому; в их учениях не было недостатка во внутренних противоречиях; люди не могли утешать себя и чувствовать себя нравственно успокоенными проповедуемою стоицизмом самодовольною гордостью в «добродетели», которая во всем хочет быть обязанной только самой себе, которая равняет себя с божеством, претендует на его достоинство, а между тем всегда оставалась лишь человеческою и несвободною от преступлений. Вот почему скорее, чем даже можно было ожидать, прекратила свое существование и эта выдающаяся из языческих философских школ.
Римское государство как таковое, также не могло оказать в религиозно-нравственном отношении никакой помощи язычеству. Оно возбудило у своих граждан только virtus (мужество, совершенство, годность, храбрость, доблесть, вообще – добродетель), virtus, которая проявилась практически в деятельности и честности государственного чиновника и гражданина, но которая имела значение только до тех пор, пока с напряжением всех сил вырабатывался и созидался государственный строй и порядок, приобреталось государственное могущество; с падением же государственной жизни пал также и весь нравственный строй ее, а с ним пала и древняя славная римская virtus.
Не видя никакой цели жизни вне самой обыденной жизни и не зная к чему направить свои силы, свои лучшие стремления и надежды, не зная даже того, зачем и для чего человеку дана его жизнь, люди языческого мира, наконец, пришли к истинно языческой мудрости: Patet exitus! – «Исход открыт!» Это – смерть. И такое воззрение было господствующим в то время между римскими мыслителями. Из них Плиний, например, считал самым лучшим, что есть у человека то, что он сам у себя может отнять жизнь. Эпикуреец Петроний, развратничавший во времена Нерона, под влиянием такого воззрения спокойно открыл себе жилы, беседовал со своими друзьями о самых преступных вещах и затем приказал читать себе легкомысленную повесть за несколько минут до смерти. И Сенека указывает[6] на безысходность положения языческого мира, когда говорит о самоубийстве как единственном средстве покончить с этим положением. «Видишь ли ты ту крутую и обрывистую возвышенность? Оттуда путь к свободе! Видишь ли ты то море, ту реку, те колодцы? Там внизу на глубине свобода! Видишь ли ты то низкое, засохшее дерево? Там висит свобода! Не имеешь ли ты шеи, горла, сердца? Там спасение от рабства!»... Таковы те воззрения и те идеалы, которые господствовали в языческом мире пред пришествием Спасителя!
Вот почему из языческого мира как бы вечно слышишь неизвестно к кому направленные жалобы на безысходность положения и развращенную природу человеческую; оттуда же раздаются и душераздирающие вопли: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). «Я качаюсь, – говорит Сенека[7], – на море бурных преступлений». «Человеческий дух от природы упрям и всегда стремится к запрещенному и опасному». «Мы должны сказать о себе, что мы злы и что мы были злыми, а я, к сожалению, должен прибавить, что и в будущем мы останемся таковыми». Познание слабостей природы человеческой, естественной греховности человека и ничтожества мира ко времени земной жизни Спасителя увеличивается все более и более; мысль о бессилии человека помочь самому себе становится все определеннее, искание Бога, недосягаемо возвышающегося над всем земным и мирским, является более сознательным, стремление к спасению делается все оживленнее и оживленнее. «Никто, – говорит Сенека[8], – не в состоянии помочь самому себе; ему должен кто-нибудь подать руку, чтобы поднять его». Язычники начали все более и более обращать взор на ту сторону гроба. При этом многие совершенно отрицали ее, другие высказывали большое сомнение; но были и такие, которые, стоя на повороте от сомнения к вере, спрашивали: «Да существует ли бытие по ту сторону гроба, бессмертие? И как прийти к нему?» Вопрос этот есть именно один из тех вопросов, которые привели многих к христианству. Не довольствуясь Римом и его религией, язычники мало-помалу стали обращать свои глаза на восток; оттуда должен придти Избавитель. Светоний[9] и Тацит[10] рассказывают, что в их время было слишком распространено мнение о том, что Восток скоро станет могущественным и Иудея достигнет мирового господства. А Вергилий[11] воспевает сына Азиния Поллиона, который восстановит золотой век, отрок сойдет с неба и мир будет царить на земле (Ср. Ис. 9 и 11). Но что языческие поэты воспевали лишь по смутному предчувствию, то впоследствии стало отрадной действительностью, и притом – в более высшем смысле, чем даже мечтали о нем в язычестве. И точные ответы на все вопросы, неразрешимые для язычества, дал лишь Господь наш Иисус Христос. Но кто может не видеть в этой колеблющейся и падающей религиозной жизни язычества, в желании и искании света и утешения веры, десницы Божественного Промысла, которая указывала язычникам на Спасителя и время явления новой религии?
ГЛАВА III.
Жизнь нравственная
С падением отечественной религии пали и старые добрые нравы и обычаи римлян. Правда, от того времени до нас дошло достаточное количество памятников нравоучительной литературы. Таковы, например, речи Сенеки о добродетели, сочинения Горация, Ювенала, Тацита. Кроме того, есть и другие основания думать, что римляне вообще заботились о надлежащей нравственной постановке как семейной, так и общественной жизни: в Риме, например, было в обычае приглашать в дом философов не только как учителей, но также и как воспитателей или гувернеров, и у них спрашивать совета и наставления в жизни. Но дело в том, что, несмотря на руководство философов, у тогдашних языческих римлян, как и у самых руководителей их, слово далеко расходилось с делом, испорченная и безнравственная жизнь слишком часто шла вразрез с этими нравоучительными наставлениями. Сенека, например, этот известный проповедник почти аскетического воздержания, был вместе с тем алчен и расточителен; проповедник нравственности – прелюбодей; мечтавший о милосердии – принимал участие в жестокостях Нерона и произносил похвальное слово своему ученику– матереубийце. И так было в Риме почти сплошь и рядом. Жалобы на изнеженность, порчу нравов и утрату честной жизни раздавались со всех сторон. Так, уже Ювенал[12] писал: «Воистину девятый век мира гораздо хуже века железного; для обозначения его низости сама природа не изобрела имени и не произвела металла». И Гораций[13] говорит о своем времени: «Народ худший своих отцов и предков производит еще более ухудшенный род, а скоро мы увидим, что выродится и еще худшее поколение». Даже Сенека[14] не преувеличивает, когда говорит: «Все исполнено преступлений и пороков; согрешают более, чем сколько можно исправить наказанием. Ежедневно больше проявляется охота к греху и незначительнее боязнь его. Своих пороков более уже не скрывает никто; их безбоязненно совершают пред глазами всех. Невинность стала не только редкостью, но ее почти совсем не существует». И у Ливия[15] мы читаем также: «До сих пор Рим велик был добродетелями; но теперь мы уже не можем сносить наших пороков, не можем оказать им надлежащего противодействия».
В Риме нравственное разложение и распущенность первоначально стали обнаруживаться в императорском дворце, а поведению императоров и их приближенных подражали сановники и римские сенаторы, за которыми уже следовала народная масса. Таким-то путем нравственное падение мало-помалу и стало всеобщим в Римской империи.
Прежде всего, падение нравов и нравственная распущенность сделались заметными в домашней жизни. Греция давным-давно утратила уже силу добрых домашних обычаев. Дольше сохранял ее Рим. Но с тех пор как стал он могуч, велик и богат, с тех пор как вместе с греческим образованием им была усвоена и греческая распущенность, пал также и в Риме простой, старинный домашний быт, а вместе с ним пала и честная жизнь, целомудрие, верность, дисциплина. Теперь уже больше обращали внимания на внешний блеск, на пышность туалета, на наслаждения и удовольствия, чем на скромность семьи, на верность супружеским обетам, на богобоязненное воспитание детей, на добродетель и поведение слуг. В каждом римском доме в большом запасе можно было находить различного рода мыла и румяна; голову женщины обезображивали разнообразнейшие украшения волос и головные уборы, выписанные с Востока: в богатых семействах щеголяли возможно большей пышностью многочисленных костюмов, украшенных золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Ежедневно женщины спешили на представления в театр, или цирк, или же на пирушки и оргии, и если римлянки бедные не имели достаточно средств, чтобы блистать своею собственностью, то они поденно нанимали и прислужниц, ходивших за госпожами, и крытые носилки, на которых римлянки обыкновенно были относимы к месту празднества, и даже самые одежды, которые должны были скрывать их собственную бедность.
Уже и из сказанного можно видеть, что многие римские женщины только в незначительной мере могли исполнять свои семейные обязанности; уже слишком много было у них хлопот другого рода. Но факты ясно доказывают нам еще и то, что к временам земной жизни Иисуса Христа в римских супружествах только изредка можно было встретить нечто похожее на семейное счастье. Попрание брачных уз и начал семейной жизни в Риме доходило до исполинских размеров. Даже такие великие имена, как Помпей, Цезарь и Август, запятнали себя обильным количеством случаев браконарушения. Август, например, не только соблазнял чужих жен из-за политики, как говорили его друзья, для выпытывания у них различных тайн, но нередко по утрам открыто отсылал в дома знатнейших римлян носилки, на которых вечерами приносили к нему во дворец их жен. Разводы и браконарушения у римлян были делом обычным и почти ежедневным. Лучшие из сенаторов, правда, хотели действовать законами против безбрачия и против необузданности молодежи и старались затруднять и уменьшать расторжения браков, но, к сожалению, старания эти не увенчались успехом. Браки как прежде, так и после, были также легкомысленно и поспешно заключаемы, как и расторгаемы. Были, как впрочем, говорили не без преувеличения, женщины, которые считали свои годы не по консулам, а по числу своих мужей. И Ювенал рассказывает[16], что некоторые жены начинали уже хлопотать о разводе, когда еще не завяли те зеленые ветви, которые украшали двери дома при входе новобрачных. Для мужчины брак часто был только финансовой операцией, для женщины – средством выйти из стен детской комнаты и освободиться из-под родительской опеки. Едва оканчивалось двенадцать лет, – и уже наступало совершеннолетие, потребное для вступления в брак. Обыкновенно девушка выходила замуж между тринадцатью и шестнадцатью годами. Девушка прощалась со своим детством, когда она относила и полагала в храм Венеры свои куклы и другие свои детские игрушки. Вступление в брак для молодой девушки было быстрым переходом от безусловной зависимости к неограниченной свободе. Почти еще дитя, молодая женщина мгновенно вступает в обширное общество блестящего света, окружается различными искушениями и опасностями и редко оказывается способной обратить свою неограниченную свободу к собственному благополучию и к благу своей семьи. Вот почему суждения современников о поведении и жизни женщин той эпохи, в общем, крайне неблагоприятны. Плиний,[17] например, утверждает, что в Риме целомудрие погибло еще со времен цензорства Мессалы и Кассия. Гораций[18] также свидетельствует о том, что в его время уже нельзя было найти в Риме женских добродетелей. Тацит[19] в укор и противоположность Риму восхваляет Германию за то, что порок там никому не доставляет удовольствия, а соблазнение чужих жен не принадлежит духу времени. Сенека[20] также рассказывает, что в его время распутство и волокитство за чужими женами были совершенно в порядке вещей. Кто из молодых людей не был замешан в волокитстве и не находился в преступной связи с какой-либо замужней женщиной, тот был в презрении у римских женщин и его считали способным к волокитству только за горничными. Наконец, доходило даже и до того, что знатные, в том числе и замужние дамы добровольно записывались в полицейский список известных лиц женского пола, дабы всецело можно было предаваться самому необузданному разврату[21]. Весьма пагубно и развращающим образом действовала на женский пол так называемая изящная литература того времени, которая часто едва не превосходила своей безнравственностью и самого римского общества. Вместе с тем и образовательные искусства также производили на римлян свое дурное влияние. Мы говорим о тех бесстыдных картинах, которые были рисуемы на потолках и стенах как частных домов, так и общественных зданий, и которые должны были раздражать невинные глаза молодых женщин и девиц. Еще хуже были соблазны от театральных представлений и возбуждения от безнравственных оргий. Страсть к первым вытекала из влечения к зрелищам и желания себя показать, а волокитства и интриги чаще всего завязывались во время театральных представлений. Комедия и фарс были полны грубого, недвусмысленного цинизма и разврата; соблазнительный пантомимический танец раздражал похотливость; истязания и пытки, происходившие на сцене, расстраивали душу и убивали в ней благородные ощущения. А необузданные оргии с их роскошью и невоздержанностью, с их непристойными песнями, с их неприличными театральными представлениями, с их бесстыдными танцами, сближением на них обоих полов еще в гораздо большей мере имели своим следствием соблазны, обольщения и супружескую неверность.
Если супруги имели детей, то они вовсе не усматривали своей задачи и удовольствия в том, чтобы образовать их и возрастить в добродетели, но для воспитания они отдавали их рабам, конечно, к их очевидному вреду. Рождение детей для римских супругов было не радостью, а тягостью, и потому римляне не испытывали никакого страха пред детоубийством, или, по крайней мере, пред подкидыванием детей и бросанием их на произвол судьбы. Даже сам Август приказал взять и закинуть дитя, которое после своего изгнания родила его дочь Юлия. Часто делали это в той надежде, что какой-либо прохожий возьмет брошенное дитя и воспитает его. Но какова была участь таких детей? Мальчик обыкновенно подготовлялся в гладиаторы, а девочку вскармливали для распутства. В высших сословиях делали, впрочем, еще худшее, чем подкидывание: там употребляли испробованное уже средство для вытравливания плода, частично из боязни родильных болей и страданий, частично – просто чтобы не обезобразить только талии. Должно быть, зло это зашло уж слишком далеко, если Сенека прославляет как особенное преимущество в своей матери то, что она не уничтожила в своей утробе надежд материнства. В то время как у христианских супругов приходится на семейство от четырех до шести детей, – у римлян трое живых детей считалось признаком плодовитости, за что отцу была предоставляема полная свобода от всех личных государственных повинностей. Таким образом, в языческом Риме брак и семейная жизнь падали все ниже и ниже, и многие мужчины положительно предпочитали им свободу безбрачной жизни и охотно предавались снова чувственным страстям и всякого рода разврату, в особенности же греху paedererastia. Предаваться безгранично своим чувственным и похотливым страстям римляне находили много случаев повсюду, даже в самых храмах своих, где часто жрицы были самыми распутными женщинами, так что Тертуллиан[22], близко знавший безнравственную жизнь языческих римлян, был вынужден заклеймить «храмы, рощи и другие священные языческие места» именем «тайных мест прелюбодеяния, разврата и других постыдных преступлений». А что сказано в Послании к Римлянам великим апостолом языков (1:24), то находило тогда повсюду полное для себя подтверждение: «Потому и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» и т. д. Конечно, среди тогдашнего римского общества бывали иногда и приятные исключения; и в языческом Риме можно было найти несколько прекрасных хозяек, несколько женщин, строго соблюдавших супружескую верность и добросовестно выполнявших свои материнские обязанности; не было недостатка и в серьезных проповедниках нравственности и покаяния, которые приглашали своих соотечественников к скромности и воздержанию, как это делал, например, Тацит, который в своей «Германии» указывал как бы в зеркале своим соотечественникам на целомудрие и нравственность германских женщин. Но, в общем, положение дела было все-таки плохо, даже очень плохо, а постепенно усиливавшееся падение всех добрых семейных обычаев и порядка должно быть признано несомненным во всяком случае.
Только христианство было в силах снова восстановить семейную жизнь, точно так же как веку, хвалившемуся своим гуманизмом, только оно одно могло принести и истинную гуманность, то есть равное уважение различных человеческих классов как людей. Римляне считали себя не только людьми свободными, привилегированными, но и как бы существами гораздо высшими рабов и вольноотпущенников. В их глазах раб был, по меньшей мере, несовершенный человек; ему даже совсем отказывали в свободной воле и во всякой способности и добродетели. Варрон, например, как-то указал на три вещи необходимые для хлебопашества: немые, – каковы сбруя и повозка; пользующиеся нечленораздельной речью, – каковы волы; и вещи говорящие – рабы. Другие также стояли не выше этого понимания; об этом ясно свидетельствует и самое название раба словом – mancipium, т. е. собственностью – у Горация, Цицерона и др. Для римлян рабы были не лица, а вещи, потому что они не были владеющими, но владением. Такому взгляду вполне соответствовало и обхождение с римскими рабами. Их покупали и продавали, закладывали или променивали, дарили или передавали по наследству; смотря по надобности, их предназначали к различным ремеслам или искусствам, для гладиаторских боев или публичных домов; как охранителей дверей в доме хозяина, их подобно собакам даже привязывали на цепь. Господа наказывали их по одному собственному произволу и часто умерщвляли за самые незначительные проступки. Старых выгоняли или позволяли им убегать, не заботясь более об их существовании, или же прямо убивали их, как какое-нибудь животное. Воспрепятствовать в этом господину никто не мог, так как никто не мог за раба подвергнуть господина ответственности. «В отношении рабов все позволено!» – вот основной государственный закон. Слишком плохо жилось полевым рабам, которых часто нагоняли тысячами в какой-нибудь невольничий сарай, а на ночь заковывали в ножные кандалы. Но не лучше было положение и невольников домашних, которые все время должны были служить вблизи господ, – и горе было им, если они допускали какую-нибудь провинность! Невольницы часто исполняли свои работы с обнаженными плечами и грудью, чтобы ощутительнее были для них толчки, уколы и удары госпожи. В наказание рабов и рабынь часто приковывали к колоде, на которую они садились, и которую они день и ночь должны были таскать за собой. Но если господа всегда поступали с рабами только по своему произволу, не руководствуясь ни чувством справедливости, ни человеколюбием, то естественным следствием этого было то, что рабы, сдерживаемые к повиновении лишь страхом, обыкновенно оказывались низкими в своих душевных расположениях, ленивыми в работе, лживыми и лукавыми в своем поведении, внутренне враждебными к своим господам и всегда склонными к мести и возмущению. Им было хорошо известно, что когда среди них открывался какой-нибудь заговор против господина, они все должны были понести страшное наказание; когда господин дома от раба получал смерть, все рабы, жившие под той же крышей, должны была умереть самой позорной смертью; их казнили без всякой пощады. Число рабов, находившихся в услужении у господ в Риме, было чрезвычайно велико. Atrienses (придверники) были предназначены для атриума (сени, передняя, зал дома), Cubicularii (спальные рабы) – для услужения господам в их спальне, Secretarii (рабы доверенные) – для составления писем и ведения дел; кроме того, были еще в доме рабы, которые назывались – Lectores (чтецы), Introductores (спутники, проводники), Nomenclatores (рабы-именователи, называвшие имена тех граждан, о которых спрашивал господин), управляющие, банщики, повара, рассыльные, носильщики, конюхи и другие. Для городских рабов насчитывалось более 120 должностей и занятий. Для услужения людям состоятельным десять рабов Гораций считает числом крайне незначительным; но некоторые из римских аристократов имели их только для домашних услуг более тысячи; Скавр, например, имел четыре тысячи рабов, а Красе – так много, что только одно количество его архитекторов и комнатной прислуги было более пяти тысяч человек.
Выше рабов по рангу стояли вольноотпущенники, из которых составлялось низшее сословие римских чиновников, толпа лакеев и управляющих, или которые занимались незначительными ремеслами и небольшой торговлей. Но независимости и достоинства свободных мужей они также не знали, как и рабы. Собственно говоря, они всегда оставались также в рабском состоянии и даже обращались в самые удобные орудия для злодеяний и неистовств своих патронов и господ.
Целию и задачею всей жизни как рабов, так и номинальных вольноотпущенников было – трудиться для свободных и изнеженных римлян. Для языческого римлянина эпохи императоров труд был величайшим позором и унижением. Даже Цицерон презирал как недостойное рабство каждое занятие, которым зарабатывались деньги и добывалось пропитание. И действительно, римский народ того времени проживал без всякой серьезной работы. Собственно говоря, в Риме мы должны различать два класса населения: богатых и бедных, свободных и рабов; среднее сословие, каким богато наше время, или даже только свободное сословие крестьян там едва-едва существовало. Среднее сословие, т. е. сословие купцов, мелких торговцев и ремесленников, среди коренного населения Рима было вообще крайне незначительно, потому что труд рабов был весьма дешев и доступен каждому, а с другой стороны, еще и потому, что производившаяся римским государством даровая раздача хлеба даже самым беднейшим людям давала возможность совершенно, или почти совсем жить без работы. Вместо того чтобы честным трудом добывать себе пропитание, неимущие римляне охотнее в виде клиентов искали для себя хлеба в домах богатых римских сановников как своих патронов. Обыкновенно уже с раннего утра они начинали свои посещения; часто сопровождали они своих патронов по их пути в сенат, бани, театр, на пиршества и другие развлечения. Что в это время они переносили от своих патронов и даже от их рабов, между прочим, величайшие оскорбления и унижения, – они не обращали на то никакого внимания. Едва ли также может быть речь и о свободном сословии крестьян в Римской империи. Оно было уже почти уничтожено гражданскими войнами; как известно, угодья в Италии, в виде благодарности, часто раздаваемы были легионам победителей, как делали это, например, Сулла и Октавиан. Но старые солдаты редко оказывались трудолюбивыми земледельцами; легко приобретенное они с большим удовольствием продавали потом крупным соседним землевладельцам. Вследствие этого огромные участки полей и других угодий обыкновенно находились в руках лишь нескольких частных лиц и потому еще Цицерон жаловался на это зло в своей речи против Верреса: «Многие уже годы мы терпим нужду оттого, что имущества и деньги всех народов перешли к немногим людям; все угодья вы видите разделенными только на несколько имений». И Сенека[23] говорит: «Обширные пространства наших полей возделываются заключенными в оковы; для выгонов нашему бесчисленному скоту потребны провинции и царства; домашней прислуги у нас больше, чем воинов, а строения, по своей обширности, превосходят большие города». Между тем, как рациональный хозяин обращает все свое внимание в особенности на плодоносные, удобренные поля, – древние римские землевладельцы при обширности своих поместий и при недостатке рабочих сил были не в состоянии обрабатывать всех земель и удобрять почву, а так как при плохой обработке земледелие вознаграждает недостаточно, то они бросились на скотоводство, и потому вместо «волнующихся нив» скоро можно было видеть только избитые скотом и пустынные равнины. Лучше, чем в провинциях, жили римляне, в том числе даже и неимущие, в городе. Вот почему в Рим всегда тащились из сел несметные толпы народа, вследствие чего население главного города Римской империи в то время равнялось почти двум миллионам. Из них около десяти тысяч падало на высшее сословие, а остальные – миллион девятьсот девяносто тысяч – на иностранцев, и затем на рабов и бедных. Большая часть последних жила в величайшей нужде и получала свое пропитание из чужих рук. Если рабов кормили их господа, клиенты получали свое содержание от своих патронов, то еще около 200 тысяч бедных жителей Рима с их женами, сестрами и детьми должно было кормить государство; но и кроме того, были еще тысячи бедняков, которые были лишены государственных подачек и для которых общественные бульвары и галереи храмов служили единственным кровом. В других городах, кроме Рима, где не было правильной раздачи денег и хлеба, число беспомощных бедных сравнительно было не менее велико. Охотно и добровольно римлянин не умел давать, и если он давал когда-нибудь помощь бедным, то делал это почти всегда только по принуждению. «К чему, – говорил, например, Плавт[24], – давать что-либо нищему? Пропадет, что дадут, и бедняку только удлинит его несчастное существование». Никому и на мысль не приходило учреждать, например, богадельни для бедных, госпитали для больных. Только Юлиан вспомнил об этом, но и то уже по примеру христиан.
В противоположность беднякам немногие римские богачи роскошествовали с неслыханною чрезмерностию и пышностию. Цицерон со своим состоянием приблизительно в миллион восемьсот тысяч рублей еще не принадлежал к числу богатых сенаторов. В одних руках нередко собиралось от двенадцати до восемнадцати миллионов рублей. Апиций умертвил себя, потому что не надеялся прожить с тремястами тысяч рублей, оставшимися от его капитала в двадцать четыре миллиона рублей. Общественные, как и частные, здания отличались неимоверной пышностью и богатством. Великолепный дом Цицерона стоил 432 тысячи рублей, дом Клодия – 1 миллион 440 тысяч рублей; высоко также ценили и дом Мецената. Но выше всех домов по тому времени ценился «золотой дом» Нерона; он обнимал собой поля, сады, луга, леса и даже озеро. Принадлежавшие к нему галереи тянулись на семь верст в длину. В его бани вода была проведена из моря, а сернистая вода из теплых минеральных источников Тибура. Богатый римлянин был, впрочем, недоволен еще своим изящным и богатым городским домом; на горах, или у моря он строил для себя также роскошные виллы. Строить и сооружать в то время, кажется, римляне готовы были ежедневно, и истинно не было эпохи столь изобильной страстью к постройкам всякого рода, как та, о которой мы говорим. Дворцы и храмы, театры и общественные бани, триумфальные арки и статуи, мосты и дороги, водопроводы и шлюзы были настроены повсюду. И это было не только в одном Риме, но также и во всех других городах и городках обширной Римской империи; маленькая Помпея, сохраненная судьбой до нашего времени в своем первоначальном виде, ясно доказывает это.
Внутренность римских жилищ не представляла, однако же, комфорта, удобства, и уютности подобно жилищам нашего времени; зато она отличалась богатой пышностью и неслыханными драгоценностями, украшавшими ее. О величественном устройстве римских домов, красоте и изящности мебели и обстановки, чистоте и отделке стен, вообще убранстве и роскоши, по описаниям современников, трудно даже составить себе верное представление.
В этих богатых и красивых римских зданиях господствовала, однако же, только страсть и наслаждениям, разврат, изнеженность, безрассудная роскошь, мотовство и распутство. Многочисленные рабы были всегда налицо для исполнения ежеминутных приказаний. Оргии и другие празднества быстро сменяли друг друга. И рвотный порошок нередко оказывал великую услугу... Его употребляли для того, чтобы выбрасывать из себя неперевариваемое желудком и затем иметь возможность глотать новое. Ужасная чрезмерность и расточительность при таких случаях давали чувствовать себя во всем, – и в яствах, доставленных из отдаленнейших стран, и в самых редких цветах среди зимы, и в маслах, и в благоухающих водах. Целые корабли и караваны везли лакомства, напитки и различные драгоценности из отдаленнейших провинций в богатые римские дома. А что сказать о цене? – Чем дороже, тем лучше! За какую-нибудь чужеземную птицу, которую хотели подать к столу, платили тысячи рублей; какая-нибудь морская рыба стоила от 500 до 600 рублей. Гирций, например, на прокормление и сохранение своих морских рыб в каналах и прудах тратил до 720 тысяч рублей. Деревенский ужин, наскоро данный однажды Лукуллом Цезарю и Помпею, стоил 18 тысяч рублей.
Но каковы были последствия такой невоздержанности и такой чрезмерности в пиршествах? Эта жизнь в одних только чувственных наслаждениях должна была производить расслабление и разрушение телесно, духовно и нравственно. И действительно, как свидетельствуют современники, она произвела поколение с бледными лицами, отвисшими щеками, впавшими глазами, обрюзглой физиономией, дрожащими руками, толстым брюхом, – поколение слабое рассудком, без твердой памяти и силы нравственной.
При жизни, проводимой в чувственных удовольствиях, что-либо высшее, духовное, идеальное почти не существовало или существовало лишь для весьма немногих. Это подтверждает даже и страсть римлян к играм и театральным представлениям. Но и в театре не ставили уже более серьезных трагедий и других драматических произведений, вызывавших у зрителей высокое чувство духовного восторга и очарования; их место заняли грязные сальности – браконарушения и любовные интрижки; мало того, теперь даже стали смеяться над добродетелью и божеством. Непристойностью движений старались раздражать чувственность, а полуобнаженные или совершенно обнаженные танцовщицы делали свое. И что же? – Народ тысячными толпами шел в цирк и амфитеатр. «Хлеба и зрелищ!» – вот известный лозунг того мрачного времени. Вследствие этого в Риме главным образом заботились только об обильном привозе зернового хлеба для кормления народа и о многочисленных театральных представлениях и играх для доставления ему удовольствия. Нередко бывало, что при торжествах и играх тотчас же голодному народу давали и пищу. При Августе хлеб ежегодно раздавали в течение только шестидесяти дней; при Марке Аврелии – уже в течение ста тридцати пяти дней. То же самое, что видим мы в Риме, почти повсюду происходило и в провинциях. Где только было возможно, устраивали и там места для зрелищ с целью доставлять народу удовольствие. Известно, что, к ужасу иудеев, царь Агриппа приказал устроить цирк даже в самом Иерусалиме. Во время бегов на колесницах при Цезаре в римском цирке находились 150 тысяч зрителей, во времена Тита – 250 тысяч, а позже – 385 тысяч лиц. В амфитеатрах происходили возмутительные гладиаторские бои, травли животных и зверей; кроме того, там же давали представления сухопутных и морских сражений. Еще и теперь на стенах Помпеи, засыпанной золой Везувия в 79 году, мы можем читать афиши или приглашения на эти отвратительные увеселения. И главное зло в том, что все это было не представление только, не пустой призрак злодейства, а ужасная действительность, сотням лиц причинявшая смерть в один день; для нас же эти увеселения еще и тем возмутительны, что многие бедные христиане первых веков, в том числе даже некоторые престарелые епископы, в развлечение прихотливому народу там должны были принести в жертву свою многоплодную и драгоценную жизнь.
В провинциях нравственная жизнь описываемой эпохи не падала так глубоко, как в Италии и, в особенности в Риме, но и здесь она была не много лучшей. С римским владычеством и римской цивилизациею к грубым и невежественным народам нередко приходила также и римская распущенность. Резиденция римского управления среди покоренных народов становилась школой нравственного разложения. Римские наместники не отличались вообще нравственными качествами; различными способами – и в большинстве случаев – способами преступными и безнравственными – они выжимали у народа деньги и имущества и таким образом собирали себе почти сказочные богатства; это было последней целью их управления. Красе, например, взял для себя из сокровищницы храма Иерусалимского немалую частицу – десять тысяч талантов (более девяти миллионов рублей), а прокуратор Феликс, как известно, надеялся получить какую-нибудь взятку даже от такого бедного человека, как апостол Павел. А как поступали и жили высшие чиновники, так же жили и низшие в своем кружке; солдаты старались подражать полководцам, а где мог делать это и остальной народ, он также шел за другими и потому нравственно становился все худшим и худшим. Удовольствия чувственной жизни и сладострастие были целью и предметом стремления всех. Итак, нравственная пустота и бессодержательность жизни античного мира ясны как день. После того как разрешена была Римом его великая задача развития государственной жизни, он более не имел вообще никакой идеальной цели. Но и созданная им жизнь политическая, как свидетельствует история, скоро рухнула вместе со всем своим значением и всеми своими стремлениями. Многое в ней скоро превратилось в пустой призрак; таковыми поистине в Риме были народные собрания, сенат, должностные лица. Все сосредоточилось на одной чувственной жизни – хлебе и зрелищах. А так как язычество не знало никакой цели по ту сторону гроба, то оно не имело истинной цели и в бытии этого мира.
Грустная и мрачная картина из эпохи язычества раскрылась перед нами с многих сторон. Конечно, в Римской империи были, без сомнения, еще и здоровые элементы, – честные и благородные дома, добросовестные и добродетельные люди. И мы не должны забывать, что все то, что известно нам о нравственной жизни того времени, дошло до нас большею частью из самого же Рима, – что в главном городе, этом центре тогдашнего мира, нравственная испорченность проявлялась в большей мере, чем в провинциях, где старинная простота держится обыкновенно дольше и упорнее. К этому мы охотно добавляем еще и то, что мрачные стороны всегда выдаются гораздо резче, чем добрые, остающиеся обыкновенно в тени. Но, несмотря на все это, результат наших исследований все-таки не иной, как тот, что около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа языческий мир впал как в религиозное, так и нравственное разложение. В самом язычестве не было уже силы вызвать обновление в нравственно-религиозной области. Бессилие это было ощутительно повсюду; желание религиозного и нравственного обновления становилось все живее и живее.
Но сила обновления могла прийти лишь извне, сверху. Лишь когда явилось христианство, вместе с ним открылся и источник, из которого для больного человечества вытекала свежая жизнь и которым древний мир преобразовался в новый.
На восток был обращен тоскливый взор и на востоке только находился народ, из которого должен был выйти Спаситель, – народ иудейский.
Б. ИУДЕЙСТВО
ГЛАВА I.
Страна и народ Иудейский
Палестина, отечество народа иудейского, лежавшая на восток от Средиземного моря, окруженная на севере Ливаном и примыкающими скалистыми горами, на восточной стороне – пустыней сирийской, а на южной – аравийской, от Дана до Вирсавии едва имела 160 римских, или около 32 географических, миль в длину, а в ширину – только около половины этого расстояния. По эту сторону Иордана (западную) страна эта заключала в себе приблизительно только 340 квадратных миль, а вместе с восточно-иорданской окрестностью – около 460 квадратных миль. И эта столь небольшая страна, по воле Промысла, должна была сделаться исходным местом религии, победившей мир.
По своему физическому устройству Палестина вообще страна гористая. На ее северной границе, как мы сказали, возвышается хребет Ливанских гор, от которого идут две параллельные горные цепи даже по всей почти Галилее; на юг от него также тянутся непрерывные незначительные возвышенности до самой южной границы страны; на запад отлого спускаются они почти до Средиземного моря, между тем как на востоке, по Иордану, именно в стране Мертвого моря они оканчиваются крутыми обрывами. По ту сторону Иордана – восточную также тянется длинный хребет скалистых гор с севера на юг. Между горами уютно стелются плодородные долины и равнины, каковы – у моря западная, на северо-востоке от Кармила – долина Ездрелонская. В высшей степени по местам идиллическая, долина Иорданская орошается единственной значительной рекой Иорданом, текущей с севера на юг, образующей многие озера, как, например, Самохонитское и Геннисаретское, и впадающей, наконец, в Мертвое море. Таким образом, Палестина с разнообразием своей поверхности, произведенным горами, равнинами и долинами, является страной, которая на небольшом пространстве объединяет самые разновидные почвенные образования и характеры местностей.
В этой разновидности почвы для населения сама собой сказалась необходимость различного рода занятий. Узкая береговая полоса, отделенная горами от центра страны, указывала ему на море, долины и равнины были весьма годны для земледелия; к ним же можно отнести и черноземные предгорья, хотя более они были удобны для разведения винограда и смокв. Степи и весь юг Иудеи давали возможность в обширных размерах заниматься скотоводством, а горные хребты и в особенности их склоны представляли собой богатые пастбища для скота мелкого. Таким образом, по своей почве и физическому устройству, Палестина поистине была «садом Божиим», как рог изобилия разнообразнейших произведений (ср. Втор. 8:7–9), и уже в Ветхом Завете она называется, поэтому доброй, тучной землей (Исх. 3:8; Неем. 9:25, 35), в которой течет мед и млеко (Исх. 3:8; 13:5); во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа почва Палестины также представляется весьма способной к плодородию[25]. Но благословения этой страны были соединены, однако же, неразрывной связью с постоянным трудом, усердием, прилежанием и рассудительностью; глинистый и песчаный мергельный грунт (смесь глины с известняком) нуждался в удобрении, а недостатку естественных водных источников нужно было помогать искусственным орошением и заботой о сбережении лесов. Вот почему когда в позднейшие века место усердного возделывания земли заняли леность и нерадение, палестинская почва перестала быть плодородной и вместо цветущих некогда полей там ныне встречаются взгляду путешественника лишь местности пустынные и бесплодные.
Только чрезвычайным плодородием Палестины мы можем объяснить себе и то, каким образом эта небольшая страна могла питать многочисленных жителей. Во времена Давида в Палестине на одну квадратную милю приходилось до 10 тысяч, а во всей стране жило, следовательно, от четырех до пяти миллионов человек; во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа народонаселение Палестины было также весьма значительно, быть может, даже подобное по своему количеству народонаселению времен Давида.
Если мы взглянем теперь на положение этой страны, то нет, кажется, местности более удобной, чем Палестина, для служения указанной ей цели – образовать народ Божий и дать возможность выйти из него спасению. Отделенная своим естественным устройством от всего соседнего мира, она находилась в то же время в самом центре мира культурного. По своему замкнутому положению она действительно как бы была виноградником (Ис. 5), который извне был защищен стеной и забором. Такими ограждениями были Ливан, сирийско-аравийская пустыня, каменистая Аравия; даже Средиземное море замыкало ее, потому что уклоняющееся в сторону боковое течение препятствовало свободе корабельного плавания, а потому и гавани находились в чужих руках. Мало того, не было даже и речных путей сообщения за пределы Палестины, потому что единственная палестинская, значительная река Иордан, по своему свойству и своему положению, была совершенно непригодна для этого. Даже соседние народы, слишком враждебные к Израилю во все прежние века, представляли собой твердую стену вокруг страны и народа. Но при всем том Палестина, как мы сказали, находилась в самой средине древнего культурного мира, в средине известных тогда трех частей земного шара. Вблизи ее границ проходили четыре главных торговых пути: на севере – путь, шедший от финикийских гаваней Тира и Сидона в Дамаск и далее к Евфрату; на востоке путь вел от Дамаска в Аравию, на западе – из Египта в Сирию и Финикию и на юг от Газы в Египет и к Персидскому заливу. Подобным образом, окруженная известными культурными народами древнего мира – египтянами и финикийцами, ассирийцами и вавилонянами, Палестина находилась также и в средине политических народных отношений, как доказывает история Египта, Вавилона, Персии, и как свидетельствует судьба иудейской страны и народа каждой эпохи. Вот почему страна эта скорее всякой другой страны и могла стать местом истории нашего спасения; вот почему народ замкнутый легко мог все-таки вступить в сношение с внешним миром и сообщить ему свою веру; вестники Евангелия как проповедники спасения могли выйти из него в местности всех стран света.
Иудейский коренной народ Палестины составляли первоначально потомки тех двенадцати сыновей патриарха Иакова, которые, по воле Божией, стали представителями многолюдных поколений. Продолжительное время и в особенности плен вавилонский произвели в иудейском народе много изменений и путаницы, сплетение родов и даже смешение с иноплеменниками, так что жители Палестины, имевшие обыкновение гордиться своими праотцами, в действительности были уже отчасти иными, чем в царствование, например, Давида. Прежде всего, это случилось в Самарии. Жители Иудеи и Галилеи во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа происходили также не от всех уже первоначальных колен израильских, но от колен только Иуды и Вениамина, которые лишь одни, за исключением священников и левитов, возвратились из вавилонского плена, и затем от остававшихся в Палестине израильтян, которые тотчас примкнули к возвратившимся из плена соплеменникам. Даже язык, на котором говорили жители этой страны, в сравнении с прежним языком после вавилонского плена получил свой особый отпечаток. Древний еврейский язык, на котором первоначально были написаны книги Ветхого Завета, более и более терял теперь значение языка народного, а в конце концов, он остался только языком богослужебным и языком ученых, который для обыкновенных евреев становился понятным лишь при посредстве перевода и толкования. Вместо него, с течением времени, в народное употребление вошел из Сирии язык арамейский с еврейским оттенком. Уже Ездра (1 Ездр. 4:8–16; 2 Ездр. 2:16) и Даниил (2:4–7:28) писали отчасти на арамейском языке; а Новый Завет ясно дает видеть, что во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа народным языком был язык арамейский, ибо он полон арамеизмами, например, Голгофа (Мф. 27:33), Авва (Мк. 14:36), Мессия – вместо Мешиах (Ин. 1:41), Кифа (Ин. 1:42), «Элои, Элои» – на кресте (Мк. 15:34) и т. д.
Кроме того, едва ли можно сомневаться, что и греческий язык, и даже греческие нравы и обычаи были не чужды палестинцам как на западе, так и на востоке страны. Прибрежные города были населены по преимуществу греками, – и если масса иудейского народа была знакома с греческим языком, конечно, только по нужде, то тем более знали его иудейские высокопоставленные и ученые люди. Главный город Самарии во времена земной жизни Иисуса Христа носил даже греческое название Севастии, имел греческие монеты и даже греческие богослужения. В царствование Тиверия большую часть жителей Галилеи также составляли именно греки. Даже в Иудее, и в особенности в Иерусалиме, греческий язык был хорошо известен. Ирод держал при своем дворе многих эллинов; Рим сносился с Палестиной на греческом языке; в высшей степени вероятно также и то, что императорские монеты были греческого чекана (Ср. Мф. 22:19); наконец, в храм Иерусалимский стекались многочисленные иудеи, говорившие только по-гречески, иудейские единоверцы из различных народов и даже язычники (Ин. 12:20); эллинисты имели в главном городе свои собственные синагоги (Деян. 6:9; ср. 9:29), а нередко они имели там же и свое постоянное местопребывание; наконец, так как у западных пределов страны проживали греко-восточные язычники, то соседство это также немало способствовало к тому, чтобы греческий язык, нравы и религия не оставались неизвестными палестинским иудеям.
Тем не менее к чести туземного иудейства нужно сказать, что оно, конечно, в общем и не принимая в расчет некоторых исключений, сохранило себя от языческого влияния и твердо держалось отеческой веры и отеческих нравов. Чтобы не допускать увлечения служением языческим идолам, в Палестине особенно настаивали на соблюдении второй заповеди (Исх. 20:4) и не допускали в храм никаких изображений, а однажды не допустили даже и того, чтобы в Иерусалим были внесены римские орлы с изображением императора[26]. Общение с язычниками иудеям было строго запрещено, а в особенности – во время празднеств; запрещено было даже пользоваться языческим вином и деревьями от священных идолопоклоннических рощ. Всякая встреча с язычником оскверняла иудея (Деян. 10:28; Ин. 18:28); в то время как иудей, впрочем, мог еще пригласить к своему столу язычника, – было бы совершенно противозаконно, если бы иудей сел за стол у язычника (Деян. 11:3; Гал. 2:12). Языческое римское владычество над Палестиною считалось несправедливым и незаконным, вследствие чего во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа для всех палестинских иудеев было действительно серьезным вопросом, – следует ли платить дань кесарю или нет (Мф. 22:15-22; Мк. 12:13-17; Лк. 20:20-26). Зато какой величайшей радостью было для тогдашнего иудея обращение язычника к Моисеевому закону (Мф. 23:15)!
В описываемую эпоху Палестина уже не сохраняла более деления, как раньше, на двенадцать израильских колен. Из евангельских повествований, как и из других, нехристианских, исторических памятников мы знаем, что во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа по западную сторону Иордана она была разделена только на три провинции – Иудею, Самарию и Галилею; по восточную сторону Иордана находилась Перея; к ней примыкали Батанея, Трахонитида, Аврантида и Итурея – провинции, которые за несколько лет до рождения Иисуса Христа снова все были объединены Иродом Великим под одной властью. Рассмотреть их поближе нам необходимо для того, чтобы яснее обрисовать страну и народ иудейский.
Самою южною из трех западно-иорданских провинций Палестины была Иудея, называемая в Священном Писании «страною иудейскою» (Мф. 2:1, 3:1, 4:25; Лк. 2:4; Ин. 3:22). По своему физическому устройству страна эта большей частью была гориста (Лк. 1:65); тем не менее горы ее были плодородны, и не было недостатка в прекрасных долинах, как не было недостатка и в скалистых пустынях. В Иудее национально-иудейское народонаселение было наиболее чистым; это та именно часть Палестины, которая, прежде всего снова заселена была после плена вавилонского, и притом – лицами, принадлежавшими к коленам Вениамина и в особенности – Иуды, вследствие чего и весь народ еврейский, со времени возвращения из плена, стал называться главным образом «иудеями». После смерти Ирода Великого Иудея перешла под власть Архелая, затем была причислена к римской провинции Сирии и была управляема прокураторами, пока Агриппа I снова не соединил ее под своим скипетром с остальными палестинскими провинциями.
Иудея, и в особенности находившийся в ней главный город Палестины Иерусалим, имели весьма важное значение в жизни всего израильского народа Иерусалим, отдаленный на восемь часов расстояния на запад от северного берега Мертвого моря и на двенадцатичасовое расстояние на восток от гавани Иопии (Яффа) при Средиземном море был расположен на плоской возвышенности и с трех сторон окружен долинами: на востоке – долиной Иосафата, по которой протекал поток Кедрон, на западе – долиной Гион, на юге – долиною Гинномовой; обе последние долины были орошаемы Гионским потоком, впадавшим в Кедрон. Самый город был разделен Тиропеонским ущельем: на западный верхний город с горой Сионом и на восточную, гораздо ниже лежавшую половину, с горой храма Мориа. Ограниченный двумя этими частями Иерусалима на юге и востоке, лежал нижний город – Акра, и на север от горы Мориа и Акры – новый город – Везефа. Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа Иерусалим окружали две стены: первая, начатая еще Давидом, обнимала собой Сион и гору храма, – вторая, устроенная Иезекиеи, охватывала отчасти даже и Акру; третья, построенная Иродом Агриппою I лишь за тридцать лет до разрушения Иерусалима, обнимала впоследствии уже и Везефу.
Тесные переулки и широкие улицы, низкие хижины и огромные великолепные здания в Иерусалиме перемешивались между собой на каждом шагу. Между последними выдавался в особенности величественный и роскошный дворец Ирода Великого – дело самой безрассудной расточительности и в то же время верх архитектурного искусства того причудливого века. По описанию Фаррара[27], дворец этот был расположен в верхней части города, к юго-западу от храмовой горы. «Это было, – говорит Фаррар, – одно из тех "превосходящих всякое описание" зданий, которые вполне соответствовали требованиям того века и на которых Иосиф Флавий останавливается с восторгом умиления. Между двумя колоссальными флигелями из белого мрамора, называвшимися в духе обычной иродианской лести императорскому дому – один Caesareum, другой – Agrippeum, находилось открытое пространство, откуда открывался великолепный вид на Иерусалим; оно было украшено скульптурными портиками и разноцветного мрамора колоннами, вымощено богатой мозаикой и снабжено фонтанами и резервуарами, сменявшимися зелеными аллеями, в которых находили для себя великолепное убежище целые стаи голубей. Извне это была масса высоких стен, башен и сверкающих кровель, представлявших изысканную смесь разнообразного блеска; внутри – его пышные залы, достаточно вместительные для сотни гостей, были убраны роскошной мебелью и сосудами из золота и серебра»... Построенный тем же Иродом, вопреки отеческим обычаям иудеев, театр в южной части верхнего города, Ксист, или крытая галерея на столбах, и дом суда, находившийся вблизи храма, также служили большим украшением для города; последнее здание, быть может, и было тем именно местом, где помещалась зала заседаний верховного совета, или синедриона, и где некогда должен был оправдываться пред иудейскими судьями св. апостол Павел (Деян. 22:30; 23:1, 10). Но больше всего обращал на себя внимание национальный храм Иерусалимский, построенный на горе Мориа и приводивший в восхищение сердца всех иудеев. С восемнадцатого года своего царствования Ирод Великий, старавшийся первоначально снискать расположение к себе со стороны иудеев, начал перестраивать его; и после предварительного окончания, десять лет спустя после начала его реставрирования, снова приказал обновить его и таким образом реставрация храма Иерусалимского продолжалась еще и после смерти Ирода; над украшением его, впрочем, иудеи работали до самого разрушения Иерусалима. Почти непосредственно к храму примыкал расширенный и укрепленный Иродом замок Антония, названный так царем в честь его друга, римского полководца Антония. Здесь имел свое постоянное пребывание сильный римский гарнизон, потому что местность эта была господствующей как над местностью храма, так и над всем городом. Сюда же, между прочим, приводили и апостола Павла, когда, во время возмущения, происшедшего на храмовой площади, он был схвачен римскими солдатами (Деян. 21:31). Там же, быть может, следует искать также и «преторию Пилата», хотя некоторые исследователи[28] полагают, впрочем, что место это находилось будто бы во дворце Ирода, – преторию (Мф. 27; Мк. 15:16; Ин. 18:28), куда был приведен пред Пилата Иисус Христос и откуда потом (Лк. 23:7, 15) Его отвели во дворец Ирода, находившийся в верхнем городе, чтобы позже Он претерпел крестную смерть на Голгофе (Мф. 27:33), на северо-западе Иерусалима.
На восток от Иерусалима, против горы храма, находилась гора Елеонская с садом Гефсиманским (Мф. 26:30; Мк. 14:26, 32), Вифания (Мф. 26:6; Лк. 10:38) и Виффагия (Мф. 21:1). Вифлеем (Мф. 2) находился в семи верстах от Иерусалима на юг; Эммаус (Лк. 24:13) в четырех верстах на северо-запад, Иерихон (Лк. 19) в двадцати верстах на северо-восток.
В самом Иерусалиме повсюду проявлялась всегда весьма живая и возбужденная жизнь и деятельность. Большое влияние имела на это особенная любовь иудеев к странствованиям, равно как и их сношения со своими единоверцами, жившими в других странах, в особенности во время празднеств. Делич в своем сочинении -– «Handwerkerleben zur Zeit Jesu» и Прессель в «Priscilla an Sibina» рисуют пред нами живую картину кипучей и безустанной деятельности в отдельных кружках иерусалимского населения, и в особенности среди рабочего класса. В течение шести будничных дней Иерусалим становился похожим на огромный пчелиный улей; все в нем находилось в самой возбужденной деятельности. В домах и перед домами работа положительно кипела: стучали молотами и пилили, убивали скот и варили, пряли и мыли. Около открытых подвалов, торговых рядов и лавок теснились толпы людей, пришедших из провинциальных городов и деревень, чтобы купить мяса и овощей, хлеба и вина, платье и сандалии, равно как и для покупки различных привозных товаров и других редких произведений природы и искусства – ковров и занавесей, пряных кореньев и благовоний. При этом звуками перемешанных веселых и серьезных голосов, шумом и «гвалтом», возможными только среди евреев, были наполнены все городские дома и промысловые заведения: цирюльни и купальни, рестораны и столовые, школьные помещения и синагоги раввинов. Хотя большинство рукоделий было производимо в самой средине города, но немало их было и по его окраинам; так горшечники проживали на южной стороне города, валяльщики – на западной, а кожевники имели свои мастерские даже за самим городом. Вообще, нужно сказать, что в Иерусалиме промысловая жизнь была развита в обширных размерах. Среди населения ремесленники составляли даже особые классы и общины, которые были управляемы точными узаконениями. У иудеев труд был в таком великом уважении, что и каждый ученый должен был знать какое-нибудь ремесло. Вследствие этого самый простой ремесленник в глазах иудейского общества нередко мог быть самым авторитетным лицом и всегда мог получить место и голос даже в заседаниях верховного совета.
Религиозная жизнь яснейшим образом проявлялась в Иерусалиме во время больших празднеств. К национальному иудейскому святилищу, храму, стекались толпами жители провинций обетованной земли во всякое время; но в дни великих празднеств в Иерусалим являлись и иудеи рассеяния со всего тогдашнего мира, дабы послужить Господу в святом Его храме (Лк. 2:42; Деян. 2:8–11), так что по временам, как рассказывает Флавий, в Иерусалиме бывало до трех миллионов одних посторонних посетителей. И иудейские пилигримы не только оживляли религиозную жизнь в народе, но приносили с собой также и большие суммы для храмового фонда, равно как деньги и имущество – для городского населения. Но если иностранцев бывало особенно много в Иерусалиме во время великих празднеств, то не было в них недостатка и во всякое другое время, потому что постоянным странствованиям иудеев не было конца (Ин. 7:37). В Иерусалиме иудей получал все, что хотел и что нужно было для него как иудея. Кроме храма, здесь еще были и многочисленные синагоги, в которых читали и изъясняли Священное Писание, а также возносили и общественную молитву (Деян. 6:9); здесь были и воспитательные учреждения для изучения и усвоения иудейской науки; здесь был синедрион, высшая духовная и судебная инстанция для иудеев всего мира. Одним словом, Иерусалим был местом, в котором жизнь иудеев била ключом во всех жилах.
Вне главного города в Иудее, само собой понятно, жизнь была спокойнее и тише. Пастухи пасли свои стада; земледельцы возделывали свои поля и виноградники; торговля стояла на втором плане. Но при всем том и для жителя провинции главнейшее и наивысшее в жизни составлял «Иегова и Его храм», а одна из его важнейших задач состояла в том, чтобы научить юношество закону и сообщить ему «предания старцев». Впрочем, при строгом соблюдении законного благочестия, иудейский народ был, однако же, несвободен от суеверия и даже не был чужд насилия, – он не считал, например, для себя постыдным при посредстве грабежа завладеть имуществом путешествовавших по Иудее. В войне и возмущениях он всегда обнаруживал крайне фанатическую ревность. Вот почему и Ирод Великий всегда обращал свое особенное внимание на провинциальных иудеев и, имея их в виду, строил свои неприступные крепости.
В евангельских повествованиях о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа об Иудее упоминается часто. В маленьком Вифлееме, лежавшем на юг от Иерусалима, Он родился (Мф. 2:1; Лк. 2:4 и далее); с двенадцатилетнего возраста своего Он часто бывал в главном городе и его храме; в особенности евангелист Иоанн много рассказывает нам об Его путешествиях на праздники и об Его деятельности в Иерусалиме (Ин. 2:13; 6:4; 13:1); евангелисты повествуют подробно также и о происходивших там Его страданиях, смерти и воскресении.
Средняя провинция западно-иорданской части Палестины называлась Самариею. Это была прекрасная равнина пространством около сорока квадратных миль, богатая лугами и лесами, состоявшими из дубов, оливковых и ореховых деревьев. На возвышенностях и горах Самарии жители занимались земледелием и скотоводством; на западной границе процветала торговля, и потому население Самарии всегда находилось в постоянной и самой оживленной связи с иностранцами. Подобно Иудее страна эта сначала также была под властью Ирода Великого, позже – Архелая, пока не разделила судьбы Иудеи и не стала составной частью римской провинции Сирии.
Жители Самарии были потомки того народа, который произошел из смешения израильтян, остававшихся в стране после переселения их единоплеменников в Вавилон, и языческих колонистов, выселенных Салманассаром и Асарданом (1 Езд. 4:2) из ассирийских провинций в Палестину, которые с течением времени мало-помалу примкнули к религиозному общению с оставшимися в Палестине иудеями. С иудеями, возвратившимися из вавилонского плена, самаряне охотно желали соединиться снова и принять участие в построении храма и иерусалимском богослужении (1 Езд. 4); но иудеи сами грубо их оттолкнули от себя. Из мести за это оскорбление самаряне решились затруднять иудеям построение храма и укрепление Иерусалима (Неем. 4). Раздражение дошло до открытой вражды с обеих сторон. Мало того, при Санбаллате и Манасии жители Самарии, лишенные религиозного общения с Иерусалимом и его храмом, построили свой собственный храм Иегове на горе Гаризим у главного города Сихема. Храм этот после двухсотлетнего существования своего был, впрочем, разрушен Иоанном Гирканом, племянником Иуды Маккавея, правившим Иудеею от 135 до 105 г. пред Р. X. Но если святилище и было разрушено, то к временам земной жизни Господа нашего Иисуса Христа для самарян местом молитвы оставалась еще все-таки гора, на которой находился этот храм (Ин. 4:20). Религию самарян составляло неполное откровение, потому что из книг Ветхого Завета они признавали только Пятикнижие и отвергали всякое предание и все фарисейские учения. Тем не менее, как и все другие жители Палестины, самаряне также ожидали Мессию (Ин. 4:25), и известно, что многие из них охотно переходили в христианство (Деян. 8:5-12; 9:31; 15:3).
В общем, самаряне были характера более тихого, чем иудеи, – и Господь воздал им полную справедливость и создал им несокрушимый и драгоценный памятник в притче о милосердом самарянине (Лк. 10:30; ср. Лк. 17:16). Но застарелая вражда и ненависть между иудеями и самарянами не были все-таки уничтожены еще и во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Ин. 8:48). Когда иудеи проходили чрез Самарию, в гостиницах они находили для себя далеко не дружелюбный прием (Лк. 9:53); такие путешественники по всей Самарии были осыпаемы насмешками, а иногда даже должны были переносить и побои. Вследствие этого, а с другой стороны, и потому, что вместе с язычниками это смешанное население Самарии считалось нечистым, иудеи, со своей стороны, насколько возможно, избегали всякого общения с ним (Ин. 4:9); чтобы добраться до Иерусалима помимо ненавистной Самарии, галилеяне, как это сделал однажды, между прочим, и Иисус Христос, ходили на праздники окольным путем, обыкновенно – чрез Перею по иорданской долине и затем чрез Иерихон (Лк. 19:1); равным образом этого же пути держались и иудеи, путешествуя из своей страны на север (Ин. 4:9). Такою непримиримою враждебностию и нетерпимостию между иудеями и самарянами объясняется и вопрос, предложенный самарянкой Иисусу Христу у колодца Иакова: «Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» (Ин. 4:9), а также и удивление учеников, что Учитель их вообще говорит с самарянкою (Ин. 4:27). Но что Сам Иисус Христос не одобрял этого ригористического воззрения иудеев, доказывают нам Его путешествия по Самарии (Лк. 17:11) и посольство Его учеников как проповедников Евангелия именно в эту страну (Деян. 1:8).
На север от Самарии лежала третья палестинская провинция – Галилея (Лк. 8:26; 17:11; Деян. 9:31 и др.), «округ язычников», «Галилея языческая». Галиль по-еврейски означает «округ», и название это первоначально прилагалось к двенадцати городам в округе Кедеса Неффалимова, который Соломоном был отдан Хираму в вознаграждение за его услуги по перевозке строевого леса и которому Хирам, в крайнем недовольстве, дал название Кабул, или «презренный», «отвратительный». Таким образом «презрение» к Галилее имеет для себя и глубокие исторические корни. В географическом отношении Галилея разделилась на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя Галилея это – неравномерно расположенная гористая местность, где в пестроте перемешиваются между собой горы и долины, – местность едва проходимая и весьма удобная для укрывательства разбойнических шаек, почему, насколько возможно, все иностранцы и избегали по ней путешествовать. Более приятною была так называемая Нижняя Галилея, лежавшая на юг от Верхней, начинавшаяся приблизительно путем который вел от Акко (Акра) в Тивериаду и который назывался «путь моря» (Мф. 9:9), где некогда сидел Матфей у сбора пошлин. По своему положению она ниже Верхней Галилеи, хотя и изобилует рядом возвышенных равнин, которые террасами следуют одна за другой, а на востоке и юге оканчиваются более или менее крутыми склонами. Вообще же, нужно сказать, что Нижняя Галилея принадлежала к плодороднейшим частям Палестины и была преимущественно богата произведениями земледелия, лесами, состоявшими из дубов, смородины и тутовых деревьев, а также изобиловала и зелеными лугами. Но самой плодороднейшей и прелестнейшей местностию в этой стране был, бесспорно, западный берег «Галилейского моря» (Мф. 4:18), или, как оно также называется еще, «Геннисаретского озера» (Лк. 5:1), «моря у города Тивериады» (Ин. 6:1), полоса земли, где все роды зернового хлеба всегда давали обильный урожай и где ягоды, смоквы и другие овощи и фрукты можно было иметь без перерыва в течение десяти месяцев. Прекрасное описание Геннисаретского озера и его окрестностей можно читать в сочинении Фаррара – «Жизнь Иисуса Христа»[29]. «Когда путешественник, поднявшись из долины Голубиной (в Нижней Галилее), старается с жадностию уловить первый блеск Геннисарета, – говорит Фаррар, – он видит перед собой небольшое, в виде арфы, озеро – верст в двадцать с небольшим в длину и десять верст в ширину. По ту, или восточную, сторону его тянется зеленая полоса с полверсты шириной, за которой поднимаются на высоту 900 футов над поверхностью озера откосы обнаженных холмов, изрезанных мрачными оврагами; на них нет ни деревца, ни поселения, ни вообще следа какой-нибудь обработки. Сюда-то часто удалялся Спаситель, когда после тяжких трудов хотел освежиться душой в уединении с Богом. Озеро, со своими сверкающими водами и с опушкой цветущих олеандров, в зеленых ветвях которых блещут ярко-голубые крылья сизоворонки, а над зеркальной поверхностью во множестве носятся чайки, бросающиеся на всякую неосторожно всплывающую наверх рыбку, – лежит на дне большого углубления, или бассейна, более чем на 500 футов ниже уровня Средиземного моря. Отсюда палящий и расслабляющий зной этой долины; но отсюда также и разнообразие ее деревьев, плодородие ее почвы, пышность ее растительности, богатство жатвы, созревающей месяцем раньше, чем в других местах, и множество ручьев, стремящихся по склонам гор к озеру. Берега озера теперь почти совсем пустынны; за исключением маленького, видимо умирающего и разлагающегося городка Тивериады и ужасной деревни «Медждель» (древняя Магдала), дикость населения которой лучше всего доказывается тем, что дети на улицах играют совершенно нагими, – на его некогда густо населенных берегах нет ни единого обитаемого места. Одна жалкая, заброшенная лодка, – да и той не всегда можно достать, – заменила его некогда богатый и многочисленный флот. Так как озеро все еще изобилует рыбой, то это яснее всего доказывает отвратительную беспечность и полный упадок энергии и предприимчивости в теперешних обитателях его берегов. Но черты природы остаются все те же. Озеро все еще неизменно лежит в недрах холмов, подобно опалу, оправленному в смарагды, отражая на себе все световые переливы атмосферы; воды его все так же прекрасны в своей прозрачности, как и тогда, когда лодка апостола Петра колыхалась на его зыблющихся волнах и Иисус задумчиво смотрел в их прозрачную глубь; чашеподобный бассейн все еще переполняется потоками солнечного света; воздух еще дышит своим естественным благоуханием; горлица еще воркует в долинах, и пеликан ловит рыбу в волнах; повсюду те же пальмы, зеленые поля и журчащие потоки; – только рядом с ними угрюмо смотрит серая куча развалин. Но насколько оно потеряло в населении и оживленности, настолько же выиграло в торжественности и интересе. Если бы всякий след человеческого обитания исчез с его берегов и только бы унылый вой шакалов и гиен раздавался над разбросанными развалинами тех синагог, в которых некогда учил Христос, уже одно то, что Он избрал окрестности этого озера местом для начала своего общественного служения, будет придавать священный и трогательный смысл его пустынным водам до конца времен. Общий вид его, однако же, во времена Христа был совершенно иной, – он был гораздо более поразителен и прекрасен, потому что местность эта была более населена и обработана. Иосиф Флавий в одном месте восторженно говорит об этом озере и, описав восхитительную красоту его вод и мягкость воздуха, богатство его пальм, виноградников и смоковниц, апельсинных, миндальных и гранатовых деревьев и его теплые источники, говорит, что времена года как бы спорили за честь обладания им и природа создала в нем как бы образцовое свое произведение, на которое она потратила всю свою мощь и всю свою силу. В том, что эта равнина – «гордость природы» – принадлежала колену Неффалимову, талмудисты видят исполнение Моисеева благословения, по которому это колено будет «насыщено благоволением и исполнено благословения Господня» (Втор. 33:23); вместе с тем у них была пословица, истинная в более глубоком смысле, чем они предполагали, именно что «Бог создал семь озер в земле ханаанской, но только одно – озеро Галилейское Он избрал для Себя Самого»...
После смерти Ирода Великого над Галилеею владычествовал Ирод Антипа; позже она передана были Агриппе I, пока, подобно всем другим палестинским провинциям, не была присоединена к Сирии.
После вавилонского плена народонаселение Галилеи сильно перемешалось с различными языческими элементами, откуда произошло и ее название «Галилея языческая» (Мф. 4:15); во время земной жизни Спасителя в Галилее также проживало еще множество язычников – финикиян, арабов, сирийцев и греков. Вообще, народонаселение этой провинции было весьма многочисленно; Иосиф Флавий[30] насчитывал 204 галилейских местечка, из которых самое незначительное имело 15 тысяч жителей; в общем же народонаселение Галилеи простиралось до четырех миллионов жителей[31]. Это простое, но трудолюбивое и усердное народонаселение занималось главным образом земледелием и торговлею с соседними народами. Торговым занятиям галилеян много способствовало самое положение их страны и прекрасное устройство путей сообщения. Чрез Нижнюю Галилею к Геннисаретскому озеру шли четыре торговые дороги. Из них одна вела вниз по иорданской долине, по западной стороне озера; другая, перейдя мост в южной части озера, шла через Перею к бродам Иордана близ Иерихона; третья вела чрез Сепфориду, красивую столицу Галилеи, к знаменитому порту Акке на берегу Средиземного моря («путь моря»); четвертая лежала через горы Завулонские к Назарету и через долину Ездрилонскую к Самарии и Иерусалиму. Этой областью проходили большие караваны на своем пути из Египта в Дамаск[32]... Кроме того, Иосиф Флавий[33] восхваляет эту провинцию еще и за то, что в галилейских мужчинах никогда не было недостатка в храбрости, страна никогда не нуждалась в трудолюбивых людях и что в лености никогда нельзя было упрекнуть галилеянина. Тем не менее жители Галилеи имели и свои недостатки; так, они были вообще склонны к непостоянству, переменам, и любили возмущения (Ср. Лк. 13:1; Деян. 5:37). Хотя они были всегда верными национальному своему храму и ежегодно большими толпами ходили в Иерусалим на главные праздники (Лк. 2:41, 44), но в религиозном отношении они все-таки были первоначальнее и самостоятельнее, чем жители Иудеи; фарисеи имели среди них гораздо меньшее влияние, чем среди иудеев, хотя по временам они приходили и на север в качестве посланников от Иерусалима (Мф. 15:1). Испорченный, провинциальный галилейский диалект всегда выдавал галилеян, как выдал он некогда и апостола Петра, которому говорили: «И ты – галилеянин; ибо речь твоя обличает тебя» (Мф. 26:73; Мк 14:70; Лк. 22:59). В глазах остальных иудеев галилеяне не пользовались особенным уважением как вследствие своей отсталости в образовании, так и вследствие их сомнительной религиозной чистоты по причине их смешения и близкого знакомства с язычниками (ср. Ин. 1:46; 7:52; Деян. 2:6). «Смешение израильтян с язычниками в Галилее, – говорит А. В. Горский[34], – и отдаленность их от столицы их веры оставляли их по большей части в невежестве в отношении к своей вере. Это были люди, сидящие во тьме и сени смертной. Собственно иудеи смотрели на них с презрением. От Галилеи пророк не приходит, из города Галилейского может ли что добро быти? Это были всеобщие поговорки между чистыми иудеями. Галилеяне не богаты были учителями; зато учители иудейские не передали им всех своих заблуждений. Правда, они разделяли с прочими иудеями некоторые предрассудки относительно Мессии; но их предрассудки, как предрассудки невежества, легче могли сглаживаться, нежели предрассудки ложного просвещения. Явление между ними Мессии тем более долженствовало их привлекать к Нему, чем на низшей степени стояли они прежде во мнении своих соотчичей иудейских».
Своим величайшим значением в истории развития всего человечества эта палестинская провинция всецело обязана «Иисусу Галилеянину» (Мф. 26:69). В Назарете Он возрос и имел там Своих родных (Ин. 4:44; Мф. 2:23); ученики Его большей частью также были галилеяне (Деян. 1:11; 2:7); на браке в Кане Галилейской Он сотворил Свое первое чудо (Ин. 2:1-11); у городских ворот Наина Он возвратил скорбящей матери ее умершего сына (Лк. 7:11); Он часто и охотно проживал в Капернауме при Геннисаретском озере (Мф. 9:1, 11); вообще, Он любил прелестную местность западного берега Галилейского моря и совершил там большую часть Своих дел (Мф. 11:20 и далее); три первые евангелиста много повествуют нам о Его тамошних делах и речах.
На восток от этой части Палестины находилась восточноиорданская страна. У нее не было тех красот природы и той обильной производительности почвы, какие были в западноиорданских провинциях, Святой земли. Дикая и бесплодная Перея на юге имела лишь незначительное количество жителей; ей принадлежало значение только пограничной защиты от хищнических набегов диких и воинственных арабов, и именно в этих целях Иродом Антипой там было устроено сильное укрепление – Махерон, в котором некогда злодейски умерщвлен был Иоанн Креститель (Мф. 14:1 и далее). Обширное северное пространство восточноиорданской страны занимали местности – Гавлонитида, Аврантида, Трахонитида, Итурея и Батанея. Страны эти были уже покрыты нивами и пастбищами и усеяны великим множеством пещер; но жители их не были слишком изнежены культурой; как дикое, воинственное племя номадов они любили проводить свою жизнь на свободе, в кочевьях, без продолжительного владения определенной землей и без постоянных жилищ. Часто предпринимали они хищнические набеги на соседние страны и награбленную добычу скрывали в своих многочисленных, глубоких и скалистых пещерах, которые вместе с тем и для них самих служили местами убежищ от их врагов. Ирод предпринимал против них нередко походы и отчасти умел обуздывать их силою своего меча и заселением их страны иудейскими и идумейскими колонистами. Вот почему ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа здесь проживали повсюду также и многочисленные иудеи, сильно, однако же, смешавшиеся с сирийским и греческим языческим элементом, которых удерживало в связи с Иудеею только могущество Иродов. После смерти Ирода Великого Перея перешла под власть Ирода Антипы вместе с Галилеею и разделила впоследствии ее судьбу; северная же часть восточноиорданской страны составила область Филиппа, а позже перешла в собственность Агриппы.
Итак, вот та земля и тот народ, среди которого возрос и проживал Господь наш Иисус Христос. Таким образом, если Рим был средоточным пунктом тогдашнего всемирного политического господства, то Палестина была тою страною, из которой должна была выйти религиозная сила, чтобы победить весь мир и покорить его Единому истинному Богу. В описываемое нами время в политическом отношении она находилась в зависимости от Рима, верховной власти которого были подчинены ее вассальные цари и народоправители, пока она не перешла под его непосредственное владычество и пока, наконец, римским мечом у нее не была отнята и та призрачная самостоятельность, которою она пользовалась при Иродах. Но политическое положение Палестины имело весьма сильное влияние на развитие ее народной жизни во всех отношениях. А потому мы, прежде всего, и обратим свое внимание именно на политическое состояние Палестины, причем, однако же, для более ясного уразумения положения и судьбы иудейского народа ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, мы должны будем сделать некоторое отступление.
ГЛАВА II.
Правители Палестины
После смерти Александра Македонского (в 323 г. до Р. X.) Палестина до 203 года оставалась под мирным и кротким правлением слабых и бесхарактерных Птолемеев. Но с тех пор, как при Антиохе Великом сирийцы захватили эту страну себе, иудейский народ подпал под жестокое и невыносимое иго фанатических язычников. Антиох Великий был, впрочем, сравнительно еще довольно кроток и не причинял иудеям особенного зла; но уже Селевк Филопатор († 175 г. до Р. X.) стал постоянно грабить и угнетать иудеев; так, между прочим, он приказал разграбить Иерусалимский храм и доставить ему из него все деньги и сокровища. Еще деспотичнее и бесчеловечнее поступал с иудеями Антиох Епифан (в 164 г. до Р. X.); он употреблял все средства неслыханной жестокости, чтобы принудить их отказаться от своей религии и вместо нее принять греческое язычество. При таком безвыходном положении и угнетении иудейский священник Маттафия, происходивший из рода Асмонеев, а вместе с ним пять его храбрых сыновей и довольно значительное число их единомышленников решились взяться за оружие и восстать на врага, чтобы низложить его. После смерти старика-отца (166 г. до Р. X) старшему сыну Маттафии, Иуде Маккавею[35], быстрым победоносным натиском удалось вытеснить сирийцев из Иерусалима и снова восстановить в храме Иеговы истинное богослужение. После нескольких случаев переменного счастия в сражениях и после смерти Иуды († 160 г. до Р. X.) и Ионафана († в 143 г.) третий брат их Симон (в 141 г.), в конце концов, получил возможность занять все еще находившуюся во владении сирийцев гору Сион и даровать своему несчастному народу полную религиозную и политическую свободу. Народ в благодарность Маккавеям за их заслуги в 140 году до Р. X. соединил с их родом наследственное царское и первосвященническое достоинства, «пока Бог не пошлет им верного Пророка» (1 Мак. 14:41). После умерщвления Симона (в 135 г. до Р. X.) ему наследовал сын его Иоанн Гиркан (135–105 гг., до Р. X.), который стал не только государем совершенно независимым от Сирии, но завоеванием Идумеи и Самарии еще значительно расширил иудейскую область и даже приобрел уважение к ней соседних народов. Сын и наследник его Аристовул I (105–104 гг.), хотя и принял титул царя, но, тем не менее, не мог следовать политике своих предков и поддержать могущество и самостоятельность Иудеи; с его царствования начинается падение иудейского государства. Дух первых Маккавеев исчез; внутренние распри и междоусобия, светская распущенность царского двора и народа, войны с соседними государствами и кочевыми народами истощали страну и вели постепенно иудеев к совершенному падению. Когда, после бурного и беспокойного царствования Александра Ианнея (104–78 гг.) и его супруги Александры (78–69), два сына их, Аристовул II († 49 г. до Р. X.) и Гиркан II († 30 г. до Р. X.), достойные внуки Аристовула I, стали спорить между собою за право на царскую власть и границы областей; оба они решили отправить посольство к римскому полководцу Помпею, находившемуся тогда в Дамаске, и просили его рассудить их дело и покончить спор. Помпей охотно принял это предложение и даже пообещал ради лучшего исследования истины лично прийти в Иерусалим. Опасаясь неприятного для себя исхода, бесхарактерный Аристовул стал готовиться, однако же, к сопротивлению. Но Помпей, воспользовавшись субботой, легко овладел Иерусалимом, разрушил его стены и вошел в самый храм; впрочем, сокровища храма он оставил нетронутыми и даже заботился о том, чтобы не было нарушено продолжение богослужения. Слабого Гиркана он назначил иудейским первосвященником и вместе князем – данником Рима, без царского, однако же, титула, но почти с царскою властию над всею крайне возбужденною им иудейскою страною; Аристовула же в 61 году до Р. X. он взял с собою в Рим для увеличения торжественности своего триумфа. С этого времени Иудейское царство уже навсегда лишилось своей политической свободы и самостоятельности; страна Маккавеев стала вассальным государством наряду с другими и всецело подчинилась несокрушимому владычеству государства римского. После немногих лет спокойствия злосчастная Иудея еще несколько раз была приводима в волнение различными претендентами на престол Давида, как, например, сыном Аристовула Александром, самим Аристовулом и другим его сыном Антигоном. Но их стремления захватить в свои руки власть над Палестиной были, впрочем, напрасны. Правда, в это время титул первосвященника и князя носил еще слабый и бесхарактерный Гиркан (63–40 г. до Р. X.); но в действительности управление страною мало-помалу сумел захватить в свои руки умный и деятельный идумеянин Антипатр. Сам Цезарь высоко ценил его ум и заслуги, предпочитая его самому Гиркану; и передав ему, наконец, даже почти все управление с титулом прокуратора Иудеи (в 47 г.). Для Антипатра этого было совершенно достаточно, чтобы закрепить не только за собою, но и за своим потомством фактическое управление Палестиною. Вскоре после своего утверждения в звании прокуратора он назначил сыновей своих Фасаила и Ирода наместниками Иудеи и Галилеи. Когда затем Цезарь, умевший различными привилегиями расположить к себе иудеев и приобрести их привязанность, в 44 г. был умерщвлен, а вскоре за ним убит был и Антипатр (в 43 г. до Р. X.), сыновья последнего стали на сторону Кассия, а после его смерти (в 42 г.) перешли на сторону Антония, за что и были им возведены в звание тетрархов Иудеи. К несчастию, однако же, иудеев, теперь заговорил смело о своих правах на царскую власть также и младший сын Аристовула II Антигон; мало того, он даже явился в Палестину во главе многочисленного парфянского войска. Испуганный, но хитрый Ирод сумел спастись лишь бегством; что же касается Гиркана и Фасаила, то они достались в руки победителя. Первому отрезали уши, чтобы он не мог быть более первосвященником, а последний сам размозжил себе голову о стену своей темницы. Так Антигон достиг своего владычества над Палестиной (40–37 гг.). Но во все время непродолжительного правления его Ирод также не сидел, сложа руки. Убежав из Палестины, он прямо отправился в Рим и обратился непосредственно к самому Антонию, жалуясь ему на свои невзгоды и злоключения. В Риме его поддерживали многие сановники и сенаторы, имевшие влияние на самого Антония. И вот в это время благодаря своим проискам и покровительству знатнейших римлян Ирод был провозглашен римским сенатом, с согласия Антония и Октавиана, «царем иудейским» (в 40 г.). После этого он отправился уже в Палестину и без особенных усилий занял Галилею; но не так легко было для него захватить в свои руки управление Иудеей; Иерусалим он завоевал только с помощью римлян в 37 году и лишь после этого фактически приобрел власть над всею Палестиною. Антигон, по приказанию Антония, был умерщвлен в Антиохии топором (в 37 г. до Р. X.). Ирод, наделенный эпитетом «Великого», был царем иудейской страны от 37 до 2-го года христианского времяисчисления. При нем родился Иисус Христос (Мф. 2:1). Первые годы своего правления он посвятил исключительно на обеспечение и усиление своей власти среди иудеев. Иудейский народ принужден был терпеть его против своей воли как полуиностранного государя, который был навязан ему лишь военною силою римлян; но больше всего были возбуждены против него фарисеи. Эту ненависть иудейского народа, впрочем, поддерживал и сам Ирод своими невыносимыми жестокостями. Он не страшился кровавых сцен и уже вскоре после вступления своего на престол приказал казнить сорок пять знатнейших граждан Иерусалима. Не много он извлек для себя выгоды из того, что различными благодеяниями снискал себе среди народа некоторых приверженцев. Характера своего он изменить не мог. Наиболее ужасными из его злодеяний в первое время его царствования были, без сомнения, зверские умерщвления его собственных родственников, – чрез что был уничтожен и последний остаток Асмонеев. Начало этим убийствам положила смерть Аристовула. Так как возвратившийся с отрезанными ушами из парфянского плена Гиркан вследствие своего физического недостатка не мог быть уже более первосвященником, то Ирод возвел в это достоинство известного Ананела, принадлежавшего к одной незначительной священнической фамилии. Но Александра, мать жены Иродовой Мариамны, настояла на том, чтобы первосвященническое звание, по древнему наследственному праву, было отнято у Ананела и передано сыну ее, Аристовулу, внуку бывшего первосвященника Гиркана. Потом, – когда в ближайший праздник кущей семнадцатилетний первосвященник Аристовул вышел к народу в полном и блистательном первосвященническом облачении и с энтузиазмом был приветствован радостными криками толпы, – Ирод увидел в нем своего опасного соперника, – и с тех пор насильственная смерть его стала делом решенным. Спустя после этого лишь несколько дней царь и первосвященник были в Иерихоне в гостях у Александры. Когда вместе с друзьями Аристовул после обеда вздумал купаться, друзья и клевреты Иродовы схватили и держали его, как они говорили, в шутку, под водою до тех пор, пока он не утонул. На суде пред Антонием Ирод, однако же, был оправдан по этому делу. Такая безнаказанность совершенно развязала руки Ирода; нечего было ему более маскировать своих зверских инстинктов. И такая перемена произошла с ним скорее, чем можно было предполагать. Так, – едва он возвратился из Рима, как приказал казнить зятя своего Иосифа, не выслушав даже его, и безрассудно обвинив его в непозволительном (будто бы) обращении с Мариамною, своею супругою. Не пощадил он также (в 30 г. до Р. X.) и восьмидесятилетнего, совершенно безопасного старика Гиркана; даже горячо любимая им жена его Мариамна сделалась жертвою его безумного гнева (в 29 г.). После нее была умерщвлена им (в 28 г.) и его теща Александра. А когда он, наконец, нашел (в 25 г. до Р. X.) укрывающимися у зятя своего Костовара, мужа сестры его Саломии, давным-давно (более десяти лет) тщетно разыскиваемых сыновей Вавиных, отдаленных родственников дома Асмонеев, он тотчас приказал казнить их вместе с их покровителем. Только теперь Ирод мог вздохнуть свободно и продолжать безбоязненно свое правление; лишить его трона уже не мог ни один Асмоней.
Но на самом деле Ирод далеко не достиг того покоя, которого желал. К его домашним бедствиям присоединилась еще неприятность и извне. Если не родственникам своим, то египетской царице Клеопатре, под неотразимым влиянием которой находился благодетель Ирода Антоний, он должен был уступить прекраснейшую часть своего царства – плодородную и роскошную местность Иерихона. Мало того, – с этой потерянной провинции он должен был еще сам собирать подати и отправлять их к гордой царице. В дополнение ко всему этому Клеопатра впутала его и в тяжелую войну с аравитянами, из которой он, однако же, мог выйти победителем только после многих неудач и несчастий (в 31 г. до Р. X.).
Наконец, Ирод был поставлен в самое трудное положение, когда в сражении при Акциуме (в 31 г.) Антоний был совершенно побежден и затем попал в руки всесильного и бессердечного Октавиана. Тем не менее со свойственною Ироду пронырливостию и изворотливостию он сумел с успехом выбраться из беды. Он отправился на остров Род, чтобы лично засвидетельствовать покорность своему новому повелителю и таким образом успел обратить Октавиана из врага в своего друга и благодетеля. Дело кончилось тем, что Ирод не только был подтвержден первым римским императором в своем царском достоинстве, но и добился расширения своей области в западной части Палестины, снова получив в дар уступленную пред тем Клеопатре Иерихонскую местность, а вместе с ней и утраченные еще с 63 года приморские города иудейского царства – Газу и даже Кесарию, а внутри страны – Самарию, Гадару и Иппон. Таким образом, после произведенного в этот раз округления и расширения страны границы Иудеи при Ироде простирались далее, чем когда-либо прежде или после, – от Средиземного моря до Сирии, от Дамаска до Египта.
Ирод стоял теперь на высоте своего могущества. Годы 25-13 до Р. X., можно сказать, были временем процветания и внешнего спокойствия для Иудейского царства. Этим-то временем Ирод и воспользовался, с одной стороны, для того, чтобы сохранить и усилить к себе благоволение Октавиана Августа, а с другой стороны, и для того, чтобы в некоторой степени идти по его стопам и, подобно ему, совершать дела мира, заниматься внутренним благоустройством, украшением и возвеличиванием своего государства. Действительно, рядом блестящих и роскошных строений Ирод воспроизвел и в Палестине век Августовский. В Иерусалиме, в который до того времени иудеев привлекали только жертвы и молитвы, приносимые в храме, он устроил обширный и роскошный театр, а за городом – необычайных размеров амфитеатр; ввел военные игры в честь императора; римские гладиаторы, правители колесниц, всевозможные актеры наполняли город, посвященный единому истинному Богу; дикие звери и свирепые животные усиливали торжественность праздничных состязаний. Затем, Ирод укрепил, расширил и украсил замок Антонию и устроил еще новый великолепный дворец для себя у западной стороны самого храма. Но построениями иерусалимских зданий еще далеко не ограничивалась деятельность Ирода; немало он занимался также устроением и других городов Палестины. Так, древнюю Самарию он обратил почти в неприступную крепость, украсил ее великолепным языческим храмом и затем в честь Октавиана назвал ее греческим именем Севастии, однозначащим с латинским – Августа. Равным образом с той же целью угождения римскому императору после двенадцатилетних усиленных работ он перестроил Стратонову башню при Средиземном море в красивый приморский город с величественной и обширной гаванью и назвал его Кесарией. Здесь также не было недостатка в театре и амфитеатре, языческих храмах и статуях императора. Многие другие места Палестины также обязаны Ироду своим происхождением, расширением или укреплением. Даже в чужих странах на его счет были производимы величественные здания, галереи, театры, водопроводы (как, например, в Дамаске, Сидоне, Антиохии и Греции) или, по крайней мере, на устроение, восстановление и украшение их он много жертвовал из своих средств. Но больше всех зданий как в Палестине, так и за ее пределами, стоил Ироду возобновленный им храм Иерусалимский (Ин. 2:20), на который он не жалел ни средств, ни хлопот, ни рабочих рук и в сравнении с которым прежний Зоровавелевский и даже Соломоновский храмы могли казаться бедными и незначительными.
Тысячи священников, обученных строительному искусству, без устали трудились над этим святилищем (с 20 по 19 гг.). Благодаря таким усиленным работам и заботливости Ирода спустя около двух лет храм был отделан внутри уже настолько, что в нем без помехи могло быть совершаемо богослужение, а спустя еще восемь лет были окончены уже и внешние ходы, устроенные на столбах, и даже обширные крытые галереи. Обновленный храм Иеговы был освящен с большой торжественностию к невыразимой радости всего Израиля. Великолепие возобновленного Иродом храма Иерусалимского, над которым, впрочем, продолжали работать еще и потом, в течение нескольких десятилетий (Ин. 2:20), даже почти до разрушения города и падения самого храма, было слишком велико и поразительно. Поэтому иудеи говорили совершенно справедливо: «Кто не видел строений Ирода, тот никогда не видел ничего прекрасного!» Блеск и внешняя пышность царствования Ирода явно подкупали Августа и приобрели царю высокое благоволение императора. В иных отношениях стоял Ирод к своему собственному народу. Несмотря на произведенное им возобновление дома Божия и другие его благодеяния для иудейского народа, он, однако же, никогда не мог достигнуть искренней преданности своих иудейских подданных. Его владычество над Палестиной иудеи терпели только поневоле, с глубоким отвращением и ненавистью к нему в душе. Они хорошо знали не только то, что расходы по его роскошным постройкам покрывали именно они одни и притом слишком высокой ценой, тяжелыми жертвами, но вместе с тем они ясно видели еще и то, что этими тяжелыми жертвами для страны кроме зла ничего не приобреталось, что предпринятые Иродом нововведения угрожали только чистоте древнеотеческих обычаев их, а его постройки, служившие лишь одним языческим целям, угрожали древней национальной религии. Вследствие этого все и повсюду проживавшие иудеи были крайне недовольны Иродом и роптали на него; роптали на введение в Палестине чуждых языческих обычаев, на отвержение и изменение старинных порядков, на произвольное назначение и низложение первосвященников, на небывалые и неслыханные налоги, на растрату государственной казны и доходов как в стране, так и за границей, на бессердечную жестокость царя к своим родственникам и противникам. Ирод прекрасно знал и ни от кого не скрывал, что он совершенно не пользуется любовью своего народа. Вследствие этого его постоянно окружали многочисленные телохранители; шпионы всегда и повсюду рыскали по стране и доносили ему о каждом замеченном ими среди иудеев враждебном движении против него; для обуздания народа как в Иерусалиме, так и вне его им были воздвигнуты сильные, почти неприступные крепости; недовольных и подозрительных без всякого суда заключали в темницы и затем в огромном количестве предавали смертной казни. Что было пользы в том, что однажды, во время постигшего Палестину голода, Ирод доставал хлеб из Египта и разделял его между неимущими, а в другой раз был вынужден даже сложить с народа подати? Правда, на некоторое время ему удалось уменьшить недовольство народа и заслужить его благодарность; но скоро все стало по прежнему: снова возвратилось враждебное настроение народа против него и даже открыты были весьма серьезные заговоры: как, например, в 25 году, когда лишь изменник спас царя от кинжалов заговорщиков.
Безумная раздражительность и безграничная жестокость, какими отличались только немногие из тиранов, были обнаружены Иродом особенно в последнее десятилетие его царствования. Под гнетом его власти и тирании страдал не только весь народ иудейский, но и собственное семейство его в особенности. Последними жертвами маккавейской фамилии для состарившегося тирана были его собственные сыновья – Александр и Аристовул, дети жены его Мариамны. Антипатр, старший сын его от его первой жены Дориды, оклеветал своих сводных братьев, будто бы они хотели мстить Ироду за смерть своей матери. Ирод был слишком подозрителен, чтобы не дать веры злым речам Антипатра и лживым доносам нанятых придворных, которые, чтобы выслужиться перед царем, всегда умели сообщить ему что-либо новое. Обвинения и примирения чередовались попеременно: однако клевета и доносы не прекращались в царском дворце и потому концом этой трагедии было задушение Александра и Аристовула в Севастии (в 7 г. до Р. X.), в том самом месте, где тридцать два года тому назад Ирод и Мариамна праздновали свою свадьбу. Тогда даже Август, зная любовь Ирода к свиньям, и видя жестокость его к сыновьям, вынужден был сказать: «Лучше быть у Ирода свиньей, чем его сыном».
Многие из знатных иудеев, заподозренных в чем-либо Иродом или его клевретами, также должны были навсегда распрощаться со своею жизнью. Так, по приказанию Ирода, было умерщвлено однажды весьма значительное число фарисеев, составивших вместе с некоторыми придворными сановниками заговор с целью свергнуть Ирода с престола и вместо него возвести брата его Ферору. Два книжника, которые, легкомысленно поверив известию о кончине серьезно заболевшего царя, при посредстве своих учеников, уничтожили поставленного Иродом в храме золотого орла, были сожжены на кострах, а ученики их казнены без всякого суда. К числу таких же злодеяний Ирода в последнее десятилетие его царствования нужно отнести и избиение вифлеемских младенцев (Мф. 2:16–18), о котором хотя нигде в других памятниках в частности и не упоминается, но которое, однако же, не подлежит никакому сомнению, теряясь между злодеяниями Ирода как капля в море. Наконец, и клеветник Антипатр, не остановившийся пред решением – отравить своего отца, разделил вполне заслуженную им судьбу своих сводных братьев. Болезнь Ирода, не поддававшаяся никакому лечению, быстро усиливалась. Но, тем не менее, в Иерусалиме по-прежнему все дрожало пред повелениями беснующегося, умирающего царя, который на конце жизни своей захотел еще безумно пролить совершенно невинную кровь знатнейших иудеев, для того чтобы при погребении своем вызвать, по крайней мере, слезы скорби и гнева, так как он не мог надеяться на слезы участия и сожаления. Только смерть тирана, последовавшая пять дней спустя после смерти Антипатра, и нерешительность его душеприказчиков освободили народ от ужаснейшего страха. По словам Флавия, если бы самому лютому зверю было поручено управление людьми, то и он был бы добрее Ирода. Но так думал об Ироде не один только Флавий, а и все его соплеменники-иудеи. Ирод умер семидесятилетним стариком от разложения соков, доходившего до полного гниения, в первых числах апреля 1-й или во 2-й год христианского времяисчисления.
Бесспорно, в Ироде нельзя не признать многих положительных достоинств народоправителя: его обширного ума, его энергии и храбрости, его железной воли, твердости, настойчивости и последовательности проведения в жизнь предначертанных планов; нельзя не видеть в нем и некоторой заботливости о благе иудейского народа, проявлявшейся особенно во времена крайней нужды и побудившей его однажды ходатайствовать пред Августом даже за иудеев рассеяния. Своею энергиею он сумел положить конец разбоям и хищничествам в восточной части Палестины; его строительные затеи и предприятия имели в виду вместе с прекрасным также и полезное; в своей политике он обнаружил великий практический ум, удивительную дипломатическую ловкость и меткий взгляд на истинное положение дел, – что давало ему возможность пролагать себе путь почти всегда для него выгодный и благоприятный. Но если за свои дарования и достигнутые политические успехи Ирод мог приобрести себе имя «Великого» в хорошем смысле, то, с другой стороны, он должен быть назван и злодейски великим за свое чрезмерное честолюбие и властолюбие, бессердечно преследовавшее раз намеченную цель, – за свое тиранство над сановниками, народом и собственным семейством, – за свою безграничную подозрительность ко всем и всему, знатным и незнатным, богатым и бедным, врагам и друзьям, а в особенности к своим кровным родственникам, – за свою беспощадную ярость и лютое бешенство в отношении к своим противникам и за свои либеральные, тяготевшие к язычеству воззрения, которые были слишком далеки от истинной и действительной религиозности. Только к уяснению, но не к извинению может послужить указание на всеобщее невежество того времени и заразительный пример Рима, на критическое положение Иудейского царства и на отсутствие твердых нравственных связей среди членов семейства Иродова, а относительно жестокостей и злодеяний последнего десятилетия царствования Ирода – на его старческий возраст и его невыносимые страдания от ужасной болезни.
После себя Ирод оставил духовное завещание, в котором определенно было указано на то, кто должен был ему наследовать царский престол и каким образом после его смерти должно быть поставлено вообще управление Палестиною. Тем не менее завещание Ирода могло войти в силу лишь после народного возмущения, междоусобия и кровопролития. По этому завещанию, сын Ирода Архелай, вместе со званием этнарха, или народоначальника, в котором он был утвержден римским императором, получил в свое управление Иудею, Самарию и Идумею, брат его Ирод Антипа – в звании тетрарха (четверовластника) – Галилею и Перею, а другой брат Архелая – Филипп – также в звании тетрарха – остальные, лежащие на север, восточно-иорданские земли Палестины.
Архелай, родившийся около 21 года до Р. X., испорченный легкомысленным воспитанием, полученным в Риме, деспотический, высокомерный, несправедливый и расточительный человек, развращенный и безнравственный, руководившийся в своих действиях только чувственными побуждениями и произволом, способный на всякого рода притеснения и бесчеловечный, управлял доставшимися ему странами из Иерихона от 2-го по 12-й год по Р. X. Большой соблазн среди своих подданных он произвел в особенности тем, что прогнал от себя жену свою Мариамну, дабы жениться на Глафире, ветреной вдове своего казненного брата Александра. В жестокостях, деспотизме и произволе Архелай почти не уступал своему отцу. Произвольно, как и отец, он назначал и низлагал первосвященников и совершенно пренебрегал древними национальными иудейскими обычаями и нравами. Каждый год его правления был богат несправедливостями всякого рода. Вследствие этого выведенные из терпения иудеи обратились с жалобой на него к императору. Император потребовал его в десятый год его правления в Рим к ответу и затем, после разбора дела, сослал его (в 12 г. по Р. X.) в Виенну в Галлии; имущество его было отобрано в казну, а его страна причислена к Сирийской провинции.
После этого Иудеею стали управлять уже римские прокураторы (в русском переводе Библии – «правители» Мф. 27:2, 11, 14, 21, 23, 27), которые были подчинены императорскому наместнику Сирии. Прокураторы были главными начальниками над находившимися в Палестине римскими войсками; кроме этого, в их руках находилось и финансовое управление всей области; наконец, они заведовали также судебной частью (хотя и не безусловно, – именно в религиозных делах право суда было предоставлено иерусалимскому синедриону) и произносили смертный приговор или утверждали таковой, когда он был произнесен синедрионом (Ин. 18:31)[36]. Местожительство их обыкновенно было в Кесарии (Деян. 23–25)[37]; тем не менее на великие праздники они отправлялись и в главный город Палестины для того, чтобы принять там меры предосторожности, в виду большого стечения народа, и там все время праздников проживали они в бывшем дворце Ирода или в претории (Мф. 27:27; Мк. 15:16; Ин. 18:28 и др.).
Семи прокураторов, управлявших Иудеей от 12-го по 41-й год по Р. X., мы знаем большей частью только одни имена. За Копонием (около 12-16 гг.), как первым прокуратором Иудеи, следовали: Марк Амбивий (приблизительно до 18-го года по Р. X.), Анний Руф (до 19 г.), Валерий Грат (19–26 г.), Понтий Пилат (26–36 г.), Маркелл (36–37 г.) и Марулл (37–41 г.). Вскоре после того, как Иудея была подчинена уже непосредственно управлению самих римлян, Квириний, бывший во время прокураторства Копония наместником Сирии, задумал произвести в Палестине перепись, которая имела своим следствием восстание еврейского народа под предводительством Иуды Гавланитиды, или Галалеянина (Деян. 5:37). С этого времени среди иудеев начала развиваться и патриотическая партия «ревнителей», или «зилотов»[38], поставившая своей исключительной задачей борьбу с Римом за независимость и свободу своего отечества[39]. Из иудейских прокураторов Понтий Пилат – самый известный и имеющий наиболее значения для христиан. Это – тот самый Пилат, в прокураторство которого явился на Иордан с проповедью покаяния Иоанн Креститель (Лк. 3:1) и при котором совершил дело своего общественного служения и безвинно претерпел крестную смерть Господь наш Иисус Христос (Мф. 27; Мк. 15; Лк. 23; Ин. 18; 1 Тим. 6:13). У Филона[40] он изображается как человек «непреклонного и беспощадно жестокого характера»; кроме того, Филон делает ему еще упрек за его «продажность, насилие, разбои, злоупотребления, поругания, многочисленные казни без судебного приговора, бесконечные и невыносимые жестокости». В общем, в этой характеристике, бесспорно, заключается много истины. В евангельских повествованиях Пилат также характеризуется весьма непривлекательными чертами: он является непоследовательным, бесхарактерным, трусливым, суеверным и несправедливым. Из истории его служебной деятельности нам, между прочим, известно, что он тотчас при своем вступлении в звание прокуратора всей Палестины возбудил негодование иудейского народа тем, что приказал гарнизону войти в Иерусалим с римскими знаменами, на которых находилось поясное изображение императора. Народ по целым суткам осаждал его просьбами удалить из Иерусалима эти языческие знамена, и когда Пилат ничего не мог поделать с народом, выставив против него даже свои войска, он к своей досаде увидел себя вынужденным уступить, наконец, желанию иудеев[41]. Кроме того, по свидетельству евангелиста Луки (13:1), Пилат приказал однажды изрубить галилеян даже во время совершения богослужения и их жертвоприношений в храме Иерусалимском. Далее, – евангелисты Марк (15:7) и Лука (23:19), при повествовании об освобождении Вараввы, упоминают даже о возмущении и убийстве, бывших в прокураторство Пилата, но, к сожалению, мы не имеем об этом более подробных сведений. Впоследствии прокуратор Пилат еще раз стремился оскорбить иудеев постановкой в Иерусалиме своих языческих священных изображений, на которых было написано имя императора; но, по просьбе знатнейших жителей Иерусалима, император Тиберий велел удалить эти изображения из иудейского главного города и поставить их в Кесарии[42]. Наконец, когда Пилат поступил слишком жестоко и беспощадно также и с самарянами, собравшимися на горе Гаризим, где они тщетно хотели увидеть священные сосуды храма, сокрытые будто бы там еще со времен Моисея[43], и часть присутствовавших даже умертвил; – самаряне принесли жалобу на него тогдашнему сирийскому наместнику Люцию Вителлию и выхлопотали, к неописанной радости всех жителей Палестины, удаление Пилата от его прокураторской должности.
Нет никакой надобности касаться здесь деятельности других иудейских прокураторов, не имевших никакого значения для евангельской истории. Поэтому переходим к наследникам Ирода, управлявшим частями Палестины вне Иудеи.
Филипп, другой сын Ирода Великого (от 2-го до 34 года по Р. X.), четверовластвовавший над северо-восточной областью Палестины, Батанеею, Трахонитидою, Аврантидою, Гавлонитидою, Паниею и Итуреею (Лк. 3:1), был почти одних лет с Архелаем, но в нравственном отношении стоял гораздо выше своих братьев – и Архелая, и Ирода Антипы. Правление его, как свидетельствует Флавий, было тихим и мирным до самой его смерти. Из дел его по благоустроению своей области нельзя не указать на то, что он расширил и украсил город Панеаду при реке Ливане и назвал ее Кесариею, которая известна нам более под именем «Кесарии Филипповой» и в которую однажды, по повествованию евангелистов (Мф. 16:13; Мк. 8:27), приходил Господь наш Иисус Христос; кроме того, деревню Вифсаиду на северо-восток от Геннисаретского озера Филипп преобразовал в город Юлию (Лк. 9:10), назвав ее так в честь знаменитой по своему крайнему распутству дочери Октавиана – Юлии. Вообще же, нужно сказать, что Филипп всегда и с полной преданностию заботился об интересах своей провинции и управлял ею так кротко и справедливо, что о восстаниях и недовольстве среди ее жителей в его правление не могло быть и речи. Его частная жизнь также отличалась большою скромностию и простотою. Он был женат на Саломии, дочери Иродии, но много скорбел о том, что не имел от нее детей и не надеялся оставить после себя никакого потомства. Филипп умер в 34 году по Р. X. в Юлии, где и был погребен со всеми знаками народного уважения, любви и преданности. Страна его, как и страна Архелая, была впоследствии причислена к Сирийской провинции.
Третий сын Ирода Великого Ирод Антипа, четверовластник Галилеи и Переи (от 2-го года до 39 г. по Р. X.), в новозаветных писаниях часто называемый просто Иродом (Мф. 14:1; Лк. 3:19; 23:7 и др.), управлявший родиной Иисуса Христа (Лк. 23:7), почти во всех отношениях был истинным наследником отца своего – Ирода Великого: честолюбив, умен, хитер, пронырлив, властолюбив, деспотичен, любивший пышность и расточительность, хотя и не имевший в равной степени силы воли и твердости характера своего отца. Иисус Христос называет его (Лк. 13:32) за его хитрость и пронырливость «лисою» и предостерегает от него иудеев как от «закваски», употребляя это слово, очевидно, не в благоприятном для Ирода смысле (Мк. 8:15). Подобно отцу своему, Ирод Антипа также искал своей славы в грандиозных и роскошных строениях; так, он снова восстановил и притом в гораздо больших размерах сожженный воинами Вара главный город Галилеи – Сепфорис; для защиты Переи он укрепил Вифарамфу и назвал ее Ливиею, или Юлиадою (в честь жены кесаревой); в честь нового римского императора Тиберия он основал вновь главный город Галилеи – Тивериаду на западном берегу Геннисаретского озера – и, дабы приобрести благоволение императора, самое это озеро переименовал в «Тивериаду». Во время праздников иудейских он, по-видимому, часто проживал в Иерусалиме (Лк. 23:7) и там мог принять живое участие в жалобе иудеев на Пилата римскому императору. По своей нравственной распущенности Антипа был, кажется, ниже даже и самого отца своего. Имея более пятидесяти лет от роду и посетив однажды проживавшего в Риме сводного брата своего Ирода[44], он в его же собственном доме соблазнил его законную жену, красивую и честолюбивую Иродиаду, дочь казненного Аристовула, хотя она уже давным-давно была матерью Саломии, впоследствии жены четверовластника Филиппа, и была женщина довольно пожилая (имела уже более сорока лет от роду). Чтобы жениться на ней, он хотел прогнать свою, уже давно взятую им, жену – дочь арабского царя Ареты; но последняя еще раньше, как только узнала о неверности своего мужа, сама ушла к своему отцу. Безнравственный поступок Антипы не остался без прискорбных последствий и тяжелых жертв. Иоанн Креститель, безбоязненно порицавший за него Антипу, говоря: «Несправедливо, что ты имеешь жену брата своего!» – как известно, первый стал жертвой мстительной Иродиады, сложив на плахе свою голову в мрачной темнице Махеронской крепости.
Сам Ирод Антипа, впрочем, весьма уважал Иоанна Крестителя как великого пророка, строгого аскета и сурового проповедника всеобщего покаяния. Он боялся его даже и после усекновения главы его. Между прочим, известно, что когда Ирод Антипа услышал в Галилее об Иисусе Христе, Его учении и сверхъестественных действиях, он принял Его за воскресшего Крестителя (Мф. 14:1) и пожелал взглянуть на Него (Лк. 9:9), хотя вскоре за этим и старался уже как-нибудь тайно умертвить Его (Лк. 13:31). Но воле Божией неблагоугодно было, чтобы этот злодейский замысел был приведен в исполнение: только, когда Пилат, увертываясь от давления толпы и желая отклонить от себя пролитие неповинной крови, отослал Иисуса Христа к Антипе как его четверовластнику для осуждения, этот последний в первый раз в жизни, наконец, лично увидел Его (Лк. 23:8). Подобно отцу своему Антипа был крайне нелюбим своими подданными. Впрочем, справедливость требует сказать, что среди иудеев он имел на своей стороне и некоторое число приверженцев. В Св. Писании Нового Завета мы встречаем иногда упоминание об «иродианах» (Мф. 22:16; Мк. 3:6), под которыми следует разуметь не одних только «слуг Ирода», как слишком узко перевел это слово Лютер, но, как называет их Иосиф Флавий[45], также и «тех, которые поддерживали дело Ирода». Вместе с Иродом они – по крайней мере, внешним образом – ставили себя на сторону римского императора и старались казаться расположенными к римлянам, «друзьями» их. Отсюда ясно, почему именно иродиане предложили Господу вопрос, – справедливо ли платить дань кесарю или нет, – вопрос, который, как им казалось, должен был вызвать у Него враждебный римлянам ответ (Мк. 12:13). В последние годы царствования Тиберия Ирод Антипа вступил в весьма тяжелую для него борьбу с арабским царем Аретою[46] из-за определения границ и, в особенности из-за поведения Ирода и оскорбления, нанесенного им прежней жене своей, дочери Ареты. Война кончилась совершенным поражением Антипы, – и еврейский народ, по свидетельству Флавия, видел в этом поражении справедливое наказание для Ирода Антипы за его неверность своей жене и злодейское умерщвление Иоанна Крестителя.
Но Антипу ожидало еще большее несчастье. В то время как он вел борьбу с Аретой и своим поведением раздражал римское правительство, Агриппа I, брат Иродиады, сын умерщвленного Аристовула, проживая в Риме, сумел стать в самые дружественные отношения к императору Калигуле, – и царственный покровитель, в засвидетельствование своего благоволения к нему и дружбы, предоставил ему в Палестине владения умершего четверовластника Филиппа и даже даровал ему титул царя. Честолюбие Антипы было сильно задето. Побуждаемый своею честолюбивою женою, он также стал просить для себя у императора царского титула; но против этой просьбы энергично восстал Агриппа и начал доносами чернить своего соперника в глазах римского правительства; доносы его в Риме были признаны достаточными для того, чтобы Ирода Антипу обвинить, как бунтовщика и непокорного вассала. Таким образом, вместо получения царской короны Ироду Антипе пришлось отправиться в ссылку в Лугдун в Галлии, куда последовала за ним и его жена – Иродиада.
После низложения Ирода Антипы Агриппа I к своим восточным владениям теперь присоединил еще и его тетрархию – Галилею и Перею (в 40 г. по Р. X.), а императором Клавдием, при его вступлении на престол (в 41 г.), кроме того, были предоставлены Агриппе еще и управлявшиеся до тех пор римскими прокураторами Иудея и Самария. Таким образом, только Агриппе снова удалось объединить под одною своею властью (в 41–44 гг. по Р. X.) все области Ирода Великого. Такое неожиданное счастие имело большое влияние на Агриппу и произвело радикальное изменение как в его частной жизни, так и в управлении Палестиною. Прежде он проводил самую разгульную жизнь, полную всякого рода приключений и безобразий, ничем не отличаясь от языческих римлян, жил, одним словом, так, как жили тогда почти все римские сановники; но теперь, в годы своего управления Палестиною, он, напротив, отличался строгою внешнею набожностию, как самый истый иудей того времени, открытой благотворительностию, соблюдением всех фарисейских постановлений и общедоступностию. Пред иудейским народом он даже гордился своими строгими национально-иудейскими воззрениями и убеждениями. Ради угождения иудейскому народу он стал преследователем и юного общества христиан. Между прочим, при нем претерпел мученическую смерть св. апостол Иаков Старший (Деян. 12:1 и далее), а апостол Петр был ввержен в темницу, из которой он освободился только благодаря сверхъестественной помощи (Деян. 12:3 и далее). После непродолжительного своего царствования над всеми палестинскими провинциями царь Агриппа I скоропостижно умер (в 44 г. по Р. X.) в Кесарии во время торжественных игр, совершавшихся в честь римского императора, на которых он приказал оказывать себе божеские почести (Деян. 12:19 и далее)[47].
После смерти царя Агриппы I вся страна его как римская провинция снова подчинена была непосредственно власти римских прокураторов, которые, в свою очередь, находились в полной зависимости от власти сирийских наместников. Из них наиболее известны и заслуживают упоминания два: Антоний Феликс (52–60г.) и Порций Фест (60–62 г.), пред ними иудеи и обвиняли св. апостола Павла (Деян. 24). Только в 50 году Палестина снова переходит в управление потомка Ирода Великого: сын Агриппы I-го, Агриппа II-й, получил в свое управление небольшую область – Халкиду на Ливане, а в 53 году, с титулом царя, прежнюю область четверовластника Филиппа, к которым в царствование императора Нерона была присоединена еще часть Переи и Галилеи, именно Тивериада. Из книги апостольских Деяний мы знаем, что явившись однажды вместе с сестрой своей Вереникой в Кесарию Палестинскую с поклоном к Фесту, Агриппа II велел привести к себе скованного в узах апостола Павла (Деян. 25:13 и далее). Агриппа II, вполне преданный и покорный Риму, царствовал над всеми предоставленными ему областями до самой своей смерти, последовавшей около 100 г. по Р. X. Но участь Палестины была уже решена Тем, в руках Которого находятся судьбы всех царств и народов. Приблизилось время, когда ужасные бедствия должны были постигнуть иудеев, которые не уразумели дня посещения своего и с безумным упорством отвергли своего Избавителя; приблизилось время, когда надлежало исполниться и слову древнего великого пророка Моисея, устами которого говорил Бог Своему избранному народу: «За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с веселием и радостию сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя народ издалека, от края земли; как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь, Бог твой, дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой... Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит; потому что она, при недостатке во всем, тайно будет есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой... И рассеет тебя Господь, по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей» (Втор. 28:47–66).
Иудейский историк Иосиф Флавий своим описанием войны Иудейской дает яснейшее доказательство того, с какой точностью исполнилось это пророчество. В течение нескольких десятилетий, еще до вступления в управление Палестиной Агриппы II, среди иудеев начали проявляться и быстро усиливаться всеобщая ненависть и недовольство языческим римским владычеством и его гнетом; искра восстания в народе разгоралась все больше и больше, и частные возмущения иудеев против римского правительства бывали уже нередки. Со времен Феликса в Палестине царили явное нарушение всяких законов, самоуправство, открытое взяточничество, продажность, насилие и полная безнаказанность. Противодействие Риму со стороны иудеев усиливалось прогрессивно. Гессий Флор был последним и в то же время самым худшим из всех римских прокураторов (64–66 гг.). Его деспотизм и самоуправство были чрезмерны и безграничны; он разграбил все города; уничтожил всякие начала общественной жизни. Волнение среди иудейского народа росло необычайно быстро и искра восстания, наконец, превратилась в ужасное пламя (в 66 г.). Наместник Сирии Цестий Галл выступил со своими войсками против иудеев, но скоро, однако же, должен был отступить ввиду превосходства их сил, а весь его ценный военный материал попал в руки восставших. С этих пор восстание палестинских иудеев получило правильную и твердую организацию; иудеи теперь могли уже оказывать деятельное сопротивление даже великим военным силам Рима. В 67 году император Нерон отправил в Палестину известного полководца Веспасиана с войском приблизительно в 60 тысяч человек. Веспасиан завоевал уже Галилею и, пользуясь внутренними раздорами, наступившими среди самых иудеев, в 68 году хотел проникнуть в Иудею для завоевания Иерусалима, как в это время в Палестине было получено известие о смерти Нерона (в 68 г.). Веспасиан решился остановить дальнейшие военные действия и занял выжидательную позицию. Между тем обстоятельства сложились так, как не ожидал того и сам Веспасиан. После кратковременного правления Гальбы и возвышения Вителлия Веспасиан, наконец, сам был провозглашен римским императором своими войсками. Вскоре после этого Вителлий был убит, и Веспасиан, как император, отправился весною 70-го года в Рим, а окончание Иудейской войны поручил сыну своему Титу. Не медля, Тит приступил теперь к осаде Иерусалима и к пасхе 70-го года совершенно обложил его, т. е. именно в то время, когда в этом городе проживало бесчисленное множество прибывших на праздник[48] и когда сверх того внутренние партии – зилоты, идумеи, разбойничьи войска Симона и приверженцы Иоанна Гискалы – произвели ужасный разлад между жителями Иерусалима. После упорного и отчаянного сопротивления со стороны иудеев римляне, наконец, захватили один за другим – новый город, нижний город, замок Антонию. Во все время осады голод причинял иудеям неимоверные бедствия и страдания; мало того, он заглушил все чувства жалости, все чувства любви и приязни. Мужья вырывали пищу из рук жен, родители – из рук детей. Все чувства человеческие заглохли; люди стали хуже хищных зверей. Имевшие кое-какие запасы тщательно прятали их, чтобы потом самим не умереть голодной смертью с семействами своими; богатые зарывали деньги свои, боясь грабежа, а потом на вес золота покупали меру пшеницы или ржи; на рынках перестали показываться съестные припасы; кто имел что-нибудь у себя, тот ел тайно; ели зерна немолотые; о жареной или вареной пище и не думали. Достаточно было развести огонь, чтобы привлечь толпу грабителей, которые, как хищные звери, рыскали по городу, ища добычи. С оружием в руках отнимали они у несчастных последний кусок хлеба, последнюю горсть муки, и часто их самих предавали истязаниям и смерти. Осажденные стали питаться травой, кореньями, гнилым сеном, ремнями; ели мышей, лошадей, всякую падаль; наконец, дошло до того, что трупы умерших стали служить пищей[49]. Мало этого, – буквально сбылось и самое ужасное из вышеприведенных предсказаний Моисея. Одна богатая молодая женщина, по имени Мария, прибывшая в Иерусалим на праздник, была в нем застигнута бедствиями войны. Лишившись имущества, доведенная до отчаяния нуждой и голодом, она зарезала и сварила новорожденного младенца своего. Часть этой ужасной пищи она съела тайно, а остальное спрятала. Злодеи, привлеченные запахом или дымом, ворвались в дом и стали с угрозами требовать, чтобы она дала им есть. «Возьмите, ешьте, – сказала она, – я сама его ела; не будьте малодушнее женщины и сострадательнее матери». Сами злодеи отшатнулись от этой ужасной пищи, – и это страшное событие поразило ужасом весь город и римский стан[50]. Когда отдельные лица решались поискать для себя пиши за городом, римляне ловили их и, изуродовав, снова прогоняли за стены Иерусалима или же распинали на крестах. Но скоро уже и эта опасность не удерживала их, и число их было так велико, что иногда в один день до 500 человек погибало крестной смертью; везде вокруг стен стояли кресты с распятыми на них иудеями. Ужасное возмездие за крестную смерть Иисуса Христа! Думали ли о таком ужасном исполнении своих слов иудеи, когда, требуя крестной смерти Спасителя, они необдуманно кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших»?!.. Но с другой стороны, описывая эти беспримерные в истории бедствия иудеев пред разрушением Иерусалима, нельзя не вспомнить скорбных и пророческих слов любвеобильного Спасителя, когда, смотря с Елеонской горы на Иерусалим, Он заплакал о несчастном городе и воскликнул: «О если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но сие сокрыто от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе; и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:42–44). Эти дни праведного суда Божия постигли иудеев во время осады Иерусалима...
Желая избегнуть напрасного кровопролития, Тит потребовал от осажденных сдачи Иерусалима. Но так как эти требования Тита иудеями не были выполнены, – римляне приступили к штурму храма. Ворота во двор храма немедленно были разрушены и сожжены; самое святилище Тит хотел пощадить – так оно было прекрасно! – но в суматохе сражения 9-го ава (август) какой-то римский солдат бросил в храм зажженное полено. Во что бы то ни стало, Тит приказал потушить огонь. Воины сначала послушались его приказания, но потом в пылу сражения они совершенно о нем забыли, – и величественное здание храма рухнуло, будучи со всех сторон охвачено пламенем. Сопротивлявшимся так долго и так упорно иудеям пощады не было никакой. Погибали все, кто попадал только в руки римских солдат; не обращали внимания ни на пол, ни на возраст, ни на состояние. Наконец, взят был и верхний город, тщетно защищаемый Симоном Гиориным и Иоанном Гискалою (8-го элула=сентябрь), а вместе с ним во власть римлян перешел и весь город. Иерусалиму суждено было сравняться с землей. Иудеи, не имевшие возможности убежать или не доставшиеся в жертву меча и голода, были проданы в рабство или отосланы на рудокопные работы, или же предназначены для римских гладиаторских боев, а красивейшие и сильнейшие из них были выбраны для триумфа Тита.
Немногие не взятые еще римлянами палестинские укрепления пали в начале 73 года. Таков был конец Иудейского царства! Страна была превращена войной большей частью в пустыню; народонаселения осталась только десятая доля[51].
Тем не менее, иудеи, хотя и чрезмерно ослабленные, все-таки не считали совершенно погибшим своего дела. И если жители Палестины были не в состоянии тотчас снова начать сопротивления римлянам, зато во времена Траяна (115–117 гг.) иудейские жители Киринеи и Египта также восстали поголовно против римского владычества; примеру их немедленно последовали иудеи, жившие на острове Кипре и в Месопотамии. Только после многих кровопролитных сражений римлянам удалось подавить это восстание; совершенное же спокойствие среди иудеев было восстановлено лишь при Адриане (в 117 г.).
Первые пятнадцать лет царствования Адриана протекли спокойно. Император был кроток и расположен к палестинским иудеям, так что даже снова дозволил им построить свой храм в Иерусалиме. Но впоследствии он совершенно изменил свое отношение к иудеям и потребовал, чтобы храм этот был посвящен Юпитеру, а также чтобы уничтожено было обрезание как обычай нечеловечный и жестокий и чтобы новостроящийся город Иерусалим был назван Элиею Капитолиною. Иудеи не могли исполнить этого требования, – и опять возгорелось страшное восстание. Симон, называемый Варкохеба («сын звезды», Чис. 24:17), стал во главе иудеев, как их «Мессия», и восстание скоро распространилось по всей Палестине. Три с половиной года (132–135 гг.) продолжалась самая ожесточенная борьба, концом которой было совершенное поражение иудеев: возмущение было потушено кровью мятежников, которых было избито до 580 тысяч человек. С этих пор иудейский народ уже никогда более не получал своей самостоятельности; теперь он остался и без отечества, и без храма, в рассеянии между всеми народами. Иерусалим был назван, действительно, Элиею Капитолиною; в нем были поселены языческие жители; явились языческие храмы; введены языческие обычаи и устройство общественной жизни; иудеям под угрозой смертной казни было запрещено даже приближаться к этому городу.
Антонин Пий (138–161 г.), впрочем, снова дозволил иудеям обрезание, а после Константина († 337 г.) они могли являться даже и в Иерусалим.
Какую грустную повесть представляет последняя политическая история этого народа, бывшего некогда избранным народом Божиим! И как все было бы иначе, если бы он не отверг от себя Спасителя! Тогда Спаситель, предвидевший гибель города и прискорбную участь всей страны (Мк. 13), не имел бы причины плакать о городе (Лк. 19:41), сетовать и говорить: «Вы не захотели! Се оставляется дом ваш пуст!» (Лк. 13:34 и далее).
В то время, когда жил на земле Иисус Христос, гибель Иудейского царства еще была отдалена на несколько десятилетий. Но посмотрим поближе, каковы были те, которых Он называл своими братьями и которые привели свое отечество и свою национальную святыню к такому печальному концу.
ГЛАВА III.
Синедрион и первосвященники
Хотя политическая верховная власть над Палестиною во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа находилась в руках римского правительства и, по его доверию, в руках сирийских наместников и иудейских прокураторов, а наследники Ирода стояли во главе иудейского народа только как вассальные князья Рима, но у иудеев того времени как палестинских, так и проживавших в рассеянии по всему лицу земли, была еще и другая верховная власть, некоторым образом высшее национальное, или туземное, представительство народной власти. Это иерусалимский синедрион, сангедрин, или верховный совет.
Слово «синедрион» имеет, впрочем, общее значение коллегиального управления; кроме иерусалимского верховного совета, или великого синедриона, оно обозначало еще и иудейские судебные присутствия в небольших городах и местечках, населенных иудеями, – и Иисус Христос, вероятно, имел в виду такие именно местные судебные присутствия в своей Нагорной проповеди (Мф. 5:22) и в своем наставлении ученикам, когда посылал их на проповедь (Мф. 10:17; Мк. 13:9). Каждое из таких незначительных местных судебных присутствий (по русскому переводу – «судилищ») состояло, кажется, в большинстве случаев из семи членов; по крайней мере, как свидетельствует Иосиф Флавий[52], даже в Галилее было установлено такое именно число членов синедриона. Но в городах, в которых проживало более 120 мужчин, синедрионы состояли уже из 23 лиц. Гораздо высшее значение, чем провинциальным синедрионам, принадлежало всегда великому синедриону, или верховному совету в Иерусалиме. Его начало иудейские книжники производили от самого Моисея, который еще во время странствования по пустыне для помощи себе и совета учредил собрание семидесяти (Чис. 11:16). По возвращении иудеев из плена вавилонского это коллегиальное учреждение, долгое время вовсе не существовавшее, вновь было организовано будто бы Ездрой. Но тщетно мы стали бы искать позже исторических следов этого учреждения. Только около 200 года пред Р. X. мы встречаемся с учреждением, подобным явившемуся впоследствии синедриону, которое было известно под именем «герусии» и которое таким же именем, или «старейшинами в народе», называется и в книгах Маккавейских (1 Мак. 1:26; 12:35; 2 Мак. 1:10; 11:27 и др.). Затем, во времена Помпея и Цезаря встречается уже название «синедриона», пред которым, например, однажды должен был давать ответ даже сам Ирод[53]. Во времена же Иисуса Христа синедрион встречается уже часто под своим собственным названием (Мф. 26:59; Мк. 14:55; Ин. 11:47; Деян. 4:15), а в книге Деяний апостольских он даже удерживает еще и свое прежнее название – «герусия» (5:21), или «пресвитериум» (по русскому переводу «старейшины», 22:5). Иудеи называли это учреждение «великий сангедрин», или «великий двор суда». Это высшее национальное судилище, пока иудейский народ представлял собой самостоятельную политическую нацию, испытывало различную участь, – то оно было совершенно свободным, то более или менее стесненным в своих действиях. С уничтожением Иудейского царства в 70 году окончил свое существование вместе и синедрион, или верховный иерусалимский совет.
Великий синедрион состоял из 71 лица чистоизраильских членов, которые в новозаветных писаниях обыкновенно называются первосвященниками, старейшинами и книжниками[54]. Книжники в заседаниях верховного совета представляли собой сословие иудейских законоведов; старейшины – это все остальные члены синедриона как светского, так и жреческого сословия, за исключением первосвященников и книжников. Они должны были вообще иметь уже зрелый возраст; тем не менее, о старейшинах в иудейском народе не всегда можно было судить по их летам. Название это было также и почетным титулом, как у греков название геронтов, у римлян – сенаторов. Что касается народных партий, то в синедрионе могли присутствовать как фарисеи (Деян. 5:34; 23:6), так и саддукеи (Деян. 4:1; 5:17; 23:6); и если знатнейшие в нем, именно первосвященники, принадлежали к саддукеям (Деян. 5:17), то фарисеи были гораздо сильнее их по своей численности и в действительности пользовались большим влиянием[55].
Председательствовал в великом синедрионе, по единогласному свидетельству Иосифа Флавия[56] и новозаветных писаний (Мф. 26:57; Деян. 5:17 и далее; 7:1; 9:1 и далее; 22:5; 23:2 и далее; 24:1), постоянно действующий первосвященник как таковой[57]. По Мишне, председатель синедриона носил титул Nasi (князь), а заступающий его место – Ab-beth-din.
Малые синедрионы собирались сравнительно редко; но заседания великого синедриона происходили весьма часто, само собой разумеется, за исключением праздничных дней, а так как обвинительный приговор мог быть произнесен только на другой день после судебного решения, то судебные заседания великого синедриона не могли бывать также и в навечерия праздников. Местом собрания великого синедриона чаще всего называется мощеная камнями галерея храма; но позже, именно около 40-го года, пред разрушением Иерусалима, верховный совет был переведен в другое место вне пределов храма, в так называемую палату Gasith[58]. Что же касается того, что у Матфея (26:3, 57) местом собрания синедриона называется дворец первосвященника Каиафы, то это можно объяснить себе только тем, что или этот дворец был соединен с названным местом, или же это было, в виде исключения, только временным изменением общего порядка.
Первоначально иерусалимскому синедриону всецело принадлежало высшее духовное и светское управление и право безапелляционного суда среди иудейского народа. Но во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа к его обязанностям относились те судебные решения и административные распоряжения, которые или не подлежали ведению местных судов низшего ранга, или не были удержаны за собой римскими прокураторами. В частности, обязанности великого синедриона состояли в том, чтобы охранять иудейскую генеалогию ради чистоты священнического происхождения, следить за правильностью и неопустительностью богослужения, составлять календари, сравнивать солнечный год с текущим лунным, определять времена и сроки праздников, ведать брачные дела, наблюдать за исполнением закона, наказывать его нарушителей и ложных пророков, и даже производить суд над первосвященниками. Право смертной казни, или, точнее, утверждения и приведения в исполнение смертного приговора, у иерусалимского великого синедриона было, однако же, отнято и предоставлено римской прокуратуре (Ин. 18:31), и если мы читаем в книге апостольских деяний, что архидиакона Стефана иудеи побили камнями (Деян. 7), то на это следует смотреть или как на превышение синедрионом своих прав, или как на дело народного самосуда. Что же касается вопроса о том, на какие лица и общества простирались решения великого синедриона, то на это мы должны сказать, что административным распоряжениям и судебным постановлениям великого синедриона были подчинены не только все палестинские иудеи, но даже и все иудейские общины вне Палестины, в рассеянии, каковы, например, иудейские общины в Месопотамии, Александрии или Дамаске (Деян. 9:2).
В зале заседаний синедриона места для его членов были расположены полукругом, и одна половина членов (35 человек) сидела по правую сторону председателя – первосвященника, а другая – по левую. По одну сторону председателя сидел «отец суда», по другую – «мудрец». Два писца сидели за столом для записывания постановлений, решений и судебных приговоров, произносимых синедрионом. Когда синедрион собирался как судебное присутствие, сам председатель был главным допросчиком как свидетелей, так и подсудимого, который обыкновенно стоял прямо пред председателем и которого всегда стерегли два служителя. Уголовное судопроизводство синедриона распадалось главным образом на следующие части: опрос свидетелей с заклинанием или присягой, объяснения подсудимого и приговор, произнесенный уже синедрионом. Первыми подавать свое мнение должны были только те судьи, которые стояли за оправдание подсудимого; большинство одного голоса было достаточно для оправдания, но для обвинения требовалось большинство двух голосов; в случае ошибки осуждение могло быть отменено, но оправдание – нет; ученики закона, присутствовавшие в суде во время каждого уголовного судопроизводства как заседатели или ассистенты, могли говорить только в пользу обвиняемого, но никогда – против него. Каким гуманным характером отличалось иудейское уголовное судопроизводство, можно видеть из следующего места Мишны: «Если человек оказывается невинным, суд оправдывает его. В противном же случае приговор над ним откладывается до следующего дня. Между тем судьи собираются вместе и, вкушая немного мяса, но весь этот день не употребляя вина, совещаются о деле. На следующее утро они возвращаются в залу заседания и опять подают голоса с такими же предосторожностями, как и прежде... Если, наконец, приговор произнесен, они выводят приговоренного для побиения камнями. Место казни должно быть отдельно от суда. Когда ведут к нему осужденного, один из судей должен стоять у двери суда с платком в руке; другой верхом на коне следует за шествием на казнь, но останавливается на самом дальнем пункте, с которого он еще может видеть человека с платком. Судьи продолжают сидеть, и если кто-нибудь берется доказать, что осужденный невинен, то стоящий у двери машет платком, а верховой тот же миг скачет за осужденным и призывает его защищаться опять»[59]. Таково было уголовное судопроизводство иерусалимского великого синедриона. Но не нужно забывать, что самое доброе намерение, самое прекрасное и безукоризненное учреждение может стать дурным, как скоро попадает в дурные руки. Истина этого положения доказана самим же иерусалимским синедрионом, осудившим самым несправедливым и возмутительным образом многих совершенно невинных страдальцев. Так, над Иисусом Христом им был произнесен смертный приговор «за богохульство» (Мф. 26:65 и далее); апостолы Петр и Иоанн были призваны на суд синедриона как «лжепророки» и «соблазнители народа» (Деян. 4 и 5); Стефану было поставлено в вину, что он не перестает произносить оскорбительные слова для храма и закона (Деян. 6:13), а Павлу, – что он учит «ложному» (Деян. 23).
Между членами синедриона первое место занимали, как мы видели, иудейские первосвященники; поэтому мы и остановим на них свое внимание. «Первосвященниками синедриона», которые были руководителями дел в этом учреждении, были иудейские первосвященники в собственном смысле, т. е. действительный первосвященник данного времени и бывшие или низложенные первосвященники. Действительный первосвященник был высшим представителем всех священнических прав и обязанностей. По своему сану он был личный ходатай пред Богом за весь израильский народ. Требования, которые были предъявляемы ко всем вообще ветхозаветным священникам относительно душевной чистоты и безукоризненности поведения, для первосвященника были еще более усиленными и обязательными. Он непременно должен был происходить из чистого иудейского семейства, и именно из колена Левиина и племени Ааронова (Исх. 28:43), причем прежде посвящения своего должен был доказать записями законность своего происхождения и чистоту своего рода (1 Езд. 2:62; Неем. 13:28, 29); кроме того, он должен был иметь совершенный возраст от 25-ти лет и более (Чис. 4:3), не должен был иметь никакого порока на теле и никаких физических недостатков (Лев. 21:17–24); достаточно было уже действительному, посвященному первосвященнику причинить какой-нибудь физический недостаток, например, отрезать ухо, выколоть глаз, разорвать ноздрю, – и он признавался уже низложенным как недостойный своего высокого сана. Далее, первосвященник не мог осквернять себя прикосновением к трупу умершего или к зараженному болезнью, равно как и ко всякому нечистому предмету (Чис. 19; Лев. 21:11); при этом он должен был воздерживаться и от нравственной нечистоты: преступлений, плача и всякого рода душевных потрясений, от пьянства и всех пороков, происходящих от него (Лев. 10:9, 10; 21:11, 12). Избираемый в первосвященники мог вступать в брак только с чистой, невинной, безукоризненного поведения израильской девушкой, но он не мог быть в супружестве с вдовой или женщиной, прогнанной мужем и оскверненной, равно как и с распутницею. Когда был найден и избран такой достойный кандидат в первосвященнический сан, над ним торжественно было совершаемо особенное действие посвящения, которое состояло, прежде всего, в его омовении водой из медного моря (Лев. 8:6), потом в возложении на него священных одежд (ст. 7, 8, 9); далее в обильном излиянии на главу его мира (ст. 12), наконец, в жертвоприношении, причем кровью жертвы помазывали ему правое ухо, правую руку и правую ногу (ст. 23) и окропляли его одежды (ст. 30), а в руки его полагали часть жертвы (ст. 27). Посвященный, таким образом, должен был семь дней безвыходно пробыть во дворе скинии или храма (ст. 33). Первосвященник имел также и свои особые, свойственные его сану, одежды: одноцветный длинный хитон, опоясываемый обыкновенно особым поясом, златотканую верхнюю одежду со звонцами (по русскому переводу «ризу»), ефод, состоящий из разноцветных камней, соединенных двумя нарамниками, на которых в двух камнях были изображены имена колен Израилевых, – наперсник, или «слово судное» (эпомид)[60], ткань, прикрепленная к ефоду и украшенная двенадцатью камнями с именами сынов Израилевых, урим и туммим, возлагавшиеся на наперсник, наконец, довольно высокую шапку, или кидар, диадему святыни с находившеюся на ней с передней стороны золотою, полированною дощечкою, на которой было написано: «Святыня Господня» (Лев. 8:7–9; Исх. 28:4–39). Что касается должностных занятий и обязанностей, то, кроме председательства в синедрионе, первосвященнику принадлежал верховный надзор за храмом, богослужением и сокровищами храма; он же совершал обряд посвящения во священники и левиты. Но самая высшая обязанность иудейского первосвященника состояла в том, что он должен был в великий праздник очищения приносить жертву за грехи народа и всесожжение (Лев. 9), благословляя затем народ, а в важных случаях, как бы посредствуя между Богом и народом, он вопрошал Бога и давал провещание чрез урим и туммим (Чис. 27:21; 1 Цар. 23:9, 10–30). Наконец, если первосвященнику угодно было, он мог совершать всякого рода священнические действия при богослужении во всякое время, назначенное для молитвы.
По исчислению иудейского историка Иосифа Флавия[61], всех иудейских первосвященников, от Аарона, брата Моисеева, первого первосвященника, до Фанаса, возведенного в первосвященническое достоинство мятежниками уже во время последней иудейской войны с римлянами, было восемьдесят три. От построения скинии Моисеем и до устройства храма Соломоном было тринадцать первосвященников, которые преемственно занимали это высокое достоинство; следовательно, в течение шестисот двенадцати лет (средним числом по 47 лет на каждого первосвященника). От времени Соломона до плена вавилонского в Иудее было восемнадцать первосвященников; последним из них, отведенным в качестве важного пленника в Вавилон, был Иосадок. По возвращении из Вавилона иудеи, как известно, снова восстановили храм Иерусалимский и возвели в первосвященническое достоинство Иисуса, сына вышеупомянутого Иосадока, которого потомки, в количестве пятнадцати человек, занимали первосвященническое достоинство в течение четырехсот двенадцати лет, т. е. до сирийского владычества при Антиохе Евпаторе. Последнего первосвященника из этого рода Онию, по прозванию, Менелая, Антиох лишил не только первосвященнического достоинства, но даже и жизни. На место Онии он назначил первосвященником Иоакима, который, впрочем, умер, прослужив в этом сане только три года. После этого в течение семи лет, т. е. до времени Маккавеев, у иудеев вовсе не было первосвященника. Со времени же освобождения Палестины от сирийского ига первосвященническое достоинство было соединено в роде Асмонеев, или Маккавеев с достоинством княжеским, а потом и царским. Таковыми первосвященниками были: Ионафан – в течение семи лет, Симон, брат его, лишенный жизни своим зятем во время пиршества, – в течение восьми лет, Гиркан, сын Симона, – в течение тридцати лет, Иуда или Аристовул I, царь и первосвященник, – один год, брат его Александр – двадцать семь лет, сын Александра Гиркан II – девять лет, брат его Аристовул II – три года и три месяца, потом снова Гиркан II, но уже без царского достоинства, – еще двадцать четыре года, Ананел – несколько недель и Аристовул III, сын Гиркана II-го, также очень недолго.
Со времен Ирода совершенно прекратились бывшие до тех пор у иудеев в обычае наследственность и пожизненность первосвященнического достоинства. Ирод и его преемники, равно как и римляне, назначали и низлагали первосвященников по своему произволу, и большей частью теперь первосвященники оставались в своей должности только непродолжительное время, так что от 37 по 68 год по Р. X. Флавий насчитывает двадцать восемь первосвященников (по году с небольшим на каждого первосвященника). Анна, или Анан, сын Сифа, был из них девятым; в первосвященническое достоинство он был возведен Квиринием, первосвященствовал в течение всего только семи лет (7–14 г.), а потом был лишен своей должности Валерием Гратом. Среди иудейского народа он пользовался большим уважением и имел значительное влияние даже и после своего низложения, так что все пять сыновей его впоследствии были возведены в первосвященническое достоинство. Во время производства суда над Иисусом Христом действительным первосвященником был зять его Иосиф Каиафа (около 18–36 г.), сам же Анан, или Анна, до этого времени уже более двадцати лет как не занимал этой должности, он имел только первосвященнический титул, место и голос в верховном совете (Мф. 26:3, 57; Ин. 11:49; 18:13 и др.). Впрочем, фактически в делах синедриона ему еще принадлежало решающее значение. И это понятно. Когда Валерий Грат лишил Анана его первосвященнического достоинства, он возвел на его место сначала Измаила бен Фабия, а затем сына его Елеазара и, наконец, зятя его Каиафу; но священническая партия не придавала важного значения этому низложению, так как оно в глазах строгих блюстителей закона было недействительным и даже святотатственным. Тем не менее если, по Иоанну (18:13 и далее), Иисуса Христа привели сначала к Анне, то на это следует смотреть только как на дело вежливости и особенного уважения к личности бывшего первосвященника, а на происходившее в его доме – лишь как на частный и предварительный допрос; а что Анна часто упоминается прежде Каиафы (Лк. 3:2; Деян. 4:6 и др.), то причина этого заключалась исключительно в его влиятельности как прежде бывшего первосвященника, пользовавшегося народным доверием, и как тестя действительного первосвященника Каиафы. Каиафа, двенадцатый первосвященник со времени вступления на престол Ирода Великого, подобно тестю своему, был саддукей, одинаково коварный и беззастенчивый, как и Анна, но обладавший меньшей силой характера и воли. Высокомерный и деспотический первосвященник Анания (47–59 г.) был именно тем лицом, пред которым должен был защищаться апостол Павел (Деян. 23). Последний из иудейских первосвященников Фаниа, или Фанас, из знатного священнического рода, как мы сказали уже, был возведен в первосвященническое достоинство народом уже во время иудейской войны (67–68 г.).
Вследствие того, что светские властелины, римские прокураторы и низкие их рабы – преемники Ирода Великого, а больше всех сам Ирод слишком произвольно поступали с первосвященническим служением, и вследствие того, что многие из самых первосвященников иудейских; по своей распутной и грязной жизни, оказывались недостойными своего звания, пренебрегали им, и интригами друг против друга сами унижали и низлагали себя; это высшее во Израиле служение постепенно падало все ниже и ниже, а к концу истории Иудейского царства почти совершенно потеряло свое значение, так что апостол Павел в Послании к Евреям с полной и особенной силой мог противопоставить иудейским первосвященникам Христа как единого истинного и вечного первосвященника (Евр. 2:17; 3:1 и далее; 4:14; 7:26 и далее; 9:11 и далее; 10:21 и др.).
ГЛАВА IV.
Книжники Иудейские
Со времени возвращения из вавилонского плена, на который иудеи совершенно справедливо смотрели как на наказание свыше за неисполнение воли Божией, ясно выраженной в писаниях Моисея и пророков, они стали с особенною любовию изучать писаный закон Моисея как закон Божий и в соблюдении всех его предписаний полагали всю славу возможного для человека нравственного совершенства и святости. Со временем к Пятикнижию Моисея были присоединены пророческие и другие священные книги Ветхого Завета, так что образовалось тройственное деление библейского кодекса, которое было введено еще задолго до времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, потому что в новозаветных писаниях мы находим его уже существующим. По этому делению, первую часть ветхозаветного библейского кодекса составлял «закон», т. е. собрание пяти книг Моисея, или Пятикнижие; к нему были присоединены как вторая часть так называемые «пророки», разделяемые на «старших» (это исторические книги, содержащие в себе повествование о деятельности древних пророков и народных правителей) и «младших» (именно первые четыре великие и двенадцать малых пророческих книг)[62]. К этим двум частям в виде третьей присоединены были так называвшиеся тогда «священные писания», которые по первому и важнейшему из них были называемы также еще и «псалмами» (Лк. 24:44); это были остальные книги Библии. Уже в прологе книги Иисуса сына Сирахова и во второй книге Маккавеев (2:13 и далее) упоминается о таком делении ветхозаветных писаний, а Иосиф Флавий прямо указывает на 22 книги, существовавшие задолго до него[63]. Те же писания, которые мы находим в наших Библиях еще сверх этих книг, были позднейшего происхождения, не пользовались среди иудеев особенно большим уважением и были названы «апокрифами», т. е. книгами запрещенными, которых не должно было читать при общественном богослужении.
Когда составился канон ветхозаветных книг и иудеи с ревностью стали заботиться о хранении его, точное соблюдение библейских предписаний и в особенности требований и постановлений закона усиливалось все более и более и, наконец, простерлось до соблюдения каждого отдельного слова, каждой буквы. Но так как постановления закона требовали истолкования и применения, а древнееврейский язык ветхозаветных писаний, большей частью ставший для народа непонятным, нуждался в переводе и объяснениях, то само собой образовалось особенное сословие «книжников», которое усматривало свою задачу в том, чтобы проникнуть в смысл священных книг, и в особенности высокоуважаемого иудеями закона, толковать и применять его к каждому данному случаю, точно определять все то, что не было ясно определено, и таким образом для всех обстоятельств жизни установить точнейшие, на законе основанные, правила. В писаниях Нового Завета книжники иудейские часто называются «учеными» (γραμματεις, Мф. 2:4), «законниками» (νομιχο?, Мф. 22:35 и далее; Лк. 7:30; 10:25) или «законоучителями» (νομοδιδ?σχαλοι, Лк. 5:17; Деян. 5:34). Об уважении, каким они пользовались среди иудейского народа, достаточно свидетельствуют уже те почетные титулы, которые им были усвояемы. Обыкновенно к книжнику иудеи обращались не иначе, как со словом «рав» или «равви» (Мф. 23:7), что русский перевод прекрасно передает словом «учитель», «наставник». Слово это употреблялось и в усиленном значении – «равван» или «раввуни», как называли также и Иисуса Христа (Мк. 10:51; Ин. 20:16)[64]. Этот еврейский самый почетный титул новозаветные писания чаще всего передают словом – «господь» (Κ?ριος, Мф. 8:25) или «учитель» (διδ?σχαλος, Мф. 8:19) или «наставник» (Лк. 5:5; 8:24). Иудейские книжники любили также, когда их называли словом «отец» (Pater, Abba – Мф. 23:9 и далее). Внешние знаки народного уважения они не только принимали с большой охотой, но даже прямо требовали их как от учеников своих, так и от народа, заставляя уважать себя более, чем родного отца; они хотели занимать везде самые первые и почетные места – у стола за обедом, как и в школах или даже храме, и требовали от людей приветствия на открытых улицах (Мф. 23:6; Мк. 12:38 и далее; Лк. 11:43). И горе было тому, кто осмеливался при встрече не поклониться иудейскому книжнику!
Свои сведения и познания иудейские книжники, как мы видели, главным образом применяли в Иерусалимском великом синедрионе; затем их можно было видеть всегда также и в провинциальных судебных местах, где, само собой понятно, они имели большое влияние как ученые и опытные законоведы, как юристы-заседатели и члены местных синедрионов; кроме того, они были по преимуществу теми лицами, которые как учители и народные проповедники в школах или синагогах толковали Писание и выводили из него назидания для жизни; наконец, в качестве наставников, они трудились над воспитанием детей; их обучением и образованием юношей в ученых законоведов. Для обучения юношества иудейские книжники имели свои особые помещения, которые, например, в Иерусалиме находились в самом храме (Лк. 2:46; 20:1; Мф. 26:55; Ин. 18:20), это то именно помещение, где некогда двенадцатилетний Отрок Иисус возбудил удивление иерусалимских книжников своими вопросами и ответами (Лк. 2:46) и где Он впоследствии нередко беседовал с народом (Лк. 20:1; Ин. 18:20 и др.). Во время самого обучения или преподавания ученики обыкновенно сидели на земле, учитель же занимал для сидения какое-нибудь возвышенное место, – вследствие чего об апостоле Павле действительно можно было сказать: Он сидел «у ног Гамалиила» (Деян. 22:3). По своей внешней форме, обучение юношества у иудейских книжников, их преподавание состояло не столько в связной речи и рассказах, сколько в вопросах, которые предлагал учитель, и в ответах, которые давал ученик, а при нужде – и сам учитель (равви); но иногда мог предлагать вопросы также и ученик (ср. Лк. 2:46). Вообще же, от ученика требовалось только 1) все преподанное твердо хранить в памяти и 2) отвечать урок точно так, как он был преподан ему учителем. Школьная деятельность иудейских раввинов, по их собственному утверждению, была будто бы безвозмездна; в этом смысле должно быть понимаемо и изречение равви Садока: «Не делай закона венцом, чтобы блистать, и киркою, чтобы копать». Для того же, чтобы знание закона не превратилось в средство к наживе и приобретению, от иудейских юношей требовалось при изучении закона обучаться еще и какому-либо ремеслу, чтобы в случае нужды зарабатывать для себя хлеб не своими знаниями, а своими руками. И действительно, можно указать несколько примеров подобного рода. Так, раввин Гиллел, например, зарабатывал свое пропитание не раввинством, а поденщиной, Иосия делал иглы, Иоханан был башмачником[65], а об апостоле Павле известно, что он занимался деланием палаток (Деян. 18:3; 1 Фес. 2:9; 2 Фес. 3:8). Несмотря на это, не подлежит, однако же, никакому сомнению, что многие из иудейских книжников все-таки получали довольно значительную плату за свой учительский труд. К таким-то именно книжникам должно быть отнесено и слово Иисуса Христа: «Они поедают дома вдовиц» (Мк. 12:40). Из жизни книжника Гиллела также рассказывается, что будучи еще учеником и зарабатывая свое пропитание поденным трудом, он платил из этого источника и вознаграждение раввину за свое обучение.
Что касается, в частности, объяснения ветхозаветных писаний, то у книжников оно было не столько прямо объяснительным истолкованием, сколько, напротив, мучительно-точным определением и исчислением предписаний закона до мельчайших подробностей, точно так же, как, с другой стороны, книжники выводили и назидательное применение Писания лишь посредством одного свободного измышления. Оба вида такого толкования, или, лучше, добавлений к Писанию, книжниками были распространяемы среди иудейского юношества путем устной передачи (ср. Мф. 15:2; Мк. 7:3); «предание старцев» составляло «забор», который охранял от нарушения и самые буквы закона. Составная часть этого предания, имевшая непосредственное отношение к ветхозаветному закону, называлась галаха, а не имевшие к закону непосредственного отношения, свободные, практически-назидательные наставления и различные требования иудейских раввинов – гаггада. Обе эти части, галаха и гаггада, впоследствии были изложены в книгах Талмуда и Мидрашима. Галаха заключалась в первом, т. е. Талмуде, который в своей главной части (Мишна) был окончательно составлен около конца второго века по Р. X. раввином Иегудой Святым и его учениками; вторая часть Талмуда (Гемара) содержит в себе доказательства, объяснения и ближайшие определения изложенного в первой части и, в свою очередь, распадается на две составные части: на палестинскую гемару, законченную в Тивериаде около 350 года по Р. X., и вавилонскую гемару, составленную около 550 года в Суре. Гаггадические же элементы, особенно в позднейших своих частях, находятся по преимуществу в мидрашим, практически-поучительном комментарии к ветхозаветным библейским книгам, составление которого было начато около того же времени, как и составление Мишны. Древнейшим мидрашем несомненно нужно считать открытую в эфиопском переводе «книгу юбилеев», которая была составлена, быть может, даже в первом христианском веке. Содержание этой книги есть, в сущности, не что иное, как и содержание нашей канонической книги Бытия, почему она еще называется также и «Малым Бытием»; она есть, по выражению одного ученого, «свободное воспроизведение библейской первоистории от сотворения мира до установления пасхи по пониманию и в духе позднейшего иудейства».
Замечательнейшие имена иудейских книжников от времени Маккавеев до падения Иерусалима исчисляются еврейскими историческими памятниками всегда попарно, от Иосии бен Иоезера и Иосии бен Иоханана до Гиллела и Шамай. Знаменитейшим среди них был, без сомнения, Гиллел, живший незадолго до времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и известный не только тем, что старался освободить от фарисейского давления отношение частных лиц к общему мировоззрению закона, и установил точные правила, по которым должно заключать от известного к неизвестному, от подобного к подобному, от важного к менее важному, но и приобретший к себе уважение народа самой своею личностью, своим пониманием Писания, своею строгой жизнью и своими мудрыми и прекрасными изречениями. В Палестину он пришел из Вавилона и, не имея в Иерусалиме никакого состояния и даже хороших знакомых, должен был зарабатывать свое пропитание тяжелой ручной работой. Впрочем, благодаря своим природным дарованиям и усердному труду, он скоро достиг самого высокого почета между иудейскими книжниками своего времени, равно как и дальнейших времен. Он был от природы мягкого и кроткого характера, а потому он является умеренным также и в понимании ветхозаветного закона. Совершенной противоположностью Гиллелу был его знаменитый современник Шамай, характер которого, как и учение были сухи и резки. Шамай защищал всю строгость закона и обязательность его буквального исполнения. Так, он хотел, чтобы и грудной ребенок исполнял законы о посте в день великого праздника. По его бесчеловечному учению, в субботу никто не только не мог лечить, но и ободрить больного или утешить печального. Предание рассказывает, что во все продолжение школьного спора между этими знаменитыми раввинами сам закон также будто бы распался на два противоположных учения. Впрочем, кажется, что сами эти раввины – Гиллел и Шамай находились друг к другу в более мирных отношениях, чем их школы после их личной деятельности. На практике кроткое учение Гиллела впоследствии проникало в жизнь все более и более, между тем как нечеловечное учение Шамай то здесь, то там постепенно и без противодействия теряло свое значение. Из позднейших представителей иудейских книжников с большим уважением упоминается еврейскими историками внук Гиллела, Гамалиил Старший, современник Иисуса Христа, умерший семнадцать лет спустя после разрушения Иерусалима. Он пользовался среди иудейского народа таким великим почетом и уважением, что первый получил высшее и самое почетное название «раввана» (учитель учителей); с его смертью, как говорили иудеи, прекратилось или погасло даже величие самого закона. Мнению, что Гамалиил был будто бы председательствующим в синедрионе во время осуждения Иисуса Христа, противоречит, несомненно, свидетельство Флавия, что председательство в синедрионе всегда принадлежало только действительному первосвященнику, каковым Гамалиил, однако же, никогда не был. Христианам Гамалиил известен как учитель апостола Павла (Деян. 22:3) и своим суждением о христианстве, когда другие апостолы призваны были пред верховный совет: «Если дело это от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5:38, 39). За это изречение, но без фактического основания, христианское предание представляет Гамалиила благорасположенным к христианскому вероучению и допускает даже, будто бы он был крещен Петром или Иоанном.
За этими великими иудейскими учеными остаются в совершенной тени все другие книжники. У всех иудейских книжников были, впрочем, всегда одинаковы приемы как теоретического, так и практического толкования ветхозаветных писаний и в особенности закона. Величественной и достойной всякого уважения была цель, к которой стремились иудейские книжники в своих теолого-юридических коллегиях или в своих гомилетических чтениях в синагогах; цель эта – сохранить в чистоте ветхозаветную религию и устроить жизнь еврейского народа таким образом, чтобы она вполне соответствовала требованиям закона. Заслуживает порицания только то, что именно около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, был ложен и гибелен самый способ, которым книжники хотели достигнуть этой прекрасной цели. Вместо того чтобы понимать слово Писания в духе и истине, иудейские книжники старались выполнять все требования закона только внешним образом, по букве, по звуку. Излагали закон, указывали на то, как следует применять общие требования его ко всем возможным случаям разнообразной, частной и общественной жизни, – и при этом впадали в излишние тонкости, мелочные перечисления всех возможных и невозможных случайностей, в служение букве, в казуистику, которая часто вела только к праздному пустословию.
Уже Иисус Христос с укоризной указывает на это ложное направление мудрости иудейских книжников, когда спрашивает (Мф. 12:11), что следует делать, если животное в субботу впадет в яму; ибо Он знал, что, по мнению одних, его нужно оставить в яме до захода солнца, а по мнению других, его следует вытащить из ямы немедленно. Так же иудейские книжники отвечали и на вопрос о том, может ли хозяин в субботу оказывать помощь отеливающейся корове, равно как и на вопрос о том, следует ли в субботу воду нести к животному, чтобы напоить его, или животное вести к воде. Святость субботнего дня книжники требовали соблюдать строжайшим и до невозможности томительнейшим образом (Мф. 12:12); в субботу, по их учению, нельзя было сражаться с неприятелем (1 Мак. 2:34–38), в крайнем случае, дозволялась только защита (1 Мак. 2:39 и далее); в субботу хождение человека ограничивалось лишь двумя тысячами шагов, – так называемым субботним путем – Техум-ха-Шаббет (Деян. 1:12); работать же в этот день было вообще запрещено, – и раввины умели указать тридцать девять главных работ, которые были запрещены в субботу строжайшим образом, как, например, сеять, пахать землю, завязывать или развязывать узлы, шить в две стежки, тушить или зажигать огонь, переносить его с одного места на другое, варить пищу, производить постройку, створаживать молоко и т. д. И каждое из этих запрещений имело свое особое значение и точнейшее определение. Были запрещены даже такие действия, которые не нарушали, а как-нибудь и когда-нибудь в будущем, может быть, только могли привести иудея к бессознательному и непреднамеренному нарушению субботней заповеди. Между прочим, при начинающихся сумерках писец не должен был выходить из дому со своей тростью, портной – со своей иглой, потому что они могли забыть об этих вещах и выйти с ними со двора также и при наступлении субботы. В крайнем только случае в субботу было дозволяемо (Ин. 7:22 и далее) оказание содействия при обрезании и помощи для находящегося в опасности, угрожающей его жизни. И все-таки мы знаем из истории земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, что всякое исцеление больного в субботу иудейским книжникам казалось делом ужасным (Мф. 12:9 и далее; Мк. 3:1–5; Лк. 6:6–11; Ин. 5:1–16). Хотя срывание колосьев для утоления голода само по себе было дозволено, в субботу оно, однако же, считалось действием строго запрещенным (Лк. 6:2). По учению книжников иудейских, не было ничего важнее строгого соблюдения субботы. По их мнению, суббота не только соблюдается на небе и была соблюдаема там до сотворения человека, но и человек создан и сам народ израильский избран был Богом единственно для соблюдения субботы. Она чудесно соблюдалась будто бы даже субботней рекой священного города. Как высоко ценили иудейские книжники соблюдение субботы, показывает следующий рассказ, приводимый Фарраром[66]. Раввин Колонимос, будучи обвиняем в убийстве одного мальчика, написал что-то на клочке бумаги, положил на губы мертвого и таким образом заставил труп встать и открыть настоящего убийцу, чтобы спасти себя от растерзания на части. Так как это было сделано в субботу, то он провел остаток своей жизни в покаянии и на своем смертном одре завещал, чтобы в течение ста лет всякий проходящий бросал камень в его гробницу, потому что всякий нарушитель субботы должен быть побит камнями! Синезий[67] передает рассказ о матросе, который среди бури уронил весло в тот момент, когда начиналась суббота, и взял его опять только уже тогда, когда его жизни угрожала опасность. По учению иудейских книжников, в субботу не следует переходить реку на ходулях, потому что это значит – нести ходули; женщина не должна выходить с лентами на себе, если только они не пришиты к платью; нельзя носить вставных зубов; человек, страдающий зубной болью, не может полоскать рта уксусом, но может подержать его во рту и сглотнуть; нельзя написать двух букв алфавита; больной не мог послать за врачом; человек с ломотой в пояснице не мог потереть или натереть больного места; петух не должен носить ленточки на ноге в субботу, иначе это значило бы носить нечто. Шамай не вверял письма язычнику в среду из опасения, чтобы он не прибыл к месту назначения в субботу. Он, говорят, всю неделю был занят только одним размышлением о том, как соблюсти ему предстоявшую субботу. Такими же являются иудейские книжники и в истолковании других требований ветхозаветного закона. Чтобы надежнее избежать употребления всуе имени Божия (Иегова), т.е. чтобы точнее выполнить третью заповедь десятисловия, ими запрещено было вообще произношение его (Iehova, Iahve), и где оно встречалось в самом Св. Писании, вместо него читали «Adonai» – в переводе Семидесяти «Кириос», «Господь», или только говорили: «Здесь написаны четыре гласные»[68]. Десятинную подать книжники иудейские распространяли даже на мяту, анис и тмин (Мф. 23:23), чтобы не опустить ни одного из предметов, подлежащих закону о десятине; а когда Иисус Христос говорит (Мф. 23:24): «Вы оцеживаете комара, а верблюда поглощаете!» – то это указывает нам на то, как строгие иудеи предусмотрительно процеживали вино, чтобы не проглотить утонувшее в нем какое-нибудь насекомое. В том же месте Господь обличает иудейских книжников за их излишние очищения (Мф. 23:25). И действительно, в этом отношении книжники являются мелочными до смешного. Ими были установлены самые точные определения относительно того, какие сосуды не чисты, какая именно вода годна для различных видов очищения, – для вспрыскивания рук, для перемывания сосудов, для умывания лица. Мало того, относительно омовения рук было даже определено, в каких сосудах оно должно совершаться, кто должен вливать и выливать воду, в каких случаях руку следовало погружать, держать вверх или вниз, мыть ли всю кисть руки, или только одни оконечности пальцев и т. д. Но особенно были внимательны иудейские книжники к трем знакам, которые беспрестанно должны были напоминать израильтянину об его религиозных обязанностях: это – кисточки на четырех углах покрывала, служившего верхней одеждой, – Zizith (Втор. 22:12; Мф. 23:5); затем – так называемые мезуза, или косяки, приделанные к дверным столбам с пергаментным свитком, на котором было написано в 22-х строках Второзаконие 6:4–9 и 11:13–21; и, наконец, ремень молитвы с написанными на нем местами из Св. Писания, или Tenllin (Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8), который был навязываем на лоб, или руку (Мф. 23:5). При этом весьма важным считалось точно определить, из скольких именно ниток должен состоять цицит или как должны быть написаны отрывки мезузы и как длинны должны быть ремни тефиллина. Молитва к Богу у иудейских книжников также была заключена в самые строгие и точно определенные внешние формы, так что с этой стороны она едва ли и могла быть названа свободным возношением ума и сердца к Богу. Молитва веры (так называемая схема), (Втор. 6:4–9 и 11:13–21) и присоединяемые к ней благодарения у иудеев были самыми главными молитвами. При этом было определенно установлено, в какой именно час и как часто каждому иудею следует произносить эти молитвы; известно, что истинными богоугодными временами для молитвы у иудеев считались часы третий (Деян. 2:15), шестой (Деян. 10:9) и девятый (Деян. 3:1; 10:30). Немало любили рассуждать иудейские книжники и о том, как и при каких обстоятельствах, следует класть поклоны, посыпать пеплом голову, поднимать руки, опускать глаза и т. п. Ревностнейшие из иудеев молились, как только наступало указанное время, везде – и посреди улиц, и на их углах, и на кровлях домов, хотя, к сожалению, нужно сказать, что все это иудейские книжники делали часто лишь для того, чтобы их видели молящимися люди и считали благочестивыми (Мф. 6:5). И если поистине было прекрасным обычаем – благодарить Бога, например, за обедом, то обычай этот много терял оттого, что у иудеев он скоро превратился в сухое и мертвое дело одной пустой буквы; иудейскими книжниками здесь также все было определено до мельчайших подробностей; ими указана была форма даже каждой отдельной застольной молитвы, как, например, при употреблении вина или фруктов, хлеба или овощей. Похвально, конечно, что иудейские книжники требовали частой и усердной молитвы; но когда иудеи совершали ее лишь внешним образом, чтобы только пред людьми исполнить требование закона, за что укорял их еще пророк Исаия, говоря от лица Божия: «Этот народ приближается ко Мне устами своими и чтит Меня своими губами, но сердце его далеко от Меня» (Ис. 29:13; Мф. 15:7 и далее), – то не получали ли они уже здесь, от людей, своей награды? Не всуе ли совершалась такая молитва? – Столь же внешними представляются нам и иудейские посты того времени. Книжники и фарисеи придавали им большое значение. Но имели ли они таковое на самом деле? Иудеи описываемого времени постились обыкновенно во второй и пятый день недели, т. е. в понедельник и четверг (Лк. 18:12), потому что в четверг Моисей восходил на Синай для получения заповедей, а в понедельник возвратился оттуда назад. Но кроме этого, бывали еще дни и чрезвычайного поста, когда, например, замедлялось наступление дождевого времени, угрожали эпидемические болезни и т. п. Наконец, многие из ревностнейших иудеев часто постились по собственному произволению в известные дни недели, иногда в течение даже целого года; таков был, например, фарисей, молившийся в храме вместе с мытарем и прославлявший самого себя: «Пощусь два раза в неделю!» (Лк. 18:12). Но, к сожалению, этот пост книжников и фарисеев был только делом одного внешнего исполнения закона или даже одного обычая; ему не соответствовало внутреннее расположение постившихся, – не доставало истинного смирения, скорби по Боге, слез о своем нравственном падении и своем бессилии, – с воздержанием от пищи не было соединено воздержание от страстей; мало того, у иудейских книжников пост нередко был даже делом одной гордости, лицемерия или честолюбия; постились исключительно для того, чтобы прослыть в народе людьми благочестивыми и заслужить чрез это почет и уважение. Но истинно в этом они получали уже свою награду!
Конечно, среди иудейских книжников и «законоучителей» были и такие, которые всем своим сердцем стремились к истинному пониманию Св. Писания и оставили после себя несколько прекрасных и весьма разумных изречений, проникнутых искренним благочестием. Антигон Сахо, например, сказал, что людям нужно быть подобными рабам, которые служат своему господину, не имея в виду никакой награды, а равви Иуда говорит: «Будь резв, как леопард, легок, как орел, быстр, как олень, и силен, как лев, чтобы исполнять волю Отца твоего, Который на небесах!» Но, в общем, те пустые действия, о которых со всей ревностью заботились иудейские книжники, были только тяжелыми, неудобоносимыми бременами, возлагаемыми на плечи людям (Мф. 23:4; Лк. 11:46) без всякой пользы для последних. Внешняя форма законного благочестия в глазах ученых иудейских книжников стояла выше всего; внутренний же дух его, его содержание были отодвинуты далеко на второй план. Всю сущность иудейской морали этого времени составляло лишь точное и буквальное выполнение предписаний о внешнем посте и праздниках, десятинах и очищениях; основное же требование религиозного и нравственного настроения и жизни, дела любви и милосердия, кротости и смирения оставались в полнейшем пренебрежении (Мф. 23:23). Само собой понятно, что такое исключительное служение букве и такая фарисейская праведность требовали коренного преобразования в истинное служение Иегове и в понимание веры в духе и истине (Ин. 4:23, 24).
Полное и верное разумение ветхозаветного закона было открыто людям только одним Господом нашим Иисусом Христом, Который, по свидетельству очевидцев, проповедовал как власть имеющий, а не так, как книжники и фарисеи (Мф. 7:29). Он один ясно и определенно указал цель Ветхозаветного Откровения – освящение человека и восстановление общения с Богом, – и в полном свете изъяснил вечное значение и смысл «закона Моисеева» (Мф. 5:17 и далее), а с освобождением от ига внешних предписаний Он вместе с тем потребовал и истинного исполнения закона в добровольном послушании Богу, возрожденном в вере и любви. За это-то Он и снискал Себе вражду со стороны иудейских книжников; они ставили Ему в вину, будто бы Он часто нарушал требования закона (Лк. 6:7; 11:54); с ропотом порицали некоторые Его изречения, поведение и действия (Мф. 9:3; Лк. 5:30; 15:2), старались уловить его хитро придуманными вопросами (Мф. 22:35 и далее; Лк. 10:25), а когда увидели, что такими средствами ничего не могли достигнуть, они приходили все в большее и большее раздражение, в котором, наконец, и решились покончить с Ним смертью (Лк. 20:19; 19:48).
ГЛАВА V.
Жизнь богослужебная
Из сказанного до сих пор ясно, что движущим и руководящим началом как для высших представителей иерусалимского синедриона, так и для иудейских книжников были именно религия и закон, данный чрез Моисея. Но если мы глубже вникнем в жизнь еврейского народа, то мы увидим ясно, что также и сознание всего еврейского народа всегда вращалось по преимуществу около его религии и его закона. Несомненно, что главным, центральным пунктом всей религиозной жизни древнего иудейства был Иерусалимский храм, а объединительными пунктами частных иудейских обществ были синагоги, или школы.
Иерусалимский храм, построенный Соломоном, как известно, был разрушен Навуходоносором. Второй храм в Иерусалиме был устроен Зоровавелем после возвращения иудеев из плена вавилонского. Но Ироду Великому, желавшему с одной стороны прославить свое царствование устройством многих величественных зданий, а с другой – приобрести расположение иудеев, храм этот казался уже неудовлетворительным и слишком бедным. Вот почему лет за двадцать до рождения Иисуса Христа он почти совершенно заново перестроил его по гораздо большему размеру и украсил его поистине с царским великолепием. В этом, несомненно, великая заслуга Ирода. Самое здание Иерусалимского храма находилось на восточной стороне города и было окружено частями Иерусалима с юга, запада и севера. На востоке и севере гора храма была положительно неприступна, на западе же ее соединял громадный мост с горой Сионом; впрочем, кроме этого моста, жители Иерусалима имели сообщение с храмом и другими путями: так, по ущелью, разделяющему гору храма Мориа от горы Сион, на север от моста и вниз по направлению к нижнему городу вели двое ворот от ограды храма, а на юг была устроена широкая дорога с каменными сходами. Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа вся гора храма была обнесена массивной каменной, квадратной, в три фута высоты, стеной, каждая сторона которой тянулась на протяжении 500 локтей. Чрез эту стену к храму вели многие ворота, из которых девять со всех сторон были покрыты золотом, серебром, различными цепями и другими украшениями, сделанными из коринфской меди. Все эти ворота были растворчатые (в две двери), высотой в тридцать, а шириной в пятнадцать локтей; установлены они были на массивных столбах, из которых каждый имел двадцать локтей в окружности. Крутые склоны горы Мориа поднимались вверх одни над другим как бы террасами, сделанными самою искусною рукою и по самому правильному и тщательному плану: эти террасы образовали дворы храма, соединенные между собой прекрасно устроенными переходами или лестницами; передний двор, прилегавший к самому зданию храма, был, поэтому гораздо выше других дворов, а самое здание храма, находившееся на северной стороне горы, занимало самое высокое место, почему, особенно когда его белый мрамор был освещен ясными лучами солнца, его можно было видеть не только вблизи Иерусалима, но даже и на весьма отдаленном расстоянии. Прежде всего, иудейские богомольцы, входившие в одни из ворот каменной храмовой стены, вступали на площадь храма, позже называвшуюся также и «двором язычников», потому что сюда могли входить и неизраильтяне; но дальнейшее проникновение в святилище язычникам было запрещено под угрозой смертной казни, о чем гласили греческие и латинские надписи, развешанные по многочисленным столпам этого двора[69]. Далее по девятнадцати ступеням богомольцы восходили на террасу «святых», на восточной стороне которой находился «двор жен», отделенный большой каменной стеной от двора мужей. Всех дверей, чрез которые можно было пройти на эту террасу из «двора язычников», было восемь; здесь были и те «красные ворота», о которых упоминается в книге апостольских деяний (3:12); но в «двор жен» вели еще особые ворота, чрез которые проходили только одни женщины, не имевшие права ходить никакими другими воротами. Самые переходы были поддерживаемы величественными и прекрасными столпами, поражавшими всех своей грандиозностью. На запад от «двора жен», на высоте пятнадцати ступеней, находился восточный главный вход во «двор израильтян». От него каменными стенами был отделен «двор священников». Этот двор, в котором стоял громадный жертвенник для всесожжении высотою в пятнадцать локтей, а длиною и шириною в пятьдесят локтей, окружал уже собственно здание храма. Жертвенник для всесожжении был сделан о четырех углах, выдававшихся вверх подобно рогам, и окружен перилами из прекрасного камня величиной около одного локтя, отделявшими священников от народа. Священники восходили на него по крутому подъему с южной стороны[70]. Самое здание храма имело вид прямоугольника в 100 локтей длины и 60 локтей ширины вместе с фронтонами, расширявшими фасад на 100 локтей. Над позолоченными вратами храма, высотою в 30, а шириною в 15 локтей, висела драгоценная, весьма художественной работы, золотая виноградная ветвь – чувственный образ благословенной Богом страны. По словам Флавия[71], одни кисти этой ветви были величиной в рост человека. В «святилище» (вторую часть храма) вел вход с двумя позолоченными дверными растворами, высотою в 55, а шириною в 16 локтей, который, кроме того, был завешан еще пестрым вавилонским ковром из виссона; сюда входили лишь одни священники, помазанные на служение и омовенные, здесь находились семисвещник, стол с хлебами предложения и отделанный золотом кадильный алтарь. «Святое святых», совершенно пустое, было отделено от святилища дверью с завесой, которая разорвалась надвое в момент смерти Иисуса Христа (Мф. 27:51); в «Святое святых» никто никогда не входил, кроме первосвященника; но и первосвященник входил в него только однажды в год.
Внешний вид Иерусалимского храма, по словам Иосифа Флавия[72], имел все, что только может приводить в восторг и сердце, и глаза человека. Со всех сторон он был покрыт «претолстыми» золотыми досками, которые при солнечном восходе давали блеск, ярко горевший, как огонь, и как бы оспаривали блеск даже самого солнца. Издали путнику Иерусалимский храм представлялся как бы горой, усеянной зажженными кострами и покрытой по местам снегом, так как все, что не было в нем покрыто золотом, было отделано прекрасным, белоснежным мрамором. Немало усиливали красоту внешнего вида иерусалимского храма и вставленные наверху его золотые спицы, так тонко заостренные, что на них не могла садиться никакая птица.
Этот храм составлял центр религиозной жизни иудейского народа, и вся Палестина, как и иудеи рассеяния, исполненные священного благоговения, обращали взор свой к нему, этому видимому месту откровения и присутствия невидимого Бога; его почва для иудея была священной почвой, а самым ужасным, что он мог себе представить, это – «мерзость запустения на месте святом», осквернение святого храма или разрушение его язычниками. Для защиты его иудеи готовы были решиться на какую угодно крайность, – и этим объясняется чрезвычайное напряжение иудейского народа при осаде римлянами города Иерусалима – спасти, по крайней мере, свое святилище.
Пойти в храм Иеговы, принести там жертву и помолиться для каждого израильтянина было делом важнейшим и отраднейшим во всей его жизни. Поэтому в дни великих праздников – новомесячий, пасхи, пятидесятницы, кущей, праздника труб и очищения, а равно и в другое время, массы палестинских и иноземных иудеев часто сотнями тысяч появлялись в Иерусалиме; жители провинций приносили сюда своих первенцев; туземные, как и рассеянные по другим странам израильтяне сюда сносили установленные подати или свои добровольные пожертвования в пользу храма; во дворах храма почти всегда можно было видеть представителей всех стран и народов; здесь распространяли свои воззрения иродиане; здесь же беседовал с книжниками и народом и Господь наш Иисус Христос.
Чтобы иностранным посетителям Иерусалима облегчить приобретение животных, потребных для жертвоприношений, на внешней площади храма (во дворе язычников) помещалось особое храмовое торжище; здесь торговцы держали для продажи волов, овец и голубей, а менялы разменивали непринимаемые в храме языческо-римские или греческие деньги на монету храма (Мф. 21:12; Лк. 19:45; Ин. 2:14). В других местах храма благочестивые израильтяне беспрепятственно совершали свою молитву; в вымощенной плитами галерее, находившейся в юго-восточной части храма и называвшейся Лишкат Хаггаззиф[73], собирался синедрион; в других помещениях или галереях учили и рассуждали иудейские книжники (Лк. 2:46).
Непременный штат храма составляли священники, которым принадлежало посредничество между Богом и народом. Для главных служб при святилище были избираемы исключительно потомки Аарона; в помощь же к ним было предназначено все поколение Левия (левиты) для исполнения всех остальных служб, например, для охранения храма, для игры на музыкальных инструментах, для взыскивания установленных налогов в пользу храма и для совершения различных второстепенных действий при жертвоприношениях; для черных работ существовали еще особые храмовые служители. Конечно, высокое религиозное значение священнического служения с течением времени несколько упало и священническое сословие стало не столько носителем посредничества между Богом и народом, сколько передовым сословием вроде национального дворянства; но, несмотря на это, иудейское священство, как необходимое религиозное учреждение, оставалось все-таки не без сильного влияния на народную массу. При храме жили не все священники; некоторые из них проживали в городе Иерусалиме, другие в провинции, в так называемых левитских городах, или в местечках около главного города; священник Захария, отец Иоанна Крестителя, проживал, например, в горнем граде Иудовом, откуда на время своей чреды он и отправлялся к храму (Лк. 1).
Главой всего священнического сословия был первосвященник. Для богослужебных действий в его распоряжении постоянно находился известный круг священников; но непосредственно был подчинен его власти как постоянный исполнитель всех его распоряжений сотник храма и многочисленное количество находившихся при храме должностных лиц. Между последними один был назначаем для определения богослужебных часов, другой – для отпирания и запирания храмовых ворот, третий – для надзора за стражей храма, четвертый – для наблюдения за певцами и музыкантами, несколько лиц – для жертвоприношений и воскурений. Бесчисленные обязанности и священнодействия были разделены между священниками по жребию. К обязанностям же священников, между прочим, относилось: ежедневное воскурение фимиама на алтаре кадильном, возжжение светильников (Исх. 30:7; Чис. 4:16; Исх. 27:20, 21; 30:1-10; Чис. 4:16), возложение каждую субботу хлебов предложения на золотой стол святилищный (Лев. 24:5 и далее), поддержание и хранение огня на жертвеннике всесожжения (Лев. 6:12, 13), приношение жертв и даров на алтарь (Лев. 1), осмотр нечистых, и в особенности прокаженных (Лев. 13; Мф. 8:4; Лк. 17:14), наставление народа в законе (Лев. 10:10, 11; Втор. 31:12, 13; 33:10), объяснение ему повелений Господних (Мал. 2:7; Втор. 33:10), наблюдение за исполнением обетов (Лев. 27), очищение народа от убийства, совершенного неизвестно кем (Втор. 21:1 и далее) и т. п. Священнический хор певцов и музыкантов заботился в особенности о благолепии храмового богослужения и трубными звуками объявлял народу установленные времена молитвы и жертвоприношений (Чис. 10: 8, 10). Все священническое сословие было разделено на 24 чреды, из которых чреда Захарии, чреда Авии, была восьмою (Лк. 1:5; Ср. 1 Пар. 7:8; 25:10). Посвящению в священники, которое было весьма сходно с представленным нами уже посвящением первосвященника, должно было предшествовать еще посвящение левитское, которое, между прочим, составляли следующие действия: окропление водой очищения, обритие всего тела, измовение риз, рукоположение от всего сонма священников и приношение жертв о грехе и во всесожжение (Чис. 8). Содержание свое священники получали от лиц, приносивших жертвы, от первенцев и десятин.
Чтобы читатель мог составить более ясное представление о священническом служении в храме Иерусалимском, мы сообщим о нем некоторые подробности. Ежедневно после полуночи сотник храма вместе с несколькими священниками с факелами в руках отпирал все храмовые врата и проходил по отдельным дворам и помещениям, чтобы видеть, все ли в порядке и все ли приготовлено для богослужения наступающего дня. Когда приближались они к страже какого-либо двора, то стража кричала: «Сотник, мир с тобой!» Если все было в порядке, – священники говорили: «Хорошо, все хорошо!» Вскоре после этого поднимались со своих лож и все остальные священники, омывались установленным образом и надевали свои должностные одеяния. Затем происходило распределение между чередными священниками их служебных занятий для всего предстоящего дня. После этого трубили в трубы, созывая народ к богослужению и напоминая лицам, не имеющим возможности явиться в храм, о наступлении первого часа молитвы. К этому времени все наружные ворота храма (во дворе язычников) должны быть уже отворены; на алтаре всесожжения возжигали наложенные перед тем дрова. Как скоро с крыла храма можно было видеть находившийся на юго-востоке Хеврон, раздавался всеобщий крик: «сверкает от Хеврона!» – и в это время утренняя жертва мгновенно падала под рукой священника; кровь закланного животного была возливаема пред святилище, а жертвенные части были относимы на алтарь всесожжения.
Непосредственно за этим жертвоприношениями следовало богослужение молитвенное с пением и музыкой. За молитвой следовало воскурение фимиама на золотом алтаре, после которого священник преподавал народу благословение. Затем священник, назначенный для частных жертвоприношений, приступал к отправлению своих обязанностей у алтаря всесожжения, а левиты между тем под сильные звуки труб воспевали псалмы: в первый день недели (в наше «воскресенье») пели обыкновенно псалом 23-й, во второй – псалом 47-й, в третий – псалом 81-й, в четвертый – псалом 93-й, в пятый – псалом 80-й, в шестой – псалом 92-й, в субботу – псалом 91-й.
Ветхозаветные жертвоприношения были совершаемы таким образом. Когда было найдено животное (телец, ягненок или козел) годное для жертвы Богу, т. е. чистое, без всяких пороков на теле, священник брал его и приводил пред врата святилища; затем он возлагал на него свою руку, принимал нож и с силой закалал стоявшее пред ним животное, стараясь, по возможности, не дозволить ему даже вскрикнуть. Закланное таким образом животное было повергаемо на землю, а его кровь священник проливал вокруг алтаря, по преимуществу, однако же, к северу. После этого части жертвенной крови были собираемы в особенную чашу и семь раз бросаемы пальцем жреца пред завесой святилища. Кожу закланного животного нередко тот час же снимали и отдавали седмичным жрецам в их пользу, а труп, рассеченный на части и посыпанный солью, священник крестообразно возносил над жертвенником, оборачивая на все четыре стороны, и, наконец, возлагал на дрова. Иногда, как, например, в жертвах о грехе и преступлении, были сжигаемы не все, а только некоторые части жертвенного животного, остальные же отдавались жрецам и назывались «святая святым» (Лев. 6:29). Эти части обыкновенно были употребляемы для приготовления обеда седмичным служителям храма.
В полуденное время священники и левиты обедали, если только это не было днем какого-либо поста. Около трех часов пополудни уже начиналось вечернее богослужение и начиналось также закланием жертвенного агнца, к которому присоединялись и другие жертвы, приносимые от частных лиц. По захождении солнца было совершаемо вечернее молитвенное богослужение, – после чего священники и левиты омывали уже священные сосуды, подготовляя их для жертвоприношений следующего дня, и поджидая прибытия тех, которые должны были сменить чреду и начать новую службу.
Подобным же образом в Иерусалимском храме было совершаемо богослужение в субботы и дни великих праздников, с тем лишь различием, что тогда оно имело более торжественный вид вследствие того, что употреблялось больше песнопений, как, например, прибавлялась песнь Моисея (Втор. 32) и песнь победы (Исх. 15). Гораздо сложнее, а вместе с тем торжественнее и впечатлительнее было отправляемо в Иерусалимском храме богослужение в так называемый день очищения. Его совершал, собственно говоря, только один иудейский первосвященник. Святость и исключительность этого праздника, служившего прообразом искупления всего человечества, совершенного Господом нашим Иисусом Христом, предъявляли к иудейскому первосвященнику многие и важные требования. В течение целых семи дней он должен был постом и молитвою, со строгим вниманием ко всем своим действиям и жизни, приготовляться к совершению этого богослужения. В ночь под самый праздник священники, левиты, а также и знатнейшие из граждан Иерусалима обыкновенно развлекали первосвященника чтением и разговорами, отгоняя от него уныние, и в особенности сон, потому что пред этим праздником в продолжение двадцати четырех часов он не должен был спать ни одной минуты. В самый день праздника первосвященник, прежде всего, совершал торжественные омовения; затем следовало возложение на него драгоценных «золотых» одежд, составлявших принадлежность его сана, принесение утренней жертвы, воскурение фимиама, богослужение молитвенное, пение псалмов и благословение молящегося народа и города Иерусалима. Благословив город с высокого «крыла» иерусалимского храма, первосвященник возвращался в «притвор Соломона», и здесь вторично были совершаемы над ним священные омовения с установленными обрядами и церемониями, после чего он совлекал с себя драгоценное первосвященническое облачение и надевал обычные, простые священнические ризы, т. е. льняные надраги, такой же пояс и кидарь (Ср. Лев. 16:4); все это, разумеется, также сопровождалось разного рода церемониями и обрядностями. Когда таким образом первосвященник был уже готов к совершению богослужения «великого дня», в храм приводили двух козлов от всего израильского народа, из которых одного надлежало принести в жертву за грехи народа, а другого, по исповедании над ним грехов народа, обыкновенно изгоняли куда-либо в пустынное место. Над козлом, избранным по жребию для принесения в жертву, первосвященник предварительно также произносил исповедание грехов народа, и только после этого животное было уже закалаемо как жертва за народные грехи. Затем первосвященник торжественно входил в Святое святых в одной руке с кадильником фимиамным, а в другой – с кровью очищения, которую он семь раз проливал на святое место (Ср. Лев. 16). Многие самым точным образом определенные частности этого священнодействия были соблюдаемы всегда без малейшего нарушения и со всей строгостью. Торжество богослужения великого дня очищения заканчивали произносимое народом исповедание грехов, церемониальный выход первосвященника из Святого святых и окропление им всего народа жертвенной кровью, совершенное с одного из крыл Иерусалимского храма.
В роковые времена вавилонского плена, само собой понятно, у иудеев не могло быть и речи о жертвенном богослужении; и таким образом к этой только эпохе можно отнести происхождение иудейского религиозного института, который, по всей вероятности, был занесен в Палестину уже по возвращении народа еврейского из плена, во времена Ездры, как, между прочим, можно заключать об этом и из книги Неемии (8:1 и далее), и который повсюду стоял на высоте своего процветания во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа: мы говорим о синагогах, или иудейских народных школах. В этих местах народного собрания, или школах, жертв не приносили, потому что жертвоприношения были совершаемы только в Иерусалимском храме; здесь лишь молились, читали Писание и вели назидательные беседы; согласно с этим главной целью учреждения синагог было наставление взрослых членов иудейского общества в библейской истории и богооткровенном учении, именно в законе, соединенное с молитвой (Мф. 4:23; Мк. 1:21; Лк. 4:15; Ин. 6:59). В Иерусалиме таких национальных школ было весьма много, их насчитывали до 480-ти; такая многочисленность иерусалимских синагог легко объясняется тем, что даже иудеи, приходившие на праздники из рассеяния, старались иметь в Иерусалиме свои собственные школы, как это и делали, например, либертинцы, александрийцы, киринейцы и др. (Деян. 6:9). Много синагог было также и по другим большим городам Палестины (Деян. 9:20); даже в местечках, населенных незначительным числом жителей, существовали свои собственные синагоги. Таким образом, Иисус Христос мог толковать Писание в синагоге Своего отечественного города Назарета (Мф. 13:54; Лк. 4:16) или в Своем любимом городе Капернауме (Мк. 1:21), а равно также мог преподавать Свое божественное учение и в синагогах других мест. По примеру Иисуса Христа, и Его ученики, куда бы они ни пришли, прежде всего, являлись в синагоги (Деян. 3, 14, 17, 18 и др.). Впрочем, кроме таких школ, или синагог, которые были устрояемы в самых городах, у иудеев были еще и молитвенные места под открытым небом, которые, ради омовений пред совершением молитв, обыкновенно были избираемы вне городов при водах, как это было, например, в Филиппах (Деян. 16:13).
Устройство и содержание зданий для иудейских синагог обыкновенно возлагалось на самые иудейские общины той или другой местности; тем не менее иногда и частные лица брали на себя заботы как по устройству, так и по содержанию их; так, мы знаем, что капернаумские старейшины восхваляли одного языческого сотника именно за то, что он устроил им школу (Лк. 7:5). В зале, где происходили собрания, прежде всего, бросались в глаза места для сидения присутствующих (Мф. 23:6; ср. Иак. 2:3 и Лк. 4:16); для чтеца было устрояемо, вероятно, более возвышенное место вроде пюпитры; наконец, в зале каждой иудейской синагоги находился шкаф или ящик, в котором хранились свитки священных книг, и несколько ламп или люстр для освещения здания при вечерних богослужениях. В каждой синагоге был особый предстоятель, или начальник школы (Мк. 5:35; Лк. 8:49), который заведовал внешними делами своей синагоги и сохранением надлежащего порядка при собраниях (Лк. 13:14; Деян. 13:15). В помощь ему обыкновенно была избираема коллегия местных старейшин (Лк. 7:3; Мк. 5:22; Деян. 13:15). Служители, назначаемые общиной по указанию предстоятеля, обязаны были запирать и отпирать синагоги, заботиться о чистоте в них, подавать чтецу свитки Писания и принимать их от него обратно (Лк. 4:20).
Богослужение, во время которого все присутствовавшие сидели отдельно по возрасту и полу, в синагогах начиналось молитвою и, прежде всего – молитвою веры, так называемою схемою: Втор. 6:4 и далее: «Слушай, Израиль, Иегова наш Бог, Иегова един только!» – к этому прибавляли 11:13-21 и Чис. 15,37-41; за схемою уже следовала молитва в собственном смысле, тефилла, с ее восемнадцатью частями. Собравшиеся в синагогу иудеи и прозелиты при молитве обыкновенно вставали со своих мест (Мф. 6:5; Мк. 11:25; Лк. 18:11) и стояли с лицом, обращенным к храму (Ср. Дан. 6:10; 2 Пар. 6:34); произносивший молитву возвышал свой голос, а присутствовавшие заканчивали прочитанную им молитву словом «Аминь» (1 Кор. 14:16). После этого чтец начинал чтение положенного отрывка из закона, который для этого был разделен на 154 параша, или перикопа; отделы эти (зачала) были прочитываемы в течение одного или даже и трех лет. Должности определенного и постоянного чтеца в иудейских синагогах не было; но каждый из участвовавших в собрании, если хотел, мог принимать на себя обязанность такого чтения; обыкновенно из толпы вызывали того или другого знатока Писаний, и вызванный должен был громко прочесть указанное ему место. К недельному отрывку из закона во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа – по крайней мере, во время субботних собраний синагог – присоединяли еще (Деян. 13:27) установленные отрывки из пророков, так называемые гафтара. Так как древнееврейский язык Писания во времена земной жизни Спасителя для многих иудеев был уже непонятен, то в каждой синагоге непременно присутствовал еще переводчик, который, стоя возле чтеца, тотчас же громко переводил прочитанные отрывки по отдельным стихам на арамейский народный язык, после чего читавший, сидя на своем месте, толковал и объяснял прочитанное (Лк. 4:20). Хотя на такое чтение и толкование Писания, как мы сказали выше, право имел каждый из участвовавших в этих молитвенных собраниях, но не каждый был подготовлен к тому, чтобы воспользоваться этим правом, и потому по преимуществу только иудейские книжники находили возможность выказать здесь свои познания и блеснуть своею тонкою ученостию. Впрочем, из евангельских повествований нам известно, как и Иисусу Христу в Назаретской синагоге подали книгу пророка Исаии и Он, прочитав одно место (гл. 61:1 и далее), свернул книгу снова, отдал ее слуге, сел и начал говорить о прочитанном (Лк. 4:16 и далее). Подобным образом поступали также и апостолы – Павел и Варнава (Деян. 13:14 и далее). Конец богослужения в иудейских синагогах, по принятому обычаю, так же, как и в храме Иерусалимском, составляло благословение, или благодарение, произнесенное каким-либо присутствовавшим здесь священником, которое все находившиеся в синагоге заканчивали словом «Аминь».
Такие богослужения в иудейских синагогах, по образцу которых впоследствии были установлены и первые христианские собрания (Иак. 2:2), бывали несколько раз в неделю, особенно в торговые дни; но суббота у иудеев была главным днем всех религиозных собраний; свои праздники и посты иудеи также любили проводить по преимуществу в синагогах, все равно, были ли они посвящены воспоминанию о благодетельном водительстве Божием судьбами народа, как, например, праздник кущей, пятидесятница или пасха, или о прискорбных событиях, когда в сознании своей собственной виновности в грехах иудеи смиряли себя пред Богом постом и покаянием во вретище и пепле.
Из храма Иерусалимского свет ветхозаветной религии распространялся на все иудейство, как в Палестине, так и в рассеянии, из синагог – на отдельные иудейские общины; при посредстве же обоих этих институтов – представители иудейства непрестанно и без устали работали над тем, чтобы каждый иудей, без различия пола и возраста, чувствовал и сознавал себя живым членом народа Божия, чтобы он искал в религии своей радости, своего утешения, своей надежды, чтобы он относил к Богу всю свою деятельность, все обстоятельства и события своей жизни. А что укрепляло такую религиозную жизнь, основа которой коренилась в Иерусалимском храме и иудейских синагогах; а главное – не допускало в нее чуждых элементов, – это воспитание в иудейском народе юношества, основанное исключительно на познании и исполнении ветхозаветного закона, т. е. на началах ветхозаветной религии. Такого воспитания требовал, конечно, самый теократический строй иудейской народной жизни. С религией иудейского народа в самой тесной связи стояло не только богословие, но и все другие сведения, имевшие в его глазах какое-либо значение; изучая свои священные книги, иудей изучал в тоже время и свою национальную историю, и свои юридические установления. «Закон и пророки» представляли иудейскому юноше жизнь его народа во всех ее проявлениях; они открывали ему все ее стороны: религиозную, нравственную, юридическую, общественную, государственную и бытовую, и притом не только в форме настоящего, но также прошедшего и будущего. Всякий обряд, всякий обычай в Иудее носил на себе религиозный отпечаток. Куда бы иудейский юноша ни обратился, он повсюду наталкивался на тот или другой религиозный символ. Не было, кажется, в иудейской жизни ни одного такого явления, от которого бы не веял дух национальной религии или религиозной обрядности. Поэтому иудей беспрестанно должен был обращаться к своим священным книгам, дабы в них найти указание, что ему делать и как поступить в том или другом случае (сравните, например, Ин. 5:39). Вот почему на религиозное воспитание и обучение юношества иудеи смотрели всегда как на свою самую священную обязанность. Насколько мы можем судить на основании исторических свидетельств, у евреев даже девушки изучали свои священные книги; так по крайней мире, мы можем заключать из предпоследней главы книги пророка Даниила (из так называемой истории Сусанны), где, между прочим, говорится: «Родители ее (т. е. Сусанны) были праведны и научили дочь свою закону Моисееву» (13:3). Даже самарянские женщины живо интересовались богословскими вопросами и вероисповедными спорами (Ин. 4:19-24). Иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствует о ревности иудеев к делу религиозного воспитания юношества, когда говорит: «Величайшее усердие мы прилагаем к воспитанию детей, а соблюдение закона благочестия считаем важнейшей задачей своей жизни»[74]. Филон также вспоминает о том, что иудеи с ранней юности обучаются в законе[75]. И апостол Павел (2 Тим. 3:15) пишет о своем ученике Тимофее, что Св. Писание он знает с детства. Какое важное значение религиозному воспитанию и обучению детей придавали иудеи в позднейшее время, можно судить по многочисленным постановлениям относительно этого предмета более или менее замечательных иудейских раввинов. Наконец, это видно даже и из известного сборника законов, постановлений, обычаев и обрядов, – Мишны, по которому требуется, чтобы на пятом году дитя обучалось чтению Библии, на десятом – знакомилось с Мишной, на тринадцатом – не только изучило, но и исполняло в своей жизни 613 постановлений Торы, а на пятнадцатом – постигло мудрость Гемары. Такой взгляд иудейского народа на религиозно-нравственное воспитание юношества, очевидно, вытекал из самых священных книг Ветхого Завета. Уже великий законодатель иудейского народа Моисей заповедал иудеям как повеление Божие следующее: «Внушай слова закона, Израиль, детям своим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома своего и на воротах своих» (Втор. 6: 7-9). Чем же достигалась эта высокая цель религиозного воспитания иудейского юношества? Народная жизнь иудеев, поставленная исключительно на началах религии, в свою очередь служила и самым лучшим средством религиозного воспитания иудейского юношества. В частности, весьма важное и совершенно незаменимое значение в деле религиозного воспитания и детей, и взрослых, имели, как сказано, Иерусалимский храм и многочисленные иудейские синагоги; затем ежедневное чтение отрывков из Св. Писания, различные символические действия в семействе во всякое время, вся атмосфера, в которой жили и которой дышали иудеи, бессознательно воспитывали иудейское дитя в религиозных воззрениях его народа. Каждый отец семейства, помня заповедь своего великого законодателя Моисея и наставления воссевших на его седалище раввинов, смотрел как на свою важнейшую обязанность на то, чтобы своему сыну, своей дочери уже с детства сообщить основательные познания в истории иудейского народа и его законе и возбуждать в них интерес и любовь к отечественной религии. В особенности мальчика считали необходимым приучить к строгому соблюдению закона и к участию в богослужении уже с двенадцатилетнего возраста, ибо теперь он становился «сыном закона», а его воспитание влекло его затем неудержимо к Иерусалимскому святилищу, или хотя в синагоги, как свидетельствует нам и история двенадцатилетнего отрока Иисуса в храме (Лк. 2:41 и далее)[76].
Хотя первоначальное обучение иудейских детей обыкновенно происходило в семье, но уже во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа у иудеев не было совершенно недостатка и в общественных школах, целью которых всегда и повсюду было также расширение и усовершенствование религиозных познаний юношества. Иерусалим был, так сказать, академией для образования иудейских книжников. Апостол Павел, ученик Гамалиила, некогда также принадлежал к тем, которые прилежно изучали в Иерусалиме иудейское богословие, хотя родиной его был Таре, город малоазийской области – Киликии (Деян. 22:3 и дал.). Со времен Александра Македонского иудеи заводили уже школы для обучения юношей закону и в остальных больших городах. И если около шестидесятых годов по Р. X. говорили, что Иисус бен Гамалиил учредил школы для мальчиков в каждой стране и каждом городе, то несомненно, что и около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа то здесь, то там существовали уже народные школы, хотя, быть может, и не совсем еще твердо организованные. Главным предметом обучения в этих школах всегда, разумеется, был закон; научиться читать священные книги было высокою целию школы, а еще высшею – переписывать эти книги по оригиналам.
Итак, бросая общий взгляд на все приведенные нами иудейские учреждения, мы должны согласиться, что все, что касалось иудея с детства, было направлено именно к тому, чтобы пробудить в нем религиозное чувство и затем все вновь и вновь возбуждать, развивать и оживлять его, – что все побуждало каждого иудея всецело отдать себя и свою жизнь на служение Господу. Вся жизнь еврейского народа была проникнута его религией. Все свои национальные предания и воспоминания, свои надежды и желания, свои радости и скорби, ожидания и идеалы иудей с детства привыкал относить к Богу. Священные обычаи сопровождали его повсюду ежедневно, ежечасно; религиозные обязанности не оставляли его ни на одну минуту в его жизни. Ежедневные молитвы, приготовления к праздникам, религиозные собрания в синагогах, хождения к храму, дары, жертвы и обеты, постоянное и внимательное исполнение всех предписаний закона, наблюдение за чистым и нечистым, обрядами радостными и печальными, все это, строго соблюдаемое иудеями, дает нам возможность понять, каким образом иудей все более и более погружался в религиозную область и только в религии научался познавать весь смысл своей жизни, все значение своей деятельности.
Тем не менее и здесь мы не должны упускать из виду то, о чем говорили выше: в народной массе религиозная жизнь была всецело поглощена внешностию и только немногие еще проникали от скорлупы к зерну. Влияние священнического сословия, и в особенности иудейских книжников, как и фарисеев, было всеобъемлющим и всесильным, и их воззрения, учения и требования охватывали собой все народные слои. Частые путешествия к храму Иерусалимскому, жертвы, дары и другие внешние действия в глазах иудейских книжников прямо получили значение заслуг; но как редко с этими внешними действиями у иудеев было соединяемо благодарное обращение души к Богу! Неопустительно в определенные времена иудеи имели обыкновение совершать молитву; но как часто такая молитва была лишь делом движения одних уст! Суббота и праздники, по требованию раввинов, были соблюдаемы со всей строгостию; но не часто ли это было только одним внешним действием без глубокой святости настроения? При всем выполнении раввинских предписаний относительно очищений и омовений, – многие ли понимали сущность ветхозаветной религии, многие ли обнаруживали глубокую и постоянную преданность сердца всемогущему Богу?.. Вот почему скоро сказались повсюду плоды раввинского руководительства иудейским народом: внешность, форма, обрядность, служение букве без духа истины. И более серьезные, более даровитые лица из народа не могли не видеть, что в таком порядке вещей, в такой ненормальной жизни нельзя найти удовлетворения для души, блаженного успокоения для сердца; а вследствие этого все более и более проявлялись у них стремление и желание, ожидания и надежды на Того, Которого за несколько столетий предрекали отцы как Князя мира, как Искупителя душ от скорби и отчаяния, как имеющего осчастливить всех жаждущих спасения, и Который, быть может, в то время даже и находился уже среди них (Ин. 1:26; Мф. 3:11 и далее).
ГЛАВА VI.
Иудейские народные партии
Ясно, что в таком народе, как народ иудейский, полный великих партикуляристических идей, повсюду должна была проявляться и возбужденная партикуляристическая жизнь. Уже вскоре после возвращения из плена вавилонского среди некоторых из лучших иудеев явилась, а впоследствии все более и более оживлялась и развивалась внутренняя реакция влиянию иностранцев, и в особенности языческому давлению и гнету римлян. Отсюда ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа явилось и вновь возбужденное иудейское теократическое сознание; отсюда напряженное внимание и усердное слушание раввинских толкований закона в галереях Иерусалимского храма и в иудейских синагогах; отсюда удивительная приверженность иудеев к своему закону, точность выполнения ими бесчисленных постановлений различных книжников и многочисленные многолюдные посещения Иерусалима во время праздников их чтителями как из близких мест, так и издалека. По временам таких посетителей иудейской столицы насчитывали до 250 тысяч. Казна храма, благодаря вкладам и пожертвованиям иудейских богомольцев, мало-помалу достигла до восьми миллионов рублей, да, кроме того, еще золота, серебра и священных сосудов, принадлежавших иерусалимскому святилищу, насчитывали на 29 миллионов рублей. О возбужденной партикуляристической жизни иудеев свидетельствует в особенности также и появление среди них различных народных партий, но не «сект», как часто говорят совершенно неверно, потому что все они стояли на почве закона и разделялись во мнениях только при решении вопроса об отношении к нему и о способе понимания и исполнения его. В настоящем рассуждении мы обратим свое внимание именно на три главные народные иудейские партии, фарисеев, саддукеев и ессеев, не оставляя, впрочем, без внимания и некоторых других направлений.
Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа видное место занимали в особенности две первые партии, почему о них часто упоминается также и в книгах Нового Завета. Но наиболее влиятельною среди иудейского народа, наиболее популярною и затем самою многочисленною партиею была партия фарисеев. Слово «фарисеи» значит «отделенные», «обособленные» своей святостию от грешного народа и, в особенности, от язычества (Ср. Лк. 18:11). Дух и направление этой партии проявились уже вскоре по восстановлении самостоятельности иудейского общества, т. е. почти во времена Ездры. В век Маккавеев уже встречаются (2 Мак. 14:6) Асидеи – «праведные», «патриоты» как предтечи фарисеев; последние позже, как первые раньше, поставили для себя задачей в отрицательном отношении – борьбу против язычества, а в положительном – ревностнейшую преданность отечественному закону и точность выполнения всех его требований. В дни народоправителя и первосвященника Ионафана они вместе с саддукеями являются под собственным именем «фарисеев»[77] и приобретают свое особенное политическое и религиозное значение. Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа между ними было уже несколько книжников и даже несколько членов иерусалимского синедриона, и они составляли общество в 6000 членов, хотя в административном отношении их общество и не имело еще срочной организации[78]. В сущности, фарисеи были той именно партией, которая стремилась снова привести иудейский народ к точному соблюдению закона Моисеева и отеческих преданий. Фарисейство – это самая решительная реакция иудейского народа против отпадения от отечественных законов и обычаев. Вследствие этого стремление фарисеев всегда было направлено к тому, чтобы точно определить, что позволено ветхозаветным законом и что запрещено им, причем предписанное законом – исполнять точнейшим образом. Вот почему среди иудейского народа фарисеи пользовались славою самых точных толкователей и исполнителей ветхозаветного закона. Сами себе они также приписывали особенную заслугу в деле развития народной жизни на религиозных и патриотических началах. Последнею целию всех своих стремлений, своей преданности закону и своей религиозно-патриотической деятельности они ставили достижение того, чтобы каждый израильтянин мог познать закон и принять на себя его иго и чтобы весь иудейский народ, таким образом, мог получить наследие, и священство, и освящение (2 Мак. 2:17). К сожалению, фарисейское толкование ветхозаветного закона и выполнение всех его требований было слишком томительно и мелочно. Фарисеи не понимали основной возвышенной мысли писаний Моисея и пророков: «Возлюби Бога и ближнего своего!» (Втор. 6:5; Лев. 19:18; Мк. 12:30 и далее). Они приписывали главное достоинство не внутреннему или нравственному настроению, а только одному внешнему действию. Они оставляли в совершенном пренебрежении внутреннюю, духовную жизнь человека, справедливость, сострадание, верность, зато строго придерживались внесения десятины с мяты, аниса и тмина (Мф. 23:23). Вместо того, чтобы обращать внимание на чистоту сердца, они охотнее следили за омовением рук и опрятностью посуды (Мф. 15:16; Мк. 7:8). Они находили для себя большое удовольствие в том, чтобы к ним питали благоговейное и глубокое уважение за их пред всеми совершаемые молитвы в синагогах и на улицах, за их щедрые раздачи милостыни, за соблюдения субботы и постов (Лк. 18). Вначале между фарисеями, быть может, имела место и истинная религиозность и глубокое нравственное настроение; но в описываемое нами время у большинства из них не было ничего подобного (Мф. 5:20; 23:25), напротив, под прекрасной внешностью, под наружной набожностью у них часто скрывалась только духовная пустота, лицемерие, ложная мораль (Мф. 15:4; 23:16) и всякого рода пороки (Мф. 23:25 и далее; Ин. 8:7), вследствие чего лицемерие и кажущаяся набожность (Мф. 23:27; 23:5 и далее; Лк. 11:43 и далее) были даже их отличительными признаками. Правда, и во времена земной жизни Спасителя между фарисеями, быть может, были еще некоторые честные, благомыслящие и справедливые люди, которые с внешнею религиозностию соединяли и внутреннее благочестие, как, например, Никодим (Ин. 3), Гамалиил (Деян. 5:34) и другие. Но самые принципы фарисейства, буквальное понимание и соблюдение ветхозаветного закона и отеческих преданий легко вели только к одной внешности и отчужденности от остального мира. С признанием необходимости буквального соблюдения закона неминуемо было точным образом определить и каждое частное требование его. И вот книжники и фарисеи усматривали, между прочим, свою задачу и в том, чтобы «поставить забор вокруг закона» и скучнейшим образом определять несметное число отдельных предписаний, как закона, так и предания старцев. Преданиям старцев (Мф. 15:2; Мк. 7:3) они приписывали не только авторитет закона вообще, но и ставили их еще выше самого закона Моисеева (Мф. 23:2), как об этом свидетельствует и уважаемый иудеями сборник раввинских постановлений – Мишна: «Погрешность против постановлений книжников заслуживает гораздо большего наказания, чем погрешность против Писания».
В этом именно пункте, т.е. в учении о традиции (преданиях старцев) фарисеи представляли резкую противоположность саддукеям, совершенно отвергавшим достоинство устного предания. Столь же мало последние держались фарисейского учения о бессмертии души и воскресении тела (Мф. 22:23; Мк. 12:18; Лк. 20:27; Деян. 23:8[79]). Далее, фарисеи веровали в существование ангелов и высших духов, между тем как саддукеи совершенно отрицали их (Деян. 23:8). Наконец, в противоположность саддукеям фарисеи признавали влияние фатума, предуставленной Небом судьбы, на свободу человека. «Все, все предусмотрено (Богом), – говорит раввин Акива, – но свобода дана (человеку)». По учению фарисеев, каждому человеку определена Богом его судьба, но в границах ее он действует свободно, и потому добродетель его есть его заслуга. При своих действиях, как добрых, так и злых, думали фарисеи, человек действует не один только, но следует признать и содействие Бога[80], между тем как, по учению саддукеев, делание доброго или злого зависит от одного свободного выбора человека, без всякого содействия со стороны Бога[81].
На иудейский народ, как и его прозелитов, т. е. лиц, обращенных в иудейство из язычества[82], фарисеи имели весьма огромное влияние; но в особенности сильному влиянию их скоро подпадали женщины[83]. Впрочем, фарисейское учение о законе, служение внешности и букве находили для себя прекрасную почву и в настроении народной массы. Сплоченность и общительность фарисеев между собою, их распространение по всей стране (Лк. 5:17), их обширные сведения в законе (Деян. 22:3), общеизвестность их святой жизни, их ревностное стремление – благодетельно (по их понятию) влиять на свою нацию, обновить свой одряхлевший народ, приблизить время желанного спасения, их выдающаяся деятельность, первенствующее положение в иерусалимском синедрионе, где они часто имели беспрекословно решающий голос (Деян. 5:34; 23:6 и далее[84]), их частая проповедь во дворах храма, иерусалимских синагогах и синагогах других городов, – все это вместе взятое мало-помалу заставило иудейский народ добровольно и почти безотчетно подчиниться всесильной власти фарисеев; в глазах народа они имели значение самых непреклонных авторитетов, непогрешимых народных руководителей, неподкупных стражей духовных благ иудейства, чистого, богооткровенного вероучения, согласной с законом жизни, национального достоинства и свободы. К сожалению, фарисейство имело и обратную сторону, которая причинила иудейскому народу слишком много зла и которая состояла в том, что свою задачу фарисеи понимали слишком мелочно, чувственно, исключительно только внешним образом, вследствие чего главною целию всех их стремлений собственно было не обновление сердца и чувства, а лишь исполнение буквы закона и внешние действия.
С религиозной точки зрения фарисеи ожидали обетованного Мессию, они даже страстно хотели видеть Его, но непременно с их служением букве и внешности; и в политическом отношении для них было крайне желательно Его появление, но – только с их партикуляристическими воззрениями и стремлениями. В отношении же к Иисусу Христу, Которого все учение, жизнь и деятельность были положительно противоположностию их учению и жизни, они должны были стать смертельными врагами и потому не могли успокоиться до тех пор, пока Он, по их убеждению, не был совершенно устранен ими со Своего пути.
Безусловно, как на отрасль фарисеев следует смотреть и на ту народную иудейскую партию, которая, как истинное наследие Асидеев, деятельно и ревностно, даже с оружием в руках, старалась доказать свой патриотизм. Когда сирийский наместник Квириний задумал произвести в Палестине народную перепись и уже сделал соответствующее распоряжение, Иуда Галилеянин, или Гавланитид, в сообществе с фарисеем Саддуком старался возбудить иудейский народ к сопротивлению этому распоряжению и к открытому возмущению против римлян (Деян. 5:37). Правда, он погиб во время этого возмущения, но, тем не менее, после него образовалась фанатическая, именно из фарисеев составившаяся партия, написавшая на своем знамени непримиримую борьбу с римлянами и, в конце концов, причинившая великую Иудейскую войну 66-70 годов и последовавшую затем печальную катастрофу: партия ревнителей, или зилотов, как ее обыкновенно называли иудеи. Само собой разумеется, что приверженцы этой партии, поддерживаемые в своих стремлениях мессианскими надеждами и ожиданиями, под ожидаемым Мессиею разумели преимущественно, если не исключительно только, политического освободителя, иудейского царя. Но так как такого рода ожидания были совершенно ложны, то понятно, почему Господь наш Иисус Христос с самого начала Своего общественного служения объявил Себя чуждым всех политических стремлений Его времени; этим же объясняется и то, что в Иудее Он открыто, не называл Себя Мессиею, которого там ожидали только в политическом отношении, хотя с большею ясностию указывал на Свое мессианское достоинство в Самарии, где были чище понятия об обетованном Мессии (Ин. 4); отсюда же, наконец, нам становится ясною и причина, побудившая Иисуса Христа скрыться, когда люди этой, вероятно, партии хотели сделать Его царем (Ин. 6:15). Тем не менее Иисуса Христа, как мы знаем, первосвященники и книжники обвиняли пред Пилатом именно за принадлежность к враждебной Риму партии (Лк. 23:14. Ср. Ин. 18:30, 33-35); за это говорит как самое судопроизводство над Ним, так и надпись на кресте: «Иисус Назарянин – царь иудейский» (Мф. 27:37). Даже ученики Господа вначале разделяли воззрения этого направления. Симон Кананит, например, носил эпитет «Зилота» (Мк. 3:18; Лк. 6:15); наконец, вспомним хотя о просьбе матери сыновей Зеведеевых (Мф. 20:20 и далее), желавшей видеть своих сыновей по правую и по левую сторону сидящими в Его (политическом) царстве, или – о разговоре двух еммаусских путников – апостолов: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля» (Лк. 24:21), избавит именно от ненавистного чужого римского владычества тем, что Он сделается царем.
Впрочем, если зилоты и были непримиримыми врагами римлян, то не подлежит сомнению, с другой стороны, что и Рим имел в Палестине своих друзей и приверженцев и притом именно из среды тех, которых сами иудеи называли людьми «благомыслящими» для своей страны. К этому классу принадлежало несколько знатных лиц из священнической аристократии и несколько лиц из богатых мирян, а также и несколько выдающихся должностных особ. Они питали симпатии к римскому владычеству ради своей личной выгоды, которую они извлекали из своего официального положения и уменья пользоваться обстоятельствами. Кроме того, многие из них сами видели близко силу и могущество Рима, путешествуя по свету; а так как повсюду им встречались лишь плоды римской цивилизации, то некоторые и по убеждению стали ее друзьями. Что дом Иродов среди иудеев также имел известное число приверженцев на своей стороне, – об этом было уже сказано выше.
Однако фарисеев не превосходили по своему значению и влиянию на народную массу ни друзья римского правительства, ни приверженцы наследников Ирода Великого. Значительно ниже их по численности и влиянию своему стояли даже саддукеи, которые в Палестине составляли другую выдающуюся народную партию. Откуда произошло название этой партии, как далеко нужно относить начало ее существования и кто был ее основателем, – этого с определенностью нельзя сказать. Некоторые думают, что саддукеи, как и фарисеи, со своим названием в значении «саддуким», т. е. «справедливые», «праведные», соединяли только почетное титло; но такое словопроизводство филологически едва ли возможно; по крайней мере, против него восстают лучшие из гебраистов. Другие ссылаются на весьма позднее, впрочем, иудейское предание, которое признает основателем этой партии известного Саддока, ученика Антигона Сахо, и от имени основателя производят самое название партии. Вот почему наиболее соответственным является производство названия этой партии от другого Саддока, – именно того, который был первосвященником во время Давида (2 Цар. 8:17 и далее)[85], и таким образом под «саддукидами», или «саддукеями», следует разуметь, прежде всего, потомков и приверженцев древнего первосвященнического дома Саддока, – дома, который занимал в Израиле первосвященническую кафедру от Давида и Соломона до плена вавилонского и после плена вавилонского от Ездры до сирийского владычества. Свое национальное значение саддукиды утратили лишь в смутные времена второго века пред Р. X., когда, оно перешло к вполне заслуженным героям иудейского народа – Маккавеям. Но их стремление возвратить утраченное достоинство было небезуспешно; а потому во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа на первосвященнической кафедре мы снова находим мужей их партии и направления, каковы Анан, или Анна, Каиафа и др. (Ср. Деян. 5:17).
В противоположность опиравшимся на народ фарисеям саддукеи составляли преимущественно «священническую или аристократическую партию»; кроме первосвященника к ним причислялось большинство иудейских священников и разных знатных лиц из иудейского народа[86]. «Хотя к партии принадлежат немногие, говорит Флавий, – зато самые знатные лица». И в другом месте[87]: «Саддукеи не имеют на своей стороне народа, но зато много между ними богатых и первых по уважению».
Тем не менее в противоположность фарисеям саддукеев нельзя считать, как полагали прежде, просвещенными религиозными вольнодумцами[88]; напротив, в отношении к Моисеевым установлениям, они также были консервативны, как и ревностнейшие из фарисеев. Уже вследствие своего официального положения, как первосвященники и священники иудейские, они участвовали в храмовом богослужении и жертвоприношениях, соблюдали постановления относительно обрезания и субботы и твердо держались богооткровенного Писания, не только высокоуважаемой ими вообще Торы, но даже и остальных книг.
От фарисеев саддукеи отличались лишь тем, что сохраняли со всей строгостию то, что первые хотели, как им казалось, пополнить и улучшить, или, как характеризует эту партию Иосиф[89]: «Саддукеи говорят, что должно считать законным только то, что написано, а новых постановлений из отеческих преданий соблюдать не следует». Таким образом, саддукеи отвергали все фарисейское толкование Св. Писания и восполнения его устным преданием и останавливались исключительно на простом смысле и буквах закона. Кроме отеческого предания, решительнейшим образом отвергали они в частности новые правила веры и нравственности, предложенные фарисеями. Так, они отрицали, как мы видели уже и выше, влияние судьбы и говорили, что доброе и злое, делание того или другого, зависит только от одной воли человека. Наконец, в некоторых догматических пунктах они или отрицали, или же перетолковывали по своему даже и указания (правда, для ветхозаветного человечества еще довольно сокровенные) богооткровенного Писания; так, они отвергали мысль о воскресении мертвых и в эвдемонистическом или даже материалистическом смысле (по словоупотреблению нашего времени) перетолковывали ветхозаветное библейское понятие о вечной жизни (Мф. 22:23; ср. Мк. 12:18 и Лк. 20:27), равно как и учение об ангелах и духах (Деян. 23:8). Такими являются саддукеи по изображению книг Нового Завета, такими же представляются они и по свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, который так отзывается о них в своем сочинении «О войне иудейской»[90]: «Саддукеи судьбу вовсе отвергают как в делании, так и в неделании зла. Бога не признают участником, а утверждают, что и добро, и зло зависят от человеческого избрания и что всякий по своему произволению склоняется к тому или к другому. Да и пребывания душ, также награждений и наказаний по смерти не признают. Фарисеи друг друга любят и к общей пользе живут согласно; а саддукеи и друг к другу люты, и с подобными себе обращаются так, как с чужими». Вместо мздовоздаяния по ту сторону гроба они предлагали народу учение о земной награде и благословении, о бессмертии в долголетней жизни, многочисленном потомстве и беспрерывном земном счастье народа. Питая уважение только к одним предписаниям ветхозаветного закона, но и в нем перетолковывая по своему некоторые догматические положения, саддукеи с надменною гордостию смеялись над средствами нового благочестия фарисеев, их строгими постами, бесчисленными очищениями и уважением к одним только внешним действиям. Когда однажды фарисеи вздумали омывать золотые ручные подсвечники, принадлежавшие Иерусалимскому храму, саддукеи кричали: «Смотрите, фарисеи чистят, наконец, и солнце!»... В отношении к различным религиозным обрядам, способу воскурения, например, фимиама, его внесения в святилище, наливания воды, ежедневной утренней и вечерней жертвы и т. п., они не придерживались столь томительной строгости, как фарисеи, они и здесь лишь исполняли одни предписания закона, но не обращали внимания на особые еще правила отеческого предания. Хотя некоторые чрезмерно ревностные фарисеи за это небрежение и считали саддукеев нечистыми; но при этом забывали, по меньшей мере, о том, что в то же время они признавали их достойными занимаемых ими должностей первосвященника, священников, судей и т. д.
В своей общественной деятельности фарисеи казались сравнительно еще довольно умеренными и даже снисходительными в отношении к народной жизни; напротив, саддукеи всегда были гордыми, грубыми с другими, не миролюбивыми, строгими на суде. Первые хотели деятельным благочестием достигнуть вечного блаженства; последние знали только настоящее и требовали того, что было нужно лишь для настоящего. Вне исполнения своих официальных обязанностей саддукеи дозволяли себе полную свободу и наслаждения веселой жизни за роскошным столом, принимали участие в иродианской придворной жизни и не признавали тяжелым грехом общения с язычниками. Среди иудейского народа партия эта пользовалась уважением лишь настолько, насколько она могла славиться знатностью и чистотой происхождения, благородством и другими родовыми привилегиями своих членов. Вообще же говоря, направление это, имевшее своих представителей только между иудейскими аристократами, было мало любимо народом именно за слабую и неполную веру, изнеженность, любовь к чувственной жизни и удовольствиям, гордость в обращении и строгость на суде, – каковыми свойствами, как мы сказали выше, саддукеи отличались в лице большинства своих сочленов.
При своем отвращении ко всему идеальному и духовному, ко всему, что способно одушевлять человека и отвлекать его взор от житейских мелочей, саддукеи не могли не отнестись враждебно и к Иисусу Христу, Которого они считали лишь пустым мечтателем; а чрез свое отрицание духовности и бессмертия человеческой души, воскресения мертвых, бытия ангелов, Божественного Промышления о мире и человеке они стали с Ним и в догматическое противоречие. Это противоречие саддукеев как с Иисусом Христом, так и с Иоанном Крестителем засвидетельствовано и нашими евангельскими повествованиями: Иоанн называет их «порождениями ехидниными» (Мф. 3:7 и далее), а Иисус Христос объявляет их лицемерами, злым, прелюбодейным родом, учение же их – закваскою, развращающею народ (Мф. 16:3 и далее). В книге Деяний апостольских саддукеи являются уже последовательными и самыми упорными врагами христианства. В то время как некоторые из фарисеев, например, Никодим, искали и нашли Господа (Ин. 3; Ин. 19:39; Мф. 27:57), Павел стал даже Его апостолом (Деян. 9), – саддукеи, насколько нам известно, совершенно остались вдали от Иисуса Христа и Его учения (ср. Деян. 4:1 и далее; 5:17 и далее; 23:6 и далее).
Кроме фарисеев и саддукеев, вслед за Иосифом Флавием указывают обыкновенно еще на ессенян[91], или ессеев[92], имя которых, впрочем, тщетно стали бы мы искать в книгах Св. Писания. Происхождение ессеев, как и других иудейских партий, теряется также во мраке дохристианской эпохи. Очень может быть, что ессеиство появилось также только во времена Маккавеев, преимущественно при Ионафане (162–143 гг. до Р.Х.), на что, по-видимому, указывает и иудейский историк Иосиф Флавий[93]. Первый, кто был назван прямо ессеянином, это известный Иуда, живший во времена Антигона (около 110 г.)[94]. Название этой партии по своему значению и словопроизводству с точностью не известно. Одни производят его от еврейского слова «Asai», т. е. «лекарь», и по смыслу этого слова ессеи были как будто бы народными лекарями; к сожалению, объяснение это слишком мало соответствует характеру и особенностям партии ессеев. Другие ставят его в связь со словом «chasa», т. е. «молчать», потому что благочестие ессеев, между прочим, требовало и молчания. Но наиболее соответственным нам кажется то предположение, что ессеяне называли себя по-сирийски – «Chacen» (=ессенянин), множественное число «Chasajja» (=ессеи), т. е. «благочестивыми».
Ессеи, подобно саддукеям и фарисеям, также составляли обособленную общину с целью достижения истинного благочестия, составляли именно общину аскетов, напоминающую собой позднейшие христианские монашеские общества. К мысли о благочестии такого рода их могло привести многое, – во-первых, чувство неудовлетворения иудейским, в частности, фарисейским благочестием, затем, – недовольство вероломной и светской политикой Ионафана, отпавшего от направления первых Маккавеев, – наконец, также и знакомство с родственным благочестием пифагорейского «союза добродетели». Если многое и говорит за то, что ессейство имеет некоторое сродство с воззрениями фарисеев (таковы, как увидим ниже, высокое уважение у ессеев к закону Моисееву, строгое соблюдение субботы, священные омовения) и если многое могло быть позаимствовано ими из иудейства, то все-таки происхождение этой партии из чисто иудейских элементов ни в каком случае не может быть названо достаточно понятным. Основное воззрение ее было дуалистическое, а ее аскетические упражнения имели своей целью насколько возможно избегать соприкосновения с материею и чрез это устранить осквернение. Тело свое ессеи считали темницей души, веществом бренным, земным; душу признавали бессмертною и вечно продолжающею свое существование, происходящею из чистейшего эфира и заключенною в тело, как темницу, ради дальнейшего усовершенствования. Это – общее у ессейства с пифагореизмом, и из последнего только можно уяснить себе также и многие частные воззрения, которые ессеями были проводимы в жизнь, каковы – отвержение кровавой жертвы, неупотребление мяса и вина, боязнь оскверниться елеем, отрицание брака и клятвы, молитва с обращением к солнцу, ношение исключительно лишь белых льняных одежд и многое другое. Но каким образом пифагорейское воззрение проникло в Палестину, через Сирию ли, или через Александрию, – нам совершенно неизвестно. Если оно шло последним путем, т. е. чрез Александрию, то предшественниками палестинских ессеев могли быть близко знакомые с пифагореизмом египетские терапевты[95], с которыми, действительно, ессеи сходятся во многих пунктах своего мировоззрения и различаются только в том, что терапевты вели жизнь вполне созерцательную, между тем как ессеи оставались верными постоянной, живой, усердной и неустанной деятельности[96]. Впрочем, по исследованиям новейшего времени, оказывается (и это весьма вероятно), что приписываемое Филону сочинение «О жизни созерцательной», единственный источник всех наших сведений о терапевтах, написано вовсе не Филоном, а каким-то преданным аскетизму христианином в конце третьего или в первые годы четвертого века, и что писатель, собственно, восхваляет не иудейскую секту или пифагорейскую ассоциацию, а христианский аскетизм. Само собой понятно, что если такие результаты новейших исследований не будут с несомненностью опровергнуты, то не может быть и никакой речи о связи терапевтов с иудейскою партиею ессеев[97].
Во времена Иосифа Флавия среди иудейского народа насчитывали уже более четырех тысяч человек, принадлежавших к партии ессеев[98]. Они имели свои колонии, проживали в городах и, в особенности, в деревнях Палестины и даже, как свидетельствует Филон, Сирии; больше всего они любили тишину и уединение, а потому одним из главных мест их постоянного пребывания и могла стать пустыня Энгедди, на запад от Мертвого моря, куда в позднейшее время, в особенности после разрушения Иерусалима, ессеи, действительно, и стекались большими толпами.
Если раньше ессеи, по-видимому, еще и принимали некоторое участие в общественной жизни иудейского народа, то с течением времени они все более и более отчуждались от нее и образовали тесно замкнутое монашеское общество с суровой дисциплиной и прочной организацией. Они соревновались с фарисеями в восстановлении законной праведности; но делали это лучше и достойнее, чем фарисеи, а потому отличались более нравственною и истинно благочестивою, по тогдашним воззрениям, жизнью.
Переходя теперь к тем воззрениям, которые были усвоены ессеями, мы, прежде всего, должны сказать, что, в общем, ессеи представляли довольно отрадное явление в жизни современного им иудейства; они благоговейно чтили Бога и были преданы Моисею и его закону; хотя они держали себя вдали от Иерусалимского храма или, как говорит Иосиф Флавий, «не были впускаемы в общий храм», они все-таки посылали ему свои дары и приношения, не одобряя только кровавых жертв. Строго соблюдали они празднование субботы, ветхозаветные законы о пище и с отвращением отвергали все картины и монеты с изображениями римских императоров. Над поносителем закона ессеи произносили смертный приговор; а со своими очищениями и омовениями они во многих случаях шли, так сказать, дальше самого закона. Как на главную задачу своей жизни, они смотрели на освобождение себя от всего земного, житейского, противного Богу. Свой взор и свою молитву они часто обращали к небу и к солнцу. По отзыву Иосифа Флавия, «люди эти весьма благонравны и упражняются в одном только земледелии; их любовь к справедливости, которою они превосходят всех греков и варваров и которою отличались они в течение многих веков, заслуживает удивления». Последним желанием ессеев было – уподобиться Богу и ангелам.
Тело для них было только материею, подверженною разрушению, темницею души; между тем как душа, по их мнению, продолжает жить и ожидать для себя возмездия даже и по ту сторону гроба.
В своей обычной жизни ессеи всегда оказывались простыми, умеренными, непритязательными и в высшей степени трудолюбивыми. В пишу они употребляли только хлеб и овощи, да еще несколько соли и иссопа; от употребления вина и мяса они совершенно отказывались. Платьем служило им белое льняное одеяние. От брака они воздерживались, «почитая его подверженным многим беспокойствам и неприятностям»; впрочем, небольшая отрасль этой партии все-таки с некоторыми ограничениями дозволяла себе вступать в брак. Убыль членов ессейской общины обыкновенно возмещалась принятыми детьми иудеев, не принадлежавших к ессейству, и добровольными вступлениями посторонних лиц. Ревностно оберегали ессеи свою нравственную чистоту, стыдливость и верность однажды данному слову; поэтому они уклонялись также и от произношения клятвы. В их кружках существовало полнейшее общение имуществ, так что одна касса, заведуемая определенным надзирателем, удовлетворяла нуждам всех, а потому среди них нельзя было заметить ни бедности, ни богатства. Всякого рода рабство в их глазах было верхом несправедливости. Старым, больным и нуждающимся в помощи они услуживали, как сыновья и дочери; вообще, они строго придерживались исполнения обязанностей любви к людям, и потому если во всех других отношениях каждый шаг их был управляем законами общины, то в двух отношениях каждый из них был совершенно полномочен: «быть сострадательным к несчастным и готовым на помощь нуждающимся». От искания развлечений и праздности их охраняла постоянная, усиленная и напряженная деятельность. Кроме своего любимого занятия земледелием, ессеи предавались и другим сельским работам: они были пастухами, пчеловодами и разного рода ремесленниками; но совершенно презирали торговлю и промышленность, которые, по их понятию, развивают страсть к приобретению, а также делание мечей, стрел и других оружий, причиняющих людям вред.
В общине своей, как и вне ее, ессеи добровольно, но безусловно, и всецело подчинялись воле предстоятеля, священников и разных должностных лиц. Все члены общества этих иудейских аскетов были разделены на различные классы, из которых самый низший составляли вновь поступающие, а высший состоял уже из действительных братьев этой партии. Если кто хотел поступить в общество ессеев, то его подвергали сначала испытанию в течение целого года, после чего он был допускаем лишь к священным омовениям. Затем следовало дальнейшее испытание его в продолжение двух лет, по истечении которых он уже мог принимать участие в общественных обедах и таким образом становился действительным членом общины.
Прост и вместе полон жизни был будничный день членов этого оригинального союза. До восхода солнца ессеи обыкновенно не говорили между собою ни о чем мирском или житейском, но, прежде всего, молились все вместе о физическом и духовном солнце, устремляя взор свой на небо. Затем каждый приступал к своей работе. Около полудня происходило священное омовение, после которого в одной из домов общины все садились за общественный стол, одетые в белые льняные одеяния. По окончании обеда все ессеи снова предавались прилежному труду и только в сумерки сходились к ужину. В субботу ессеи совершенно ничего не работали; но все вместе, собравшись в одном доме, молились, читали закон и толковали его.
Эта жизнь и этот род благочестия заслуживают, конечно, некоторого уважения; но бросается в глаза и здесь слишком болезненный энтузиазм к чистоте и мрачное бегство от мира. Отвращение к нечистому, к которому причислялось все мирское и житейское, полагало непроходимую стену разделения между ессеями и остальным народом иудейским. Ессеи жили и умирали сами по себе; они искали только своего покоя здесь, спасения своих душ там, по ту сторону гроба, между тем как свой народ и свою страну они оставляли на произвол судьбы и подвергали беспощадному осуждению всех без исключения иудеев, не принадлежавших к их партии. Результатом такого безучастного отношения к жизни вне пределов ессейства было то, что до численности фарисеев ессеи никогда не достигали, в заботе о благе и нуждах своего отечества никогда не участвовали и сами себя оттолкнули от великой борьбы с Римом за бытие или небытие своего народа. Ессеи, не принимавшие никакого участия в Иудейской войне, спокойно продолжали свое существование даже и после разрушения Иерусалима, и партия их совершенно исчезла только уже в пятом веке по Р. X.
Всматриваясь теперь в жизнь иудейского народа, как она проявлялась в описываемую нами эпоху, мы должны сказать вместе с Кеймом[99] «В одно и то же время она есть доказательство падения, как и внутреннего движения к новому воссозданию». Падение это, прежде всего, проявляется в представленном нами пестром разнообразии народных партий и отчаянном стремлении к своего рода спасению, которого иудеи искали главным образом во внешних благах; затем обнаруживается оно и в пустых действиях, которым народные иудейские партии навязывали религиозный характер, и в буквах совершаемых обрядов. Много верного и справедливого заключалось в служении Богу делами закона, много смысла (преобразовательного значения) было в жертвах; но еще более было у иудеев суетности, мелочности, лицемерия и ханжества. Известно, как иудеев Своего времени осудил Господь наш Иисус Христос (Мф. 12:39 и далее), а равно также и апостол Павел (Рим. 2:23); лучшие из римлян, как, например, Цицерон, Светоний и Тацит, также часто писали о погибающем народе иудейском; даже Иосиф Флавий, иудей по происхождению и фарисей по убеждениям, признает начало падения своего народа со времен Маккавеев. Внешняя нужда улучшить положение страны, внутренняя нужда в обновлении сердца у большинства самых иудеев обнаруживали чувство явного бессилия помочь самим себе, а вместе с тем возбуждали и надежду на помощь единственно только чрез Того, Который был предвозвещен веками, Мессию. Вот почему рядом со служением внешним делом мы находим между лучшими из иудеев и усиленную внутреннюю жизнь духовную, возбуждаемую и питаемую несомненной надеждой на грядущего Спасителя. На мессианскую надежду иудеев мы, поэтому и обратим теперь свое особенное внимание.
ГЛАВА VII.
Мессианская надежда иудеев
Когда начинает давить нас под своим гнетом непосильная нужда, мы обыкновенно обращаем к небу свой взор, молясь и надеясь, что будущее окажется лучшим и вознаградит нас за наше тяжелое настоящее. Но мы полагаем надежду на отрадное будущее, очевидно, только тогда, когда имеем положительные основания для веры, что будущее предоставит нам действительно более благоприятное положение, чем настоящее. В счастии и благополучии, вдали от горя и нужды, люди большею частию бывают слишком самоуверенны; только тяжелые испытания и несчастия напоминают им о всесильной помощи Божией, о беспредельной любви Бога к человечеству, и взгревают в сердце веру в Промышление и надежду на улучшение жизни, в каких бы тяжелых условиях она ни находилась.
Так именно было и с иудейством незадолго до рождения Господа нашего Иисуса Христа.
«Избранный народ» Божий, народ иудейский, в последние столетия своей политической самостоятельности скорбей и злосчастия испытал немало. Если мы примем во внимание отчаянную борьбу с сирийцами при Маккавеях, бестактную политику Асмонеев, происходившие затем распри и раздоры среди самого иудейского народа, его страдания под римским игом от Помпея до Веспасиана, деспотическое для народа и дружественное Риму правление Ирода Великого и самовластное хозяйничанье его наследников, раболепство иудейской аристократии, бездушие и продажность римских наместников, борьбу различных народных партий и многие бедствия, перенесенные сверх того отдельными семействами и частными лицами, – то этого будет вполне достаточно для того, чтобы видеть, что в то время Палестина не была уже более страной, в которой «текли мед и молоко». Как ни велика, однако же, была внешняя нужда, давление внешних обстоятельств в жизни общественной и государственной, – еще гораздо более тяжелой у всех серьезных иудеев оказывалась нужда духовная – неудовлетворенность потребностям нравственно-религиозной жизни; иудеи стремились к справедливости, к миру сердечному, к познанию пути спасения, – и все-таки при посредстве формального выполнения закона, всех своих опытов благочестия, всех своих внешних действий не достигали того, к чему стремились, – блаженного покоя для души у них не было; искали новых дорог, но не находили истинной. Отчаявшись собственными силами достигнуть желаемого спасения или даже только улучшения своей тяжелой жизни, как в политическом, так и нравственно-религиозном отношении, они, наконец, обратились к тому, с чего именно и нужно было начать: стали усматривать для себя утешение единственно только в древних обетованиях, пророчествах и верованиях своих предков. Вот почему убеждение женщины-самарянки, высказанное у колодца Иакова, тогда было убеждением очень многих в Израиле. Очень многие из тогдашних иудеев могли сказать словами самарянки: «Знаю, что придет Мессия, то есть, Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25). Тогда более чем когда-либо иудеи жаждали освобождения от иностранного владычества, улучшения своего политического существования, а вместе с тем и мирных, благословенных Богом дней, которые принесли бы с собой и нравственное успокоение для души, спасение.
И иудеям было естественно питать такую надежду, потому что она (лишенная, впрочем, политического характера, но в своем истинно мессианском смысле) утверждалась, как на непоколебимом своем основании, на священных книгах закона и пророков, древних обетованиях богопросвещенных мужей, верованиях отдаленных предков. Нечего, конечно, и говорить о том, что чем невыносимее становился для иудеев внешний и внутренний гнет, тем живее проявлялись желание и надежда на избавление от него. Вот почему около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа мы находим сердца всех израильтян уже исполненными страстным ожиданием, что Тот, Который был предвозвещен Моисеем и пророками, Мессия, придет скоро, а вместе с Его пришествием наступит и время желанного спасения. Едва Иоанн Креститель явился на Иордан с проповедью о покаянии, как «иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?» потому что «народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он» (Ин. 1:19; Ср. Лк. 3:15). И действительно, путь приготовления человечества к принятию обетованного Искупителя уже был близок к своему концу; оставалось еще несколько моментов мрачной ночи, – и занялась заря нового дня, осветившая весь мир своим необычайным и величественным светом.
Характерно, что мессианская надежда иудеев, в своем последнем основании, несомненно, опиравшаяся на канон священных книг Ветхого Завета, около описываемого нами времени поддерживалась, главным образом, изречениями из книги пророка Даниила, некоторыми указаниями ветхозаветных апокрифов, и в особенности так называемыми апокалипсисами, т. е. теми писаниями, которые, на основании мнимо небесного откровения, в темных и загадочных выражениях давали решения относительно тайн природы, человечества и царства Божия и которые, однако же, оказывались способными укреплять и утешать благочестивых людей, живших в описываемое нами мрачное время, возвещением приближающегося Царствия Небесного и страшного суда над злодеями. Чтобы это возвещение сделать авторитетнее и впечатлительнее, составители апокрифов и апокалипсисов вложили его в уста Еноху, Моисею, Варуху, Ездре, и наряду с ними – даже язычнице Сивилле. Из всего, что нам известно по этому предмету, с несомненностию, однако лее, вытекает, что в последние два века пред пришествием Спасителя на землю мессианское ожидание у иудеев получило довольно своеобразную и совершенно особенную форму в сравнении с той, какую оно имело в древности у патриархов и пророков, и что повсюду во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа оно находилось в живом возбуждении в народном сознании.
Любимой книгой этого времени, как подтверждает и иудейский историк Иосиф Флавий[100], у иудейского народа была книга пророка Даниила. И вот, согласно с находящимися в ней пророческими указаниями, иудеи ожидали, что языческие царства, которые представлены в книге пророка Даниила под образами сильных животных (7:2–27), будут совершенно истреблены и разрушены, а вместо них будет учреждено Царствие Божие, которое останется уже вечным (ср. 2:44). Святые Всевышнего примут это Царство, станут его членами и будут владеть им всегда (7:18). В высшей степени скорбное и тяжелое время будет предшествовать спасению, но, в конце концов, все благочестивые, испив чашу страданий, примут участие в спасении (12:1); праведники, давно умершие и находящиеся в земле, снова пробудятся для вечной жизни, а люди злые и нечестивые подвергнутся вечному поруганию и посрамлению (12:2). Что писатель книги пророка Даниила вовсе не думал, что этому Царству будет дарован только политический, а не мессианский царь в нравственно-религиозном отношении, – в этом не может быть никакого сомнения. Вот почему и многие толковники с древнейших времен под «Сыном человеческим» (7:13 и далее) здесь разумеют только Владыку Царства Божия, и Сам Христос называл Себя «Сыном человеческим» также, быть может, имея в виду эту именно священную книгу Ветхого Завета (Ср. Мф. 8:20; 26:64; Лк. 21:27).
В апокрифических книгах Ветхого Завета, написанных в историческом духе, хотя и в немногих указаниях, также высказывается твердая надежда иудейского народа на имеющее скоро наступить спасение и личного Спасителя. Отведенные в плен и затем рассеянные по всему свету израильтяне снова возвратятся в свое отечество (Вар. 4:36 и далее; Ср. 2 Мак. 2:18); народы из самых отдаленных стран будут приходить в Иерусалим молиться Богу (Тов. 13:10 и далее); потомкам Давида царская власть над всей обетованной землей будет принадлежать вечно (ср. 1 Мак. 2:57). Особенно достойно внимания высказанное в 1 Мак. 4:46, – что Иуда Маккавей и его единомышленники совершали только подготовительные работы (камни на горе храма), предоставляя окончание своего дела мессианскому времени: «разориша (оскверненный язычниками) жертвенник и положиша камение на горе храма, на месте приличнем, дондеже приидет пророк отвещати о них», и в 1 Мак. 14:41, что «иудеи и их священники постановили – быть Симону, брату Иуды Маккавея, народоначальником и первосвященником во веки, пока не восстанет пророк верный».
К сожалению, уже из ветхозаветных иудейских апокрифов мы видим, что ожидаемый иудейским народом Спаситель представляется в них не религиозным только, но вместе и политическим, или, вернее, теократическим Мессией. С одной стороны религия иудеев, эта вековая хранительница мессианских обетований, которые только при ее посредстве и могли переходить в достояние народного сознания, была нераздельно связана с устройством государственной и общественной жизни иудейского народа; с другой стороны, и политическое положение, в котором находились иудеи, особенно в последние два столетия пред Рождеством Христовым, было слишком тяжело и невыносимо; улучшить его естественными силами было немыслимо; только одна сверхъестественная, божественная помощь, по убеждению самых иудеев, могла даровать им новую, лучшую жизнь. Вследствие этого иудейский народ в описываемую нами эпоху даже не мог мыслить Мессию, Который не был бы предназначен занять выдающегося положения во внешней истории своей нации; а отсюда для нас ясно и то, каким образом огромное большинство иудеев ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа ставило на первом месте именно политическое значение ожидаемого Мессии.
Из апокрифов, пользовавшихся наибольшею распространенностию, так называемые Сивиллины книги или сборник предсказаний в поэтической форме, составленных по изречениям языческих оракулов, содержат в себе многие составные части христианского происхождения не далее, однако же, первых веков; но подлинно иудейскими должны быть признаны древнейшие части этого сборника, именно отрывки книги III (особенно стихи 652–794), которые, будучи составлены, вероятно, каким-нибудь александрийским иудеем (около 140 г. до Р. X.), заключают в себе многочисленные изречения, относящиеся к мессианскому времени. По этим изречениям образ мессианского царствования представляется в таком виде. В Иудее явится Царь, который положит конец всяким войнам на земле. Язычники, которые попытаются еще раз восстать против Иерусалима, будут совершенно побеждены и покорены иудеям. В царствование «Святого» явится покой и мир среди израильского народа, – после чего также и языческие народы будут чтить истинного Бога и Его святой храм. Так Бог устроит вечное Царство мира для всех людей.
Хорошо известная еще во времена земной жизни Иисуса Христа и ставшая затем общим достоянием книга Еноха (ср. Иуд. 14 и далее), написанная, по всей вероятности, около 130 года до Р. X, также часто говорит о скором явлении «Избранного», «Помазанного», «Сына человеческого», «Растения справедливости», и при этом возвещает, что в недалеком будущем предстоят мессианское переустройство иудейской теократической жизни. Язычники еще раз испробуют свои силы против Израиля, но попытка эта будет крайне неудачной. Все соблазнители, все угнетатели, все вероотступники и нарушители закона будут ввергнуты в ужасную, зияющую пропасть, полную огня. Затем явится новый Иерусалим, в котором будут жить одни благочестивые израильтяне, и им безусловно подчинятся все язычники. А когда явится затем обещанный иудеям Мессия, весь мир обратится к истинному Богу.
Особенно из книги псалмов Соломона, пользовавшейся среди иудеев величайшим уважением и популярностию, в ясном свете представляется нам настроение лучших людей Израиля, их мессианские надежды и ожидания, в последнее столетие пред Рождеством Христовым. Несомненно, что эти псалмы, приписанные одному из величайших умов ветхозаветного иудейства, явились уже в то время, когда Помпей (с 63 г.) наложил свою тяжелую римскую руку на всю Палестину; а слабые и бесхарактерные Асмонеи не обещали народу ничего хорошего, ничего отрадного в будущем. И вот, среди таких-то обстоятельств, псалмопевец высказывает в своей книге надежду, – чего вместе с ним желали, разумеется, и все верные сыны этого злосчастного народа, – на свержение тяжелого чужого ига при помощи великого Царя из потомков Давидовых, Который уже не потерпит среди народа своего ни язычества, ни несправедливости. Все должны будут получить освящение в Его царствование, потому что Он есть «Помазанный Господа», Которого Бог явил сильным и мудрым при содействии Духа Своего Святого и Который поэтому низложит врагов словом уст Своих. Как Царь правды и истины, Он приведет всех к честности, святости, полному величию и блаженству.
Хотя Таргумы Онкелоса и Ионафана окончательно были редактированы и в более позднее время, чем вышеуказанные памятники иудейской письменности, тем не менее не подлежит сомнению, что «в них заключается материал, над собиранием которого трудились многие поколения и который должен быть отнесен к временам апостольским и даже далее[101]. Поэтому на некоторые из мессианских ожиданий, раскрываемых в этих таргумах, или толкованиях, мы должны смотреть как на существовавшие и распространенные уже и во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Что же оказывается? Многие места ветхозаветных писаний в этих таргумах понимаются еще исключительно в мессианском смысле. Так, особенно замечательно, что под таинственным «Шилд» (Быт. 49:10; «отложенная» славянского перевода) Онкелос разумеет обетованного Искупителя, или Мессию, ввиду этого древнего пророчества ожидает Его пришествия в то именно время, когда отнимется скипетр от Иуды. И это действительно было народным воззрением в век евангельской истории (ср. Ин. 6:14 и далее; 1:19; 7:31; Деян. 13:32 и далее). Предсказание Валаама о звезде Иакова (Чис. 24:17 и далее) также понимается у Онкелоса в чисто мессианском смысле, т. е. по толкованию Онкелоса, звезда эта означает имеющего прийти мессианского Царя. И Ионафан смотрит на последние слова Давида (2 Цар. 23:1-7) как на пророческое указание мессианского времени. Он называет Мессию вождем, царем (ср. Исх. 9:6), который освободит народ иудейский от его языческих врагов. В толковании на Ис. 11:1 он называет Его учителем, а в толковании на гл. 53, ст. 5 той же пророческой книги – имеющим власть прощать грехи. Время Мессии для Ионафана есть время святости и правды. Грядущий, по его учению, отделит благочестивых от безбожников и первых приведет к блаженству, а последних к заслуженному наказанию (на Ис. 53:7).
В высокопоэтических образах и выражениях незадолго до Рождества Христова были высказаны надежды иудеев на величественное мессианское будущее и в апокрифе известном под названием – «Вознесение на небо Моисея». После великой скорби явится Царство Божие; Небесный поднимется со Своего престола, накажет язычников и уничтожит их идолов; а Израиль станет счастливым и в своей радости возблагодарит Господа.
Подобным же образом и «Книга Юбилеев», явившаяся вскоре после смерти Иисуса Христа и Его воскресения, в общем изображает прежде всего невыразимую скорбь, а потом следующее за нею величие мессианского века.
Александрийское иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа также было исполнено отраднейших надежд на лучшее будущее, соединенное с пришествием обетованного Мессии. Главный представитель александрийского иудейства Филон ясно выражает эти надежды в двух своих сочинениях – De exsecrationibus (о проклятиях) и De praemiis et poenis (о наградах и наказаниях). В первом из них он говорит о том, как все поступающие по закону Божию соберутся в одном определенном месте (Иерусалиме) и как их приведет туда сверхъестественным образом божественное вышечеловеческое существо, которое будет видимо, однако, только спасаемыми; разрушенные иудейские города будут восстановлены опять, пустыни снова будут обитаемы, бесплодная же страна будет изобиловать плодородием. А в другом своем сочинении, описывая время предстоящего иудеям счастия и мира, он утверждает, что тогда безвредны будут дикие звери, а среди людей наступит полное единодушие. Из Иудеи, согласно древнему пророчеству (Чис. 24:17), выйдет Муж, Который поведет всех людей своих на поле, даст сражение врагам и покорит великие и многочисленные нации, потому что Сам Бог будет помогать Ему. Святые и избранные будут обладать святостию, силою и великодушием, а следствием этого явятся благоговение, страх и любовь; богатство и благосостояние, здоровье и телесная сила будут уделом благочестивых в отрадное мессианское время.
Замечательно, что Иосиф Флавий, которому мы всегда должны быть обязаны великой благодарностию за его описание иудейских древностей и историю роковой Иудейской войны, почти совершенно умалчивает о существовавших в то время народных ожиданиях и идеалах, и мессианские предсказания обходит молчанием даже намеренно. Впрочем, и Иосиф допускает, что мессианские надежды и ожидания укрепляли и поддерживали иудеев в решительных сражениях с римлянами во время осады Иерусалима[102]2; а его собственной надеждой, как толкует он пророчество Валаама, было то, что народ иудейский предназначен распространиться по всей земле и приобретет повсюду власть и победу. Вообще же, сдержанность Иосифа Флавия, в отношении к указаниям на мессианские ожидания своего народа, вполне объясняется тем, что своими писаниями, предназначенными главным образом для римлян, он не хотел причинить иудеям зла, не хотел указать на них как на способных к постоянным возмущениям, а прежде всего, сам боялся того, чтобы не впасть в немилость и недоверие у римских императоров, – так как и он был иудей, ожидавший Избавителя в политическом отношении; а между тем, как известно, он всеми способами старался добиться и получить благорасположение римских правителей. Иначе мог ли он, вопреки воззрениям и пониманию всего своего народа, мессианские предсказания относить, например, к Веспасиану как к истинному и предвозвещенному царю израильского народа[103], если только он сделал это не с той целью, чтобы подольститься к нему и чрез то приобрести себе его расположение и соединенные с ним выгоды?
Что народ иудейский пред пришествием на землю Спасителя уже напряженно ожидал скорого наступления мессианского времени, это доказывают не только голоса из среды его самого, но даже и языческие указания, каковы, например, известные места у Тацита (Hist. 5, 13), Светония (Vesp. 4) или Вергилия (Eccl. 4); далее, – это же доказывают и попытки таких лиц, которые, как Февда (Деян. 5:36) и лжепророки 70-х годов, выдавали себя за истинного Спасителя и среди народной толпы находили ревностных приверженцев. Уже в последние часы пред взятием Иерусалима ложный пророк собрал вокруг себя в храме шесть тысяч человек, чтобы даровать им мнимое спасение. А что даже и по разрушении города не погибли питаемые иудеями надежды на спасение и Спасителя, – это видно из апокалиптических писаний Варуха и четвертой книги Ездры, которые явились, быть может, уже вскоре после иерусалимской катастрофы. Наконец, это видно даже и из ежедневной молитвы древних иудеев, Schmone Esre, которая, между прочим, содержала в себе также и прошение о ниспослании обетованного Сына Давидова и о скорейшем устроении Его царства. Таким образом, иудеи надеялись на пришествие Спасителя еще и тогда, когда они уже отвергли Его, когда не захотели следовать Тому, Который в одном лице был поистине Мессия Своего народа, Пророк, Первосвященник и Царь, конечно, не царь мира сего, но Царь всех царей, Владыка Небесного и Вечного Царствия (Мф. 27:11; Ин. 18:36).
Мысль об историческом осуществлении мессианских ожиданий иудейского народа заставляет нас отступать несколько назад, к тем именно временам, когда жил на земле Господь наш Иисус Христос, а вместе с тем и к тем мессианским воззрениям, которые нам указывают книги Нового Завета. Что в этот период времени более чем когда-либо раньше или позже, иудеи ожидали своего обетованного Мессию, об этом мы узнаем из многих черт и указаний евангельских повествований. Вопрос Иоанна Крестителя к Иисусу Христу: «Ты ли Тот, Который должен прийти или ожидать нам другого?» (Мф. 11:3; ср. Ин. 7:29) ясно говорит нам, как сильно было это желание и ожидание среди иудейского народа. Но самым главным и всеобщим было здесь то, что от обетованного Спасителя иудеи ожидали прежде всего восстановления государственной самостоятельности и политического величия Израиля. Ученики Иисуса Христа не могли освободиться от таких надежд даже и после Его воскресения (Лк. 24:21), как свидетельствует об этом изречение еммаусских путников, и даже в самый день вознесения Иисуса Христа на небо Его последователи еще спрашивали Его: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1:6). Вот почему в свое время и народная толпа хотела провозгласить Его царем (Ин. 6:15), вот почему на встречу Ему ликовал и весь народ иудейский при Его входе в Иерусалим (Мф. 21); вот почему пред Пилатом книжники и фарисеи обвиняют Его как народного возмутителя и бунтовщика, опасного даже для всемирного государства Римского (Лк. 23:2), и Пилат предлагает Ему вопрос, – царь ли Он иудейский? (Мф. 27:11; Ин. 18:33 и далее). А когда совет первосвященников и фарисеев (Ин. 11:48) высказывает мнение: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него; и придут римляне, и овладеют и местом нашим и народом», – то отсюда мы узнаем, что с именем и явлением обетованного Мессии иудеи времен евангельской истории нераздельно соединяли мысль о неизбежности государственного переворота и что враги Иисуса Христа были, по-видимому, правы, когда предполагали, что с признанием Его политическим царем в Палестине могла произойти народная революция с целью насильственного освобождения от тяжелого римского ига.
Но мы сделали бы большую ошибку, если бы допустили, что в то время все иудеи без исключения почитали своего обетованного и с часу на час ожидаемого Мессию только одним политическим царем. Нет, в душах людей возвышенных и истинно благочестивых предчувствовалось и иное, более возвышенное значение Его. Так, например, Иоанн Креститель прямо утверждает, что за ним будет идти Тот (Мессия), Который был уже прежде его, Который несравнимо сильнее его, Которому он не достоин даже развязать сапоги Его (Мк. 1:7 и далее; ср. Ин. 1:27), Который будет крестить огнем и Духом (Мф. 3:11) и т. д., и этим он ставит Его, очевидно, не только выше себя, но и выше кого бы то ни было из людей.
Затем, не подлежит сомнению, что и все так называемые «чаявшие Утехи Израилевой», все благочестивые израильтяне, всю свою надежду возлагали на обетования богодухновенного писания (Лк 1:70 и далее) и ожидали в своем Мессии не только освободителя от врагов внешних, но вместе с тем и Спасателя от несправедливости, смерти и наказания за грехи. В своей хвалебной песни по случаю рождения богодарованного сына (Лк. 1:67 и дал.) священник Захария с восторгом говорит о посещении и спасении Богом Своего народа от руки всех ненавидящих его, а целью общественного служения Мессии он ставит служение пред Богом в святости и правде, прощение грехов и руководительство народом по пути мира и справедливости. А какой искренней и сердечной представляется благодарность престарелого Симеона за исполнение его надежды, когда он от всей глубины сердца восклицает: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля!» (Лк. 2:29–32), Как согласно звучало с этими словами Богоприимца Симеона и похвальное слово пророчицы Анны, этой восьмидесятичетырехлетней вдовы, когда она прославляла Господа и говорила о Нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме (Лк. 2:36 и далее). И таких благочестивых, верующих, надеющихся душ, было, конечно, немало среди иудейского народа; на основании ветхозаветных пророчеств они твердо держались того убеждения, что уже должно быть близко к ним время спасения не только государственного, но и душевного, а что Ожидаемый ими должен явиться среди Своего народа как Искупитель, как Спаситель, как Свет мира и Слава людей Своих – Израиля! Знатные, каким был, например, «благообразный» советник Иосиф Аримафейский (Мк. 15:43), ожидали приближающегося Царствия Божия так же, как и представители простого народа – позднейшие ученики Иисуса Христа. И если от имени апостолов Петр торжественно исповедует своего Учителя: «Ты – Христос, Сын Бога живого!» (Мф. 16:13 и далее; ср. Мк. 8:27 и далее; Лк. 9:18), то этим высказывается лишь общая уверенность учеников, что уже исполнилось в лице их Учителя то, чего они давным-давно ожидали (Ср. Мф. 14:33). Подобным образом Марфа (Ин. 11:27) и Нафанаил (Ин. 1:49) также исповедуют Господа как Христа, как Сына Божия, Царя Израилева. Даже когда искуситель в пустыне и изгоняемые демоны (Мф. 4:3, б; Мк. 3:11 и др.) говорят об Иисусе Христе как о Сыне Божием, то этим они доказывают также только ту мысль, что таковым в то время ожидали Мессию многие из иудеев; они пользуются в этом случае лишь выражением, которое было тогда в народном употреблении. Из торжественного допроса первосвященника Каиафы: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63) – мы также должны заключать, что тогдашние иудеи ожидали обетованного Мессию и как царя Израилева, и как Сына Божия. Но не указывают ли на такого рода ожидания далее и насмешки у креста: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:40). Правда, некоторые из иудеев однажды (Ин. 7:27) утверждали: «Когда Христос придет, никто не будет знать, откуда Он»; но на это предположение, очевидно, должно смотреть только как на темное предчувствие в иудейском народе о таинственном, сверхъестественном происхождении ожидаемого Мессии, Его Божественном достоинстве; так как в других случаях иудеи знали даже из Священного Писания (Мих. 5:2), что месторождением Его должен быть иудейский город – Вифлеем (ср. Ин. 7:42; Мф. 2:4 и далее). Далее, если некоторые из иудеев, удивляясь чудесным действиям, совершенным Иисусом Христом, замечали, что Мессия, когда придет, не сотворит больше знамений, чем сотворил Он (Ин. 7:31), то это указывает нам на то, что в лице обетованного Мессии иудеи ожидали и необычайного чудотворца. Вместе с тем Ему усвояли также и дар предвидения, или пророчества, которым бы Он мог доказать иудеям Свое мессианское достоинство (Ин. 6:14; Мф. 21:11). Наше предположение, что дар пророчества и проповедничества иудеи действительно приписывали ожидаемому Мессии, подтверждается не только указаниями евангельских повествований, но и тем обстоятельством, что являвшиеся впоследствии среди иудеев ложные мессии прямо называли себя пророками и таковыми признавал их народ. Как пророка ожидали обетованного Мессию даже и самаряне. Но так как они основывали свои религиозные верования только на одном законе Моисеевом (тора), то и в своих мессианских надеждах и ожиданиях они не шли дальше указаний, заключающихся в писаниях Моисея. Вот почему и во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа они утешали себя лишь пророчеством о Мессии, возвещенным чрез Моисея (Втор. 18:15, 18): «Пророка из среды тебя (Израиля), из братьев твоих, как меня (Моисея), воздвигнет тебе Господь, Бог твой... Я (Иегова) воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты (Моисей), и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что Я повелю ему». На основании этого пророчества самаряне под обетованным Мессией и представляли себе преимущественно святого Учителя, Пророка, который научит их всему, как это ясно вытекает и из речи самарянской женщины у колодца Иакова (Ин. 4:25 и далее; ст. 29, ст. 42). Наконец, наши канонические Евангелия (например Мф. 20:28; Ин. 1:29; 3:14) и апостол Павел (1 Кор. 15:3; ср. Ис. 53:4, 5; Рим. 5:6 и далее; Гал. 1:4), в особенности в Послании к Евреям (7:27; 9:12) указывают нам и на первосвященническое служение ожидаемого иудеями Мессии.
После всего приведенного нами доселе мы уже не должны более сомневаться в том, что ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа среди иудейского народа не было ничего столь сильного и могучего, как желание скорейшего исполнения мессианских пророчеств, изложенных в священных книгах и вновь оживленных названными выше писаниями апокрифическими. Мессианские надежды и ожидания заняли первое место в сердце каждого иудея; повсюду они достигали высшей степени своей напряженности и ясно свидетельствовали о своем существовании. Пусть для многих ожидаемый был только спасителем от внешнего гнета и бедствий, освободителем народа от чуждого владычества и могущественным царем, который должен был возвратить Палестине ее земное счастие и благополучие; но рядом с этим, несомненно, существовал также и образ высшего, духовного Мессии, образ того Божественного Посланника, Который приготовит спасение душе, мир совести, неизреченное блаженство всем жаждавшим Его пришествия.
Тем не менее, несмотря на все это, надежды многих не осуществились в действительности. Высшим всякого ожидания явилось Лицо Того, Который исполнил на Себе все обетования Ветхого Завета; выше всего мыслимого было служение Того, при появлении Которого в мир человеческий раздалась ангельская песнь: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Иисус Христос есть поистине сошедший с небес Спаситель, Которым устроено было спасение и блаженство не только для Израиля, но и для всего мира! Он скорбел об Иерусалиме: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под свои крылья, и вы не захотели! Се оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:37, 38). Но благодарение Богу! Свет Христов не ограничился лишь пределами Палестины; он блестит и далее Израиля, озаряя все части мира, изгоняя тьму и освещая людям путь к вечной жизни до этого часа.
ГЛАВА VIII.
Иудейство в рассеянии
Коренная и главная страна иудейства – это Палестина с ее главным и священным городом – Иерусалимом. Но мы сделали бы большую ошибку, если бы ограничили древнее иудейство одной этой страной, т. е. если бы подумали, что иудеи не проживали также и в других странах, помимо Палестины. На основании самых несомненных исторических памятников, каковы: евангельские повествования и другие апостольские писания, сочинения иудейских писателей – Филона и Иосифа Флавия, необходимо признать два центра, вокруг которых ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа группировалось все древнее иудейство. Одним из этих центров была, как мы видели, Палестина, и, главным образом, Иерусалим; другой центр тяжести тогдашнего иудейства находился в так называемой диаспоре, или рассеянии, т. е. в массе еще гораздо больших (в сравнении с палестинскими) частей иудейского народа, которые свое постоянное местожительство имели, однако же, вне пределов Палестины (Ин. 7:35; ср. Иак. 1:1; 1 Пет. 1:1). Из плена вавилонского, как известно, не все иудеи возвратились в свое отечество; только колена Иуды и Вениамина оставили страну своих завоевателей и снова переселились на жительство в Палестину, свою «обетованную землю», между тем как все другие колена предпочли остаться большей частью по ту сторону Евфрата. Кроме того, со времен плена евреи большими массами разошлись по всем странам известного тогда мира – на запад, юг и север от Палестины, так что они распространились по всем почти частям образовавшейся впоследствии мировой Римской империи. Поэтому Иосиф Флавий[104] говорит совершенно справедливо, что нелегко было бы найти такое место, в котором бы не было иудейского народонаселения. И Филон пишет[105]: «Иудейский народ не ограничен пределами одной страны, как все другие народы, но обитает почти по всему миру, он расселился по всем материкам и островам». В книге Деяний апостольских (2:5, 9 и др.) также находится довольно красноречивое подтверждение этого факта, исключительного и характерного в истории иудейского народа.
В Ассирии, Мидии, Вавилоне и Месопотамии иудеи жили десятками тысяч. В низменностях Евфрата они занимались земледелием и скотоводством, а обитавшие при главных торговых дорогах и пользовавшиеся удобными путями сообщения – торговлей и промышленностью. Центральными пунктами для иудеев рассеяния в этих местностях считались Низибия и Неарда, где находились богатые казнохранилища для собирания в пользу Иерусалимского храма даров, которые ежегодно были отсылаемы в Иудею под прикрытием нескольких тысяч вооруженных людей[106] «для обороны от парфян». Город Неарда, по описанию Флавия, был город весьма многолюдный, находившийся в плодоносной и обширной области, изобиловавшей всеми богатствами естественных произведений, а главное – совершенно безопасный и недоступный для нападения беспокойных парфян, – со всех сторон он был обнесен стенами и окружен Евфратом, вследствие чего вавилонские иудеи и избрали его центральным пунктом для хранения денег, собираемых в пользу Иерусалимского храма. В теперешнем Курдистане, а тогдашнем царстве Адиавинском, на севере и востоке от реки Тигра, также жили весьма многие из иудеев и даже пользовались значительным влиянием среди местного населения, так что некоторые из обитавших здесь язычников с большим уважением относились к иудейской религии и иногда обращались в иудейских прозелитов; по свидетельству Иосифа Флавия[107], около времени рождения Господа нашего Иисуса Христа сам царь этой страны Изат и его мать Елена приняли закон Моисеев во всей его полноте и с выполнением всех его требований. По эту сторону Евфрата мы находим иудейских поселенцев прежде всего в Пальмире. В Иемении и Саве в Счастливой Аравии их колонии процветали еще во втором веке до Р. X. И очень может быть, что апостол Павел здесь нашел для себя подготовленную почву, когда после своего обращения у Дамаска он в продолжение трех лет трудился в пользу Евангелия Христова именно между аравийскими иудеями. Кроме того, все города в Азии, завоеванные Александром Македонским и его полководцами, были населены иудейскими колонистами, причем от расположенного к ним царя они вместе с греками и македонянами получили там права гражданства, и в каждый седьмой год, год субботний, иудеи одни только пользовались свободой от податей. Если раньше бесчисленное множество иудеев было выселено в чужие страны по принуждению, то впоследствии многие добровольно предпочитали избирать для своего постоянного местожительства земли вне Палестины, как по указанным причинам, так и потому, что там они скорее и удобнее приобретали различные выгоды, чем в Палестине, где подати были значительнее, а жизнь гораздо стесненнее. Тем не менее восточные иудейские колонии всегда находились в самой тесной связи с иудейством палестинским. На Иерусалим и его храм иудеи, проживавшие в различных странах Востока, продолжали смотреть всегда как на центральный пункт их национальности и их религии, откуда они получали древнеотеческие предания, различные установления относительно праздничных дней, календарь и т.п. и куда они ежегодно, отправлялись сотнями тысяч, чтобы помолиться Иегове в святом месте и принести Ему жертву. Эти же постоянные и оживленные отношения между евфратскими иудеями и Иерусалимом проложили также и тот путь, которым впоследствии Евангелие в самое короткое время могло достигнуть отдаленнейших стран Евфрата.
Другие чужестранные иудеи также не прерывали своей связи с Иерусалимом и многие из них также впоследствии обратились в вестников христианства по странам своего местожительства. В Сирию иудеи переселились еще при Селевкидах (именно при Селевке Никаторе), а Иосиф Флавий повествует, что там по преимуществу и жили иудеи рассеяния. В большом количестве их можно было встретить по всем городам и селениям; в Дамаске, например, их считали тысячами; они имели там многие синагоги (Деян. 9:2) и привлекали к своей религии и богослужениям многих язычников, в особенности языческих женщин. В царствование Нерона во время одного только возмущения жителями Дамаска было умерщвлено десять тысяч местных иудеев. Ввиду такого громадного количества иудеев, населявших Дамаск, становится понятным, почему там скоро нашло для себя доступ также и христианство, как это видно из истории жизни апостола Павла (Деян. 9:1 и далее; 22:5 и далее; 26:12, 20; Гал. 1:17; 2 Кор. 11:32). Очень много сирийских иудеев ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа проживало даже в самом главном сирийском городе – Приморской, или Великой, Антиохии, центральном пункте эллинского образования на Востоке. Они пользовались там большой свободой и различными привилегиями; многие из них имели даже права римского гражданства, и вместе с тем антиохийские иудеи составляли отдельное, как бы самостоятельное общество, во главе которого стоял их собственный архонт. Их главная синагога отличалась необычайным богатством и великолепием, и благодаря ей многие язычники были обращены в иудейство; таким обращенным из язычества в иудейство был, между прочим, и известный впоследствии диакон Николай (Деян. 6:5). А чрез иудейство была открыта дверь вместе с тем и для христианства к антиохийским язычникам. И, действительно, в Антиохии уже весьма рано мы находим процветающую и довольно многочисленную христианскую общину, которая еще более увеличилась особенно в то время, когда после убиения архидиакона Стефана, избегая гонений и преследований со стороны палестинских иудеев, туда отправились многие иерусалимские христиане (Деян. 11:19 и далее). Это та именно Антиохия, где последователи Иисуса Христа прежде всего стали называться именем «христиан» (Деян. 11:26; ср. 1 Пет. 4:16), где действовал некогда апостол Варнава и откуда вместе с Павлом он предпринял первое апостольское путешествие (Деян. 13:1–2), где были обращены в христианство многие греки (Деян. 11:19 и далее) и где впервые был отрицательно решен вопрос о том, должны ли были лица неиудейского происхождения прежде вступления в христианство принимать иудейское обрезание (Деян. 15).
В городах Малой Азии иудеи также проживали большими массами и имели значительное влияние на туземных язычников. Еще Антиох Великий (223–187 г.г.) с дарованием некоторых прав и преимуществ переселил многие тысячи иудейских семейств из Месопотамии и Вавилона во Фригию и Лидию, откуда они уже сами мало-помалу расселились и по всем другим малоазийским областям, так что, куда бы апостол Павел ни приходил во время своих апостольских путешествий по Малой Азии, он везде находил иудеев и иудейские синагоги (Деян. 13 и далее). Из Малой Азии иудейство не замедлило проложить себе путь и в европейскую Грецию с той, разумеется, целью, чтобы заниматься там торговлей; но вскоре иудеи повсюду учредили здесь свои школы, или синагоги, и начали деятельно вести пропаганду своего мировоззрения; вследствие этого и апостол Павел имел возможность являться с проповедью о Христе в иудейские школы также и во всех главных греческих городах, как, например, в Филиппах, Фессалониках, Верее, Афинах и Коринфе (Деян. 17 и 18). В большом количестве населены были иудеями также и острова, находящиеся между Азией и Европой, каковы, например, Евбея, Кипр, Крит и другие. Торговля, которой иудеи всегда занимались с особенной любовью, повлекла их, наконец, еще далее на запад: в Италию, в особенности же в Рим (Деян. 28:16–17), и далее в Испанию, где они надеялись найти для себя подходящие занятия и большие выгоды. В Рим многие иудеи прибыли первоначально, как мы знаем уже, в виде пленников Помпея; впоследствии они были отпущены на свободу, и жили как римские граждане преимущественно по ту сторону Тибра (ср. Деян. 6:9). В царствование императора Августа их было повсюду уже весьма много; по крайней мере, к иудейской депутации, во главе которой прибыл в Рим Филон, присоединилась толпа в восемь тысяч римских иудеев. В царствование императора Тиберия римляне пытались было совершенно изгнать иудеев из своей столицы (в 19 г. по Р. X.); но уже около 40 г. по Р. X. их там снова было очень много, и хотя Клавдий опять «приказал всем иудеям удалиться из Рима», но, несмотря на это, апостол Павел (Деян. 28:17) все-таки нашел в этой мировой столице еще весьма многочисленную иудейскую общину. В книгах Нового Завета римские иудеи известны под именем «либертинцев»; в Иерусалиме они имели свою собственную синагогу (Деян. 6:9).
В западной Африке мы знаем значительный город Кирену, который в особенности был населен многими иудеями. Уже Птолемей I Лагов отправлял туда тысячами иудейских поселенцев; а вскоре по своей численности и своему влиянию они заняли там даже выдающееся положение. Из Кирены африканские иудеи большими караванами отправлялись на праздники в Иерусалим, где, как известно, они имели даже и свои школы (Деян. 2:10; 6:9); многие из них впоследствии здесь были обращены в христианство, а потом сами они распространяли его также и в своем новом отечестве (Деян. 11:20; 13:1). Из Кирены был Симон, известный по истории страданий Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 27:32; Мк. 15:21); оттуда же был и Луций, учитель антиохийский (Деян. 13:1); а вторая книга Маккавейская выдается ее писателем только за сокращение великого исторического сочинения Иасона Киренейского (2 Мак. 2:24). В иудейских восстаниях, происходивших в царствования двух римских императоров – Траяна и Адриана, принимали участие, как мы знаем уже, также и киринейские иудеи.
На юг от Александрии иудейские поселенцы проживали в Нубии и Эфиопии. Это подтверждает и Филон, когда говорит, что в Египте иудеи жили от склона Ливийских гор до границ Эфиопии. Вероятно, это были выходцы из Аравии, с которой эта страна постоянно находилась в самых оживленных торговых отношениях. Евнух царицы Кандакии был из Эфиопии и, несомненно, принадлежал к числу иудейских прозелитов (Деян. 8:27), а это также доказывает нам, что в Эфиопии в то время уже проживали не только иудеи, но и иудейские единоверцы, из туземных язычников перешедшие к закону Моисееву.
Важнейшим и известнейшим нам местом всего иудейского рассеяния в Египте, центральным пунктом для всех египетских иудеев была, бесспорно, Александрия. Основанный великим македонским завоевателем (в 332 г. до Р. X.) и управляемый после его смерти Птолемеями, город этот в течение нескольких столетий пользовался всемирною известностию и вполне заслуженною славою. Кроме Птолемеев, славе Александрии много способствовало и самое население города. В то время как в Нильской долине проживало древнеегипетское народонаселение, верное своей религии и нравам, северные города, и в особенности Александрия, были наполнены греческими и иудейскими поселенцами, стоявшими по своему умственному развитию и цивилизации гораздо выше туземцев.
Не говоря о богатстве самого города, его прекрасных улицах, величественных зданиях и художественных произведениях всякого рода, Александрия стала славной и известной, благодаря, главным образом, своей возбужденной и оживленной духовной жизни, наукам и искусствам, которые в ней развивались довольно быстро, можно сказать, даже с необычайным успехом, и находились в цветущем состоянии еще до времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Как известно, уже Птолемей I основал в Александрии знаменитый музеум, который заключал в себе не менее знаменитую Александрийскую библиотеку вместе со всеми ее многочисленными письменными произведениями, равно как и помещения для ученых, художников и поэтов; а эти труженики и шли сюда из всех стран света именно с тою целью, чтобы поселиться здесь, на месте мировой науки и литературы, этом сборном пункте всех духовных сокровищ Греции и Востока. Затем к этой духовной жизни, к этой умственной неустанной деятельности в Александрии присоединилось еще процветание торговли и промышленности, которые, благодаря свойственной иудеям пронырливости и подвижности, там особенно громко заявляли о своем существовании. Из Александрии же оживленные и непрерывные торговые отношения иудеями были распространены почти повсюду: по Аравии и Индии, среди народов, обитавших на юге и западе обширной Африки, по островам Средиземного моря, Сирии и Малой Азии, Италии, Греции и даже Испании.
После сказанного ясно, каким образом Египет, и Александрия в особенности, легко могли стать главною и центральною колониею африканского иудейства. Если уже издавна иудеи имели возможность занимать в Египте места для своего жительства, то в особенности это стало для них легким и удобным со времен завоеваний Александра Македонского, который, как известно, многих из иудеев сам поселил в новом египетском главном городе и даже предоставил им гражданские права одинаковые с правами эллинских колонистов. Затем, когда после смерти Александра Македонского над Палестиной разразились бури опустошительных войн, в Египет снова наплыли целые тысячи палестинских иудеев, а во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа в одной только так называемой Дельте иудеев насчитывали целый миллион. Из пяти кварталов города Александрии два были населены исключительно одними только иудеями; но, помимо этого, их можно было находить в довольно значительном количестве также и во всех остальных частях города.
Положение александрийских иудеев было в высшей степени удобно и благоприятно. Они умели извлекать большую для себя выгоду из торговли и маклерства; но этого мало; не ограничивая своей деятельности одной торговлей, они в тоже время прилежно занимались здесь еще различными ремеслами, искусствами, науками и даже земледелием. Сами по себе, отдельно от туземцев, они составляли в Александрии совершенно особую, замкнутую общину с этнархом (народоначальником) во главе, в помощь которому впоследствии была учреждена еще герусия, или совет старейшин иудейских. Их учреждения и обычаи были неприкосновенны и всегда оставались древне-национальными; они беспрепятственно служили и молились своему единому Иегове в своих многочисленных школах, или синагогах, из которых главная отличалась громадностью и необычайным великолепием, превосходя в этом отношении даже главную синагогу Иерусалимскую; в Гелиопольской области, именно в Леонтополисе, они владели даже и своим собственным храмом. Около 160 года до Р. X. первосвященнический сын Ония, не могши сделаться первосвященником при храме Иерусалимском, как уже сказано было нами в своем месте, из Палестины бежал в Александрию и здесь был принят весьма радушно Птолемеем VI Филометором (180–146 г. до Р. X.). Между прочим царь предоставил в его полное распоряжение почти уже развалившийся храм в Леонтополисе, и Ония перестроил его по образцу храма Иерусалимского, сделав его только несколько меньше и проще. При этом храме всегда находилось и определенное число иудейских священников; богослужение и жертвы были совершаемы в нем от 160 года до Р. X. по 72 год после Р. X. Палестинские иудеи во время великих смут и безурядицы, происходивших тогда в их отечестве, волей-неволей должны были допустить устройство этого нового храма в Египте, хотя и с некоторыми, впрочем, ограничениями (ср. Ис. 19:19); между прочим, во избежание религиозного раздвоения от александрийских иудеев они потребовали признания Иерусалимского храма главным религиозным центром всего иудейства. Условие это было, конечно, необременительно. Сами египетские иудеи, как ни охотно путешествовали они к храму Онии и как ни отрадно было им приносить в нем свои жертвы, все-таки видели в нем лишь побочное солнце, только отобраз первообраза, и потому всегда обнаруживали большую ревность в оказывании главному храму своего народа принадлежащих ему почестей. С палестинскими иудеями они по-прежнему сознавали себя единым, нераздельным народом, и хотя находились в рассеянии, жили вдали от священной почвы Палестины, связаны были своеобразными условиями новой жизни и интересами, чуждыми для иудеев палестинских, – их гордостью было все-таки строгое охранение своей национальности повсюду и во всех отношениях. А что мы знаем об александрийских иудеях, то повторялось и повсюду, где только ни проживали иудеи рассеяния.
Что же так тесно, так крепко соединяло как иудеев, живших в Александрии, так и во всем рассеянии в один народ с их палестинскими единоплеменниками?
Прежде всего, то была сила идеального начала в иудейском народном духе, которая держала иудейство вдали от всего остального языческого мира. Общая вера всех иудеев в единого, живого Бога, Который руководил всегда избранным народом Своим и на Которого, следовательно, иудеи всегда могли возлагать все свои надежды, возвышала сердца их над язычеством, стоявшим в религиозном отношении неизмеримо ниже иудейства, как вера в мертвых, ничтожных идолов стоит неизмеримо ниже веры в живого и единого Бога. Эта живая и возвышенная вера и охраняла иудеев рассеяния от смешения с окружавшими их язычниками. Кроме того, важное значение в жизни иудеев рассеяния имел закон, который давал иудеям возможность быть народом, развивающимся и существующим самобытно среди чуждых ему национальностей. Он управлял почти всеми движениями ежедневной жизни иудеев, указывал все возможные применения их национальных обычаев, а все проявления естественной жизни поставлял в неразрывную связь с религией и храмовым богослужением – и этим созидал крепкую стену, раз навсегда отделившую иудеев от всякого соприкосновения с нечистотою язычества, где бы и когда бы они ни жили. Что иудейский закон был точно и подробно изложен в книгах Священного Писания, это давало новую скрепляющую силу общему религиозному сознанию иудеев; благодаря этому обстоятельству иудеев не могли привлекать к себе религии языческие, которые поддерживались только темною, неопределенною традициею и уродливыми священнослужениями. Обучением и упражнениями иудеи, как мы знаем, вселяли в детей своих с самого раннего их возраста свой закон и вероучение с такой силою (2 Тим. 3:15), что этим воспитанием была достигаема иудеями твердость сознательной приверженности к Богу и религии своих отцов; вот почему иудеи только в редких случаях бывали отступниками от своей веры. Но что в семействе производило наставление родителей, то в обществе совершала синагога. По меньшей мере, каждую субботу иудеи той местности, где они проживали, собирались в свои синагоги для общественного чтения и объяснения священных книг и молитвы, или сходились, где не было особых для синагог зданий, в какое-либо определенное место, назначенное для молитвы и находившееся обыкновенно при реке или каком-нибудь источнике. А такие сходки и собрания в синагогах также оказывали сильное содействие тому, чтобы оживлять и возбуждать общее религиозное сознание иудеев; кроме того, они были вообще средоточным пунктом всякого местного иудейского общества, регуляторами общественной жизни, средством к теснейшему сближению между собою иудеев рассеяния и обособлению их от мира языческого. Наконец, скреплению и объединению иудеев рассеяния особенно много содействовало также и постоянное, выше уже указанное, отношение с Иерусалимом. К храму единого, истинного Бога ежегодно чрез избранных мужей иудеями рассеяния были посылаемы богатые дары; но в Иерусалим чужестранные иудеи часто путешествовали и по своим частным делам, как, например, к первосвященнику и верховному совету, или синедриону, в руках которых находилось право высшего духовного суда над всеми иудеями, как палестинскими, так и проживавшими в рассеянии. Из Иерусалима во весь мир, ко всем иудеям рассеяния приходили ученые иудейские книжники; а туда, напротив, с особенною охотою и удовольствием отправлялись из среды чужестранных иудеев все те, которые хотели предаться высшему и наиболее точному изучению своего закона и своей религии. Далее, из Иерусалима расходились также по иудейским колониям всего рассеяния обязательные для всех иудеев определения праздничных сроков и дней поста, истолкования различных постановлений, обрядов и требований ветхозаветного закона; с другой стороны, ходить ежегодно в святой город к великим праздникам, а из весьма отдаленных мест – посетить Иерусалим хотя бы раз в жизни каждый иудей считал своим нравственным долгом, самой существенной своей обязанностью в отношении к национальному благочестию. А не могла ли такая постоянная связь чужестранных иудеев с Палестиной, Иерусалимом и его храмом образовать твердый пункт единства и централизации как для всех иудейских общин в рассеянии, так и для александрийских в особенности?
Тем не менее, несмотря на свою твердую привязанность к своей национальности и своей богооткровенной религии, александрийские иудеи не могли все-таки совершенно воспротивиться влиянию эллинского образования. Так как они жили в центре греческой науки и греческого просвещения, где господствовал не только греческий язык, но и греческий образ мышления, дышали греческой атмосферой, – то весьма естественно и незаметно для самых александрийских иудеев ими были усвоены многие из воззрений тогдашнего эллинизма. Торговля чаще всего сталкивала их с греками; греческий язык в то время был самым распространенным и почти всеобщим средством отношения. Неудивительно поэтому, что всякого рода идеи греческих мыслителей как бы сами собой распространялись между александрийскими иудеями. Говоря о процветании иудейской литературы около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, этим самым мы приводим последнее и вместе с тем нагляднейшее доказательство только что сказанного нами. Как известно, иудейско-александрийская литература того времени развивалась уже не на еврейском, а на греческом языке, и потому чем дальше, тем больше она вступала в связь с эллинизмом и подчинялась его влиянию. Основание для нее, несомненно, положено было явившимся в Александрии греческим переводом священных книг Ветхого Завета, т. е. переводом Семидесяти. Сказание, по которому, как пишет Аристей брату своему Филократу, иерусалимский первосвященник Елеазар, по желанию египетского царя Филадельфа II (283–247 г. до Р. X.), послал в Александрию семьдесят два книжника, сделавших в семьдесят два дня образцовый перевод всех книг Ветхого Завета, не имеет для себя твердой и несомненной исторической почвы; но вероятно, что для многочисленного иудейского населения Александрии, которое имело уже свой собственный храм, во времена Филадельфа и перевод этот был только начат и приведен к концу постепенно приблизительно около 130-го года до Р. X. Впрочем, как бы то ни было, факт появления этого перевода в высшей степени важен и достоин полного внимания. Им в первый раз дана была возможность ознакомления языческого мира с религиозной силой Ветхозаветного Откровения. Греческий язык Св. Писания был понятен для всех образованных людей того времени; вследствие этого иудейская религия сделалась известной повсюду, а с ней – что для нас имеет особенную важность – находится в неразрывной связи и христианство.
Кроме того, как мы сказали выше, перевод Семидесяти положил начало всей так называемой иудейско-александрийской литературе. После того как древнееврейский язык был совершенно забыт иудеями, находившимися в рассеянии, вместо него самым употребительным языком среди иудейских обществ, а в особенности в Александрии, стал язык греческий; но последний не всегда, конечно, мог обладать точными и вполне соответственными выражениями для восточных понятий, и таким образом составился так называемый «эллинистический» способ выражения, который хотя и воспроизводил еврейские мысли в греческих словах, но самый характер изложения и построения речи оставался соответствующим духу еврейскому. Книги Нового Завета точно так же носят на себе эту особенность, как и перевод Семидесяти, а затем и вся александрийская литература, за незначительными лишь исключениями сочинений Филона и Иосифа Флавия. От своего языка иудеи, говорившие по-гречески, назывались «эллинистами», противоположность которым составляли «евреи», говорившие по-еврейски или по-арамейски (Деян. 6:1).
На этом эллинистическом языке были написаны и так называемые апокрифы Ветхого Завета, которые ясно обнаруживают свою зависимость по содержанию от библейского канона, а по языку – от александрийского перевода. Впоследствии иудейско-александрийские писатели все более и более освобождались от этой зависимости и становились на почву самостоятельную, так что мы узнаем даже о существовании между ними некоторых поэтов, например, Филона Старшего, Феодота, Езекииля, от которых до нас, впрочем, не дошло никаких произведений, и о прозаиках, излагавших историю иудейского народа, каковы, например, Димитрий, Эвполем и Артапан, а в особенности Иасон Киринейский, из трудов которого в нашем распоряжении находится в виде извлечения так называемая вторая книга Маккавеев; гораздо позднее явились третья и четвертая книги Маккавеев и так называемая книга Премудрости Соломоновой.
После того как иудейство рассеяния раз усвоило себе греческий язык, образование и литературные приемы, было неизбежным и то, что, в конце концов, оно должно было увлечься также греческой наукой и философией. Что было общим достоянием всего гречески-образованного мира, то должно было стать также и достоянием более образованных между иудейскими эллинистами. И действительно, некоторые из них понимали Гомера и Платона так же хорошо, как Моисея и Соломона. Вот чем объясняется появление на свет так называемой иудейско-александрийской религиозной философии, которая поставила своею главной задачей примирение эллинской философии с иудейским богословием. Начало свое она получила вместе с окончанием перевода Семидесяти, а своего наивысшего процветания достигла около времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, т.е. в ту именно эпоху, когда в Палестине национальная сила духа, руководившая жизнью еврейского народа, стала падать уже среди самого народа и даже была почти совершенно истощена безжизненною мудростию книжников, способною подавить и уничтожить всякую живую мысль, всякое разумное стремление, – в эпоху, когда, так сказать, совершался перелом жизни всего мира, когда лучшие люди из иудейского народа, не находя удовлетворения в настоящем, искали выхода из той невозможной атмосферы, которой они принуждены была дышать, и хватались за все, что только, по-видимому, обещало им освежить мысль, указать идеал, определить цель наилучших стремлений, руководить их деятельностью, даровать принципы для новой жизни и освободить истомленный дух от угрожавшего ему бесповоротного отчаяния. Само собой понятно, что в самой Палестине, где «вокруг закона был обнесен забор» преданиями старцев, где народная жизнь заключена была в самые тесные рамки различными мелочными постановлениями более, чем в каких бы то ни было других странах и где над всеми умами бесконтрольно господствовали суетная «мудрость» книжников, формализм фарисеев и бездушие саддукейства, – на такой почве трудно было развиться философствующей мысли, трудно было работать человеческому духу; а потому главным местом вышеупомянутой иудейско-философской деятельности бесспорно и следует назвать Александрию, где положение дела было несколько иное и где сами иудеи чувствовали себя более свободными от гнета и духовного деспотизма палестинских книжников.
Что касается, теперь, иудейско-александрийской философии, то характерную особенность ее составляет противопоставление божественного и земного, духа и материи, установление понятия о Боге, совершенно недоступном ни для какого познания, предположение о бытии посредствующих сил между Богом и миром и полное презрение к богопротивному, чувственному миру, из которого человеческая душа должна быть освобождена как из своей темницы. Форма, в которой Божественное Существо открывает себя человеческому духу, есть экстаз, вдохновение, руководившее также и писателями книг Моисея и пророков. Священными писателями книги эти были восприняты непосредственно в экстазе даже по их словесным выражениям и буквам. Всю мудрость, какая только доступна человеку, александрийцы думали найти в книгах Священного Писания, и в частности, в Пятикнижии Моисеевом. Даже эллинская мудрость, философия Платона, по их мнению, могла быть заимствована только из иудейских книг богооткровенного Писания или, по крайней мере, содержится в них издавна. Для доказательства этого положения, конечно, было недостаточно одного внешнего, буквального, или прямого, смысла слов ветхозаветных книг, и потому александрийские иудеи увидели себя вынужденными обратиться к помощи так называемого аллегорического объяснения. В таком духе они стали объяснять, прежде всего, Пятикнижие Моисея. Не внешний, но внутренний, более глубокий смысл, говорили александрийцы, есть то, в чем состоит сущность богооткровенного Писания. Писаное слово есть только форма для более возвышенного значения. Буква существует для толпы, внутренний смысл ее – для посвященных.
Уже Аристовул (около 175 г. до Р. X.) таким способом толкования старался доказать, что греческие поэты и философы были знакомы с учением Моисея и свою мудрость позаимствовали лишь из древнего перевода Пятикнижия. Тем не менее главным представителем этого направления, бесспорно, должен быть назван ученый александрийский иудей – Филон (родился около 20 г. до Р. X., умер 70 лет от роду), человек довольно знатного и богатого рода; его брат был в Александрии этнархом, да и сам он известен нам, как представитель иудейского народа, стоявший во главе посольства, отправлявшегося к Калигуле для защищения иудейских интересов. Его главные литературные труды имеют своим предметом собственно Пятикнижие Моисея, и в особенности первые одиннадцать глав книги Бытия. Содержание всех пяти книг Моисеевых Филон толкует исключительно в аллегорическом смысле; так, четыре райских источника, по его мнению, суть только четыре главные добродетели; Исав – представитель грубой чувственности; Авраам – представитель (образ) ревностно испытывающего рассудка; страна, в которой родился Авраам, есть только тело; из которого исходит испытующий ум; субботний покой есть мир чистой души; руки Бога суть Его всемогущество; стояние Бога означает существование твердого мирового порядка и т. д.
Если мы бросим хотя бы беглый взгляд на философско-богословское учение Филона, то мы увидим в нем некоторые характерные особенности, происшедшие от смешения иудейского богословия с эллинскою мудростию, именно с философиею Платона. К понятию о Боге Филон приходит лишь путем отрицания в нем всех конечностей. Бог есть просто Сущий, Иегова, Которому нельзя приписать ни одного из особенных свойств, дабы Его не ограничить, потому что Он выше всех известных нам свойств. Вместе с тем, по учению Филона, Бог, однако же, является и как лично определенное существо, по его выражению, как олицетворенная деятельность; как беспрестанно горит огонь, так беспрестанно действует Бог; Он никогда не может быть мыслим в покое. Безотносительною противоположностию Богу является мир, материя, конечное. Поэтому-то Бог, Святой, Чистый, никогда не может вступить с миром ни в какое прямое и непосредственное отношение.
Для восстановления и поддержания связи между Богом и миром Филоном вводятся в его систему какие-то еще средние существа, которые родственны частию с ангелами богооткровенной иудейской религии, частию с идеями Платона. Бог, совершенный и полный абстракт, действует в мире не иначе, как чрез этих представителей своих, своих наместников, своих вестников, своих слуг. Все вместе они составляют световой блеск, исходящий от Бога, как солнечные лучи, и снова в Него возвращающийся вместе со всем своим светом. Прежде всего, Бог сотворил духовный мир идей, так как они должны были сделаться первообразами творимых вещей; но вместе с тем они суть и силы, окружающие Бога; они являются у Филона всегда то, как неразделенные с Богом потенции, то как самостоятельные, личные существа ангелов.
Концентрациею, или совокупностию, этих сил, этих идей, Филоном признается «Слово», или «Логос». Логос, и только он один, есть истинный посредник между Богом и миром, и стоит, так сказать, на границе между конечным и бесконечным. У Филона он является отчасти личным как божественный разум, отчасти и преимущественно как само по себе существующее отображение Бога, олицетворение Его, произшедшее из лона Божества по Божественному слову и в то же время являющееся в личном и самобытном отделении от Бога как Его равнообраз, Его представитель и наместник, исполняющий Его повеления и осуществляющий Его откровения и действия. Таким образом, Логос (Слово), с одной стороны, обитает в Боге как план города, находящийся в уме архитектора, с другой стороны, он есть перстень с печатью, который чувственному миру дает его разумный отпечаток. Он не несотворен, как Бог, но он также и не произошел, как творение. Логос есть первородный сын Божий, мир – младший сын того же Бога. Он защищает мир пред Богом как первосвященник, ходатай, посредник, параклет; но с другой стороны он защищает также и неведомого Бога в отношении к миру. Он есть Мелхиседек, скала пустынная, источившая воду, манна, Мессия. Он – тот, который соберет Израиля во время спасения и введет его в страну покоя. Не будем, однако же, забывать, что тот же самый Логос, который является здесь существом личным, в других местах – дабы избежать политеизма – Филоном представляется только как коллектив высших божественных свойств.
Ангелы, демоны и души, по Филону, суть лишь различные названия для одних и тех же существ, для одних и тех же носителей высшего, духовного бытия. Число таких существ бесконечно; но не все они проявляются в бытии внешнего мира. Только известная часть их по временам сходит из воздушного пространства на землю, чтобы соединиться со смертными и тленными телами. Многие из таких воплощенных духов, проживая на земле, всецело погружаются в чувственность; но есть, впрочем, и такие, которые чувственностию не удовлетворяются и всегда стремятся к утраченной ими высшей жизни. Последние, то есть добродетельные между воплощенными духами, после смерти своей восходят к небесному жилищу, порочные же погибают вместе с разрушением своего тела.
Говоря о человеке, Филон различает двух первочеловеков: сверхчувственного, идеального человека, мужчино-женщину, бессмертного, созданного по образу Божию, и земного, чувственного, исторического человека, созданного из персти, из глыбы земли. Земной, видимый человек в начале так же, как и человек идеальный, был совершенным по телу и душе, но, как творение, он не мог устоять в своем совершенстве; впрочем, грех внесся в мир первоначально женщиной и в человеческой жизни он нашел для себя весьма удобную почву. Это понятно само собою. Так как человек состоит из тела, то есть, из вещества материального, имеющего недостатки, и из души, начала божественного, то каждый человек находится в постоянной борьбе между разумом и чувственностью; борьба эта тем более тяжела, что всякая чувственность похотлива и греховна, вследствие чего и все люди изобилуют лишь своими грехами. Окончательную победу в этой тяжелой и всеобщей борьбе может даровать человеку только одна строгая нравственность, которую Филон полагает единственно в уничтожении всех удовольствий, аффектов и чувственных побуждений. Добродетели этот человек достигает, однако же, не собственными нравственными силами или добрыми делами, а лишь благодатию Божиею, которая воспринимается верою и которая одна только делает человека благочестивым и справедливым. В своей этике Филон признает три ступени, ведущие к нравственному усовершенствованию: это – аскетизм, просвещение и богодарованная мудрость, приближающая нас к Богу. Но так как Бог непознаваем, то человек может познавать Бога, то есть может восхищаться к Богу только чудесным образом, чрез экстаз.
В мессианское время, необходимость наступления которого, по толкованию Филона, всегда может быть доказана Пятикнижием Моисея (Лев. 26; Чис. 24:7; Втор. 28; 30:11–14), все иудеи сверхъестественным образом соберутся в назначенную для них страну (Палестину) и наследуют обещанное им блаженство; земля будет плодородною, дикие звери – кроткими и безвредными; избранный народ Божий сделается благочестивым и счастливым, за что будут покорены ему все остальные народы, обитающие в мире.
Между современниками Филона, по его мнению, египетские терапевты, (если только единственный источник о них – «О жизни созерцательной» – действительно принадлежит Филону) были именно такими, какими он хотел видеть людей, потому что они воздерживались от всякого соприкосновения со всем материальным и мирским и предавались исключительно созерцанию. Самое название их, по Филону, означает «душеспасителей», а в дальнейшем смысле – чистых почитателей Бога. Главным местопребыванием терапевтов были горные возвышенности близ Александрии. Главным занятием их было мистическое погружение в божественную сущность и аскетическая жизнь. Достигнуть величайшего воздержания было их наивысшим стремлением; что же касается физического труда, то у терапевтов он ограничивался самым необходимым для поддержания жизни.
Напрасно некоторые ученые допускают возможность влияния философского воззрения Филона на христианское вероучение и говорят, будто бы апостолами были заимствованы некоторые выражения из языка александрийской философии, каковы, например, «Слово» (=Логос, Ин. 1:1), «полнота Божества» (Кол. 2:9), «образ Бога» (Кол. 1:15), «сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр. 1:3). Совпадение этих выражений могло быть даже и чисто случайным. Что же касается содержания, то апостолы в этом случае ничего даже и не могли почерпнуть у Филона. Содержание христианского вероучения совершенно иное, чем у Филона; у Филона нет и следа новозаветного понятия об искуплении и примирении, которое составляет самую основу христианского вероучения. Филоновский Логос имеет греко-философское значение, новозаветный же повсюду носит совершенно отличный и вполне самостоятельный характер. Свое учение о Логосе Филон, несомненно, позаимствовал у Платона; Филонов Логос (слово) – это Платонов «νους» (ум); но «νους» (ум) у Платона имеет еще имманентное, чисто идеальное откровение Бога самого себе, а потому между идеальным миром, миром понятий или идей, и миром явлений, т.е. действительным миром (по нашему, впрочем, представлению, а не по Платоновскому) у Платона лежит целая бездна. Это противоречие между двумя мирами Филон и хотел примирить посредством своего учения о Логосе; но для такого примирения одного Логоса Филону было недостаточно; поэтому он и признает необходимость бытия двух Логосов; первый – божественный разум («ο ανωτ?τω λ?γος»), второй – божественное слово («ο λ?γος προφοριχ?ς»). Но как в том, так и в другом случае Логос Филона имеет бытие внемирное или даже вышемирное; в сущности, он есть лишь идея, абстрактное, философское понятие, не имеющее для себя соответствующего объекта в действительном мире, одним словом, он есть то же самое, что гегелевская абсолютная идея в ее «инобытии». А такое ли учение о Слове в нашем Евангелии от Иоанна? Очевидно, нет; потому что Слово у Иоанна есть не только ипостась, имеющая личное бытие, но оно есть прямо второе Лицо Пресвятой Троицы, истинный Сын Божий Иисус Христос, в известный исторический момент пришедший на землю для спасения мира, принявший на себя истинную плоть человеческую, живший на земле как истинный человек, но без греха, претерпевший мучения, распятый, погребенный и в третий день воскресший из мертвых. Форма учения о Слове у Иоанна не научно-диалектическая, отвлеченная или абстрактная, как у Филона, но наглядная и простая, в которой учение о Слове доступно для понимания всякого. Если у Филона и можно усматривать нечто, как бы повторяющееся в христианском вероучении о втором Лице Пресвятой Троицы, то это вовсе не значит того, что в христианское вероучение было что-либо внесено из философии Филона; это значит только то, что философскому учению Платона Филон давал по местам оттенок вероучения библейского, некоторые формы языческой мудрости наполнял содержанием, почерпнутым из богооткровенной религии Ветхого Завета. Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа иудейское богословие вообще стало чаще и чаще говорить о Слове Божием, как о непосредственной творческой силе, как о безусловной причине творения и происхождения. Такое представление, очевидно, основывалось на учении ветхозаветного Откровения. Уже из первой главы книги Бытия мы видим, что каждому акту творения непосредственно предшествовало слово Божие («рече Бог: да будет»)... Пророк Давид свидетельствует, что небеса утвердились словом Господним; у Сираха премудрость наделяется такими свойствами, которые могут принадлежать только личному бытию (1:4, 7, 24), а в книге Премудрости Соломоновой (7:7, 22, 27) и Притчах (гл. 9) она является уже вполне ипостасной личностью, в которой толкователи Св. Писания совершенно справедливо усматривают ипостась Второго Лица Пресвятой Троицы. Не естественнее ли после этого предположить, что если евангелист Иоанн и заимствовал откуда-либо свое представление о Слове, то заимствовал скорее из ветхозаветного Откровения, чем из темной и неудобопонятной философии Филона? После этого понятно и совпадение некоторых словесных выражений, находящихся у Филона, с выражениями апостольских писаний... Тем не менее философия Филона оказала немаловажные услуги и делу христианской проповеди, только совершенно в другом отношении: ей именно мы положительно должны припасать привлечение лучших умов языческого мира к иудейству и его религии, к заключающейся в ней полноте Божественного Откровения и к напряженно ожидаемому иудеями Мессии и Спасителю.
Чрез Филона и александрийскую философию столько же, как и чрез самую жизнь и деятельность иудеев, проживавших в египетском главном городе, Александрия стала известной, славной и знаменитой. Кроме того, александрийское иудейство всегда оказывало свое полное уважение к закону Моисееву и содействовало ознакомлению с ним местного язычества; а так как Ветхий Завет был величайшим из средств предуготовления людей к Новому, или, по выражению апостола, «пестун о Христе», «тень грядущих благ», то деятельность александрийских иудеев была подготовительной работой и для христианской религии, как впоследствии Александрия фактически и стала одним из важнейших пунктов христианской проповеди. Но ясное солнце не могло вечно блистать над александрийским иудейством. Уже при Калигуле были начаты притеснения иудеев проживавших в Александрии, а в царствование Веспасиана, когда александрийские иудеи приняли участие в восстании против Рима, знаменитая иудейская колония была сравнена с землей: иудейские жители были умерщвлены или изгнаны, а в 72 году по Р. X. был разрушен и храм Онии.
Если, наконец, мы посмотрим на жизнь и судьбу иудеев собственно в Римской империи, то мы должны будем сказать, что первоначально римские иудеи вовсе не имели основания жаловаться на языческое правительство Рима. Правда, в то время еще существовал основной государственный закон, по которому в Риме могли быть почитаемы только римские божества; но когда империя возросла до своих исполинских размеров и право римского гражданства раздавалось почти всем подданным, из какого бы народа они ни были, поддержание религиозно-гражданского порядка старого Рима становилось все труднее и труднее, и римским иудеям скоро было дозволено свободное выполнение требований их религии, а это уже само по себе благоприятствовало и ее распространению. Но кроме свободы вероисповедания все иудеи собственно Римской империи были освобождены и от отбывания воинской повинности. Иудеи Востока, как и проживавшие в Египте, всегда старались заявить себя храбрыми воинами, легко возбуждаемыми повстанцами и самыми непокорными из всех завоеванных и подчиненных Риму наций, – что, естественно, вынуждало римлян предпринимать против них иногда весьма жестокие меры. Совершенно иначе вели себя евреи, проживавшие в Греции, Малой Азии, Сирии и Риме; по религиозным побуждениям они стремились к освобождению от военной службы, – и вполне достигли своей цели. В царствование Цезаря и даже Октавиана римское государство более интересовалось их значительными платежами в государственную казну, чем их военной службой. В других отношениях римские иудеи также пользовались некоторыми преимуществами; так, им было дозволено отправлять в Иерусалим богатые дары в пользу храма; по субботам их не могли требовать к суду; они получали свою часть из государственных раздач хлеба, и если раздачи эти приходились в субботу, то им выдавалась их часть даже на другой день.
При всем том иудеи нигде и никогда не были любимы язычниками. Правда, своим возвышенным и чисто духовным почитанием Иеговы как единого истинного Бога, преданностью своей религии и своею национальною сплоченностию, трудолюбием и другими нравственными достоинствами у лучших из язычников иудеи вызывали к себе участие, сочувствие и даже удивление; но зато сколько им приходилось переносить презрения, насмешек и издевательств! Над ними язычники часто насмехались как над самым уродливым народом; смеялись над знамением их союза с Богом, – обрезанием, смеялись над их воздержанием от свиного мяса, смеялись над их строгим до мелочности соблюдением субботы; их религия без изображений и идолов в глазах некоторых язычников казалась безбожием или варварским суеверием, а их нравы и обычаи были противны и низки для развратных римлян. За отчуждение и удаление от общественных языческих удовольствий в пиршествах или театре, за предпочтение торговли и различных спекуляций оргиям и обжорству иудеев упрекали в ненависти к людям и миру, и обзывали их самым мерзким, отвратительным, торгашеским народом.
Этим объясняется и отношение к иудейству целого ряда языческих писателей, между которыми достаточно назвать только имена Гекатея Абдерского, Манефа, Аполлония Моло из Родоса, Посидония, Цицерона и Апиона. В одной из произнесенных в сенате речей Цицерон, например, защищал некогда Флакка ссылкой на то, что он всегда был известен как враг иудеев, а Апион, упрекая современных ему иудеев за многие смешные и омерзительные вещи, о которых только приходилось ему слышать, своими колкостями сильно воспламенял ненависть и страсть к насмешкам со стороны язычников над иудеями. Нападки языческих писателей были настолько сильны и многочисленны, что против них в свою очередь вынуждены были восстать и писатели иудейские. Так, против нападок Апиона настойчиво и энергично защищал иудейство Иосиф Флавий в своем особом апологетическом сочинении («Против Апиона»); Филон также во многих из своих сочинений, защищая иудейство, выступал против самих язычников и как на преимущества иудейства указывал на дух кротости в Моисеевом законе, причем особенно выставлял на вид нравственную и истинно возвышенную сторону Пятикнижия.
То же происходило и в народной массе. Как для язычников соблазном служили иудеи, так не менее для иудеев являлись достойными полного презрения язычники за их грубое идолопоклонство, за их обоготворение своих императоров, за их суеверия и развратную жизнь, и, само собой понятно, в противоположность язычеству, иудеи всегда указывали на преимущества своей религии; мало того, более даровитые и ревностные из них являлись даже проповедниками покаяния, призывавшими язычников к обращению к истинной вере, – и, как мы знаем уже, проповедь эта была небезуспешна: язычники, отвернувшиеся от своей суетной религии, искавшие истины, нравственности, душевного покоя и наставления о судьбе по ту сторону гроба, несмотря даже на некоторые затруднения, действительно присоединялись к иудейству. Ясной стала для многих великая, мировая, историческая задача израильского народа – проповедовать веру в истинного Бога и привлекать к ней мрачное язычество; в этом отношении почти все центры иудейского рассеяния (Рим, Александрия, Антиохия, Коринф, Филиппы, Эфес и др.) были поистине миссионерскими пунктами для распространения веры в истинного Бога и монотеистических представлений, а вместе с тем служили также средством приготовления человечества к принятию учения, возвещенного Господом нашим Иисусом Христом.
Во времена Цезаря и Августа, равно как и впоследствии, благочестивые между иудеями почитали делом особенно богоугодным – присоединять язычников к своему религиозному обществу. О книжниках Сам Иисус Христос говорит, что они обходили море и сушу, чтобы обратить к иудейству хотя бы одного какого-либо язычника (Мф. 23:15); Иосиф Флавий, Гораций, Сенека и др. даже восхваляют иудеев, проживавших в Римской империи, за их ревность к обращению язычников. С особенною охотою в иудейство переходили женщины (Деян. 13:50; 17:4), хотя нельзя сказать того, чтобы иудейская религия не пользовалась расположением и мужчин, и притом занимавших даже высокие посты, каковы, например, уже известные нам евнух царицы Кандакии (Деян. 8:26 и далее) или адиавинский царь Изат, перешедший в иудейство вместе со всем своим семейством.
Такие обратившиеся в иудейство язычники назывались обыкновенно прозелитами (Мф. 23:15). По большинству они принадлежали к рассеянию; в Палестине естественно перевес был всегда на стороне чисто иудейского элемента. Не вполне соответствующим следует признать общепринятое деление иудейских прозелитов на «прозелитов врат» и «прозелитов правды», – деление, по которому первыми называются те перешедшие в иудейство язычники, которые не соблюдали всех постановлений ветхозаветного закона и не принимали, в частности, обрезания, а последними, напротив, те, которые уже вполне становились членами израильского общества и исполняли все требования «закона правды». Мы называем такое деление несоответствующим потому, что в книгах Ветхого и Нового Завета «прозелитами врат» (пришельцами, чужеземцами, по-еврейски – gerim, haschaar) называются только те «пришельцы», которые жили «в воротах Израиля», не переходя в веру Израиля (Исх. 20:10; Втор. 14:21). От них требовали главным образом исполнения только семи касавшихся их предписаний: они должны были избегать богохульства, идолопоклонства, убийства, кровосмешения, грабежа, разбоя и употребления крови в пищу (Ср. Лев. 3:17 и далее; Деян. 15:20 и др.).
Само собой понятно, что ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа предписания эти мало имели практического значения, потому что греки и римляне, проживавшие в Палестине под защитой римского правительства, редко или даже совсем не исполняли их; они не считали себя иудеями, хотя и проживали «у ворот Израиля», то есть в Палестине; а так как «прозелиты врат» не считались даже иудеями, то «почитающие Бога» («благочестивые»), о которых упоминается в книгах Нового Завета (ср. Деян. 13:43, 50; 17:4, 17; 18:7) и не могут быть признаны тожественными с ними, потому что последние, как и те, которые называются вообще «прозелитами», или «чтителями Бога, обращенными из язычников» (Мф. 23:15; Деян. 13:43), исповедовали «веру Израиля» во всем согласно с иудеями.
К мужчинам, желавшим вступить в израильское общество, предъявлялось прежде всего три требования: обрезание, крещение и принесение жертвы. Женщины, естественно, должны были выполнить только два последние требования. Что нужно разуметь под обрезанием и жертвой, – понятно само по себе; под крещением же следует разуметь здесь совершенное погружение крещаемого в воду, которое имело своею целию символически очистить обращающегося от признаваемого нечистым язычества. Если во времена земной жизни Иисуса Христа самый ревностный к закону иудей, по существовавшим предписаниям, должен был часто совершать очистительные омовения, то понятно, что для природного язычника являлось крайне необходимым подвергнуться очистительному омовению при переходе в иудейство.
Что же касается обращенных уже язычников, или прозелитов правды, как они назывались, то в принципе иудеи требовали от них полного и неограниченного исполнения Моисеевого закона; каждый принятый в иудейское общество, по толкованию раввинов[108], обязывался к исполнению всего закона. На практике, впрочем, бывало иначе, – да и едва ли можно признать, чтобы в иудейском рассеянии была преследуема полная строгость фарисейской законности; на самом деле, обращенные в иудейство язычники придерживались твердо только главнейших пунктов иудейской религии, и иудеи вполне довольствовались тем, что находили возможным соблюдать обращенные ими язычники. «Ты можешь, – говорил иудейский раввин адиавинскому царю Изату, опасавшемуся принять обрезание, чтобы не возбудить против себя своих языческих подданных, – и без обрезания почитать Бога, если только ты искренне вознамерился следовать иудейскому закону, который, главным образом, и состоит в воздаваемом Богу почтении, чем в обрезании тела»[109]. Кажется, на такое отношение прозелитов к иудейскому закону указывает также и Иосиф, когда говорит, что «почти по всем местам и между всеми народами распространено иудейское богопочитание и соблюдаются посты, субботы, возжигание светильников и многие законы о пище». Вероятнее всего, что между сотнями тысяч прозелитов не все исполняли каждый незначительный пункт мелочных требований, которые были предъявляемы иудейскими книжниками, но одни соблюдали иудейские предписания строже, другие слабее.
Очень может быть, что некоторых из язычников привлекала к иудейству выгода жить среди тихих и зажиточных иудеев или свобода от военной службы; других простое любопытство и стремление к переменам старого на что-либо новое. Но большинством руководило, несомненно, сознательное убеждение в неудовлетворительности языческого идолослужения и превосходство пред ним иудейства, стремление к успокоению своей души, ищущей истинного Бога, и к твердому нравственному устою для своей жизни в лоне еврейской религии. Они были уверены, что в иудействе найдут другое, более верное средство религиозного удовлетворения, найдут живую веру в единого, всем миром управляющего Бога, веру лучшую, чем языческая, состоявшая только в почитании самосозданных идолов (Рим. 1:23); они надеялись, что с переходом в иудейство и духом, и сердцем возвысятся над ежедневностью и пошлостью греховной жизни, – отыщут в нем богооткровенные наставления относительно истинной нравственности, которых недоставало язычеству; они были убеждены, что в иудействе всегда и при самых тяжелых обстоятельствах получат утешение, коренящееся в несомненной надежде на всемогущую помощь Божию.
Но та же самая сила, которая вела таким путем прозелитов к иудейству, направляла языческий мир впоследствии также и к христианству. Исполнение времен было близко; спасения искали уже только на почве религии, а не в римской государственной силе и не в греческой мудрости. И иудейство в рассеянии сделало свое дело, направив взоры всех на Восток, откуда действительно и пришел Тот, Который был исполнением закона и времен (Мф. 5:17; Гал. 4:4).
[1] Hist, natur. 11:240.
[2] Москатель – краски, клей, непищевое масло и другие химические вещества как предмет торговли. – Прим. ред.
[3] Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. 8, 23, 4.
[4] Serm. I, 17.
[5] Epist. 31,41.
[6] De ira (О гневе).
[7] De ira.
[8] De ira.
[9] Жизнь двенадцати цезарей. 8, 4, 5.
[10] Hist. 5, 13.
[11] Буколики. Эклога 4.
[12] Sat. 13, 28.
[13] Od. III, 6, 46.
[14] De ira. II, 6.
[15] Hist., praef.
[16] Sat. 6:228.
[17] Hist, natur. 17, 245.
[18] Carm. 3, 6, 17.
[19] Germ. с. XIX.
[20] De benef. I, 9, 3.
[21] Ср. Тас. Annal. 2, 85.
[22] Apol. 15.
[23] De benef. 7:10.
[24] Trin. 1, 2, 58 и др.
[25] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 3, 3, 2. Tacitus. Hist. 5, 6. Ср. Мф. 13:23.
[26] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 2, 9, 3.
[27] Жизнь Иисуса Христа. СПб, 1885. стр. 421.
[28] Ср. Winer, Biblisches Realworterbuch, Richthaus. Этого же мнения в числе других придерживается и Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. СПб, 1885. стр. 421.
[29] стр. 81-82.
[30] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 3, 3, 2.
[31] Ср. А. В. Горский. История евангельская и Церкви Апостольской.
[32] Ср. Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. СПб. 1885, стр. 83.
[33] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 3, 3, 2.
[34] А. В. Горский. История евангельская и Церкви Апостольской. М., 1883, стр. 124-125.
[35] Слово «Маккавей», Makkabi, значит «молот» и было почетным именем Иуды; от него и все поколение его называлось «Маккавеями». Менее вероятно предположение, будто бы Маккавеи назывались так по надписи на их знамени: «Mi Kamoka Baelim Iehovah», «Кто как Ты между богами, Иегова?».
[36] Иосиф. О войне иудейской. 2, 8, 1.
[37] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 3, 1.
[38] Ср. Лк. 6:15; Деян. 1:13.
[39] Иосиф. О войне иудейской. 4, 3, 9-10. Ср. Филона Legatio ad Caium.
[40] Филон. Legatio ad Caium.
[41] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 2, 2 и далее.
[42] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 2, 2.
[43] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 4, 1. Это было, несомненно, проявлением напряженнейшего мессианского ожидания. Ср. Ewald. Gesch. Isr. v. 171.
[44] Иначе называвшегося ещё Филиппом и родившегося от другой матери, которая была дочерью первосвященника Симона. Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 5, 1.
[45] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 14, 13, 1; 14, 16, 2.
[46] Ср. 2 Кор. 11:32.
[47] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 19, 8, 2.
[48] По словам Флавия, в Иерусалиме бывало во время праздников до трех миллионов семисот тысяч человек одного мужского пола.
[49] Ср. А.Н. Бахметова. Рассказы из истории христианской Церкви. Ч. 1. М. 1884. Стр. 136; Рудаков. История Христианской Православной Церкви. 1871, стр. 24. Иосиф Флавий. О войне иудейской. СПб. 1786. Стр. 177.
[50] Бахметова, стр. 137–138; Рудаков, стр. 24. Иосиф Флавий. О войне иудейской, 6, 3, 4–5.
[51] В течении этой злосчастной войны иудеев было побито до 1 миллиона ста тысяч и взято в плен 97 тысяч; в самом почти начале осады выброшено было из Иерусалима через одни ворота 115 тысяч трупов.
[52] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 4, 8, 14.
[53] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 15, 10, 3; 14, 9, 4.
[54] Ср. Мф. 26:3; Мк. 14:53; 15:1; Лк. 22:66; Деян. 4:5 и др.
[55] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 3 и др.
[56] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 4.
[57] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 20, 10; 4, 8, 14.
[58] Schurer. Lehrbuch der N. Т. Zeitgeschichte, s. 418 и далее. Ср. нашу книгу: «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». СПб. 1887. Стр. 701.
[59] Подробнее об иудейском уголовном судопроизводстве можно читать нашей книге «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа», 1887, Стр. 699-704.
[60] «Эпомид видом подобен был нагруднику, который надевают... Главу первосвященника покрывала шапка, сделанная из виссона, украшенная иоанинфовым шелком; вокруг был иной златой венец, на котором начертаны были священные буквы. Это были четыре гласные». Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 7.
[61] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 20, 10.
[62] Ср. Мф. 7:12; 11:13; Лк. 16:16.
[63] Cont. Ар. I, 8. Euseb. Hist. Eccl. 6:25.
[64] Ср. Winer. Biblisches Realworterbuch, art. Rabbi: «Major est Rabbi, quam Rab, et major est Rabban, quam Rabbi».
[65] Ср. Delitzsch. Handwerkerleben zur Zeit Jesu, s. 69 и далее.
[66] Жизнь Иисуса Христа. СПб. 1885. Стр. 596.
[67] Epist. 4.
[68] Ср. Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 7.
[69] Ср. Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 2.
[70] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 6.
[71] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 4
[72] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 5, 5, 6.
[73] Ср. Фаррар. Жизнь Иисуса Христа. СПб. 1885. стр. 414.
[74] Contra Apion. 1, 8.
[75] Legatio ad Caium.
[76] Подробнее о постановке дела религиозно-нравственного воспитания у иудеев можно читать в нашей книге «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». СПб, 1886. Изд. 2-е, стр. 318-325.
[77] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 5, 9; 13,10, 4; 18, 1,3.
[78] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 2, 8, 14; Иудейские древности. 17, 2, 4.
[79] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 4.
[80] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 3; 13, 5, 9.
[81] Иосиф Флавий. О войне иудейской. 2, 8, 14.
[82] Там же.
[83] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 17, 2, 4.
[84] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1,4.
[85] Ср. Winner. Biblisches Realworterbuch, Zadok.
[86] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1, 4. Ср. Деян. 5:17.
[87] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 10,6.
[88] Schneckenburger. Vorlesungen iiber N. Т. Zeitgeschichte, s. 144.
[89] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 10, 6.
[90] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 10, 6.
[91] Так у Иосифа. Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 5, 9; 18, 1, 5.
[92] Так у Филона. Quod omnis probus liber sit.
[93] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 5, 9.
[94] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 13, 11,2.
[95] Филон. О жизни созерцательной.
[96] Ср. Zeller. Theol. Jahrbucher 1856; Schurer. Lechbuch der N. T. Zeitgeschichte и нашу книгу «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». СПб, 1886. стр. 326-332.
[97] Ср. Bucius. Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askese. 1879. Cp. Theologische Litteraturzeitung. 1880 № 3.
[98] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18, 1,5.
[99] Geschichte Jesu von Nazara, s. 83.
[100] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 10, 10-11.
[101] Schurer. Lehrbuch der N. Т. Zeitgeschichte, s. 479.
[102] Иосиф Флавий. О войне иудейской, б, 5, 4.
[103] Иосиф Флавий. О войне иудейской, б, 5, 4.
[104] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 14, 7, 2.
[105] Legatio ad Caium.
[106] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 18,9, 1.
[107] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 20, 2, 1; ср. Его же. О войне иудейской. 5, 4, 2.
[108] Иосиф Флавий. Древности иудейские. 20, 2, 5.
[109] Там же.
Назад к списку